Философия как лекарство от уныния, тревоги и чувства внутренней пустоты
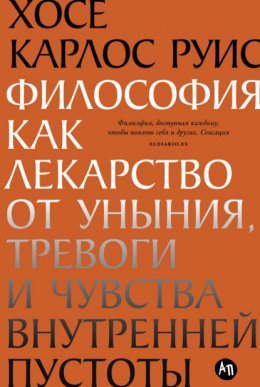
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Марина Николаева
Редактор: Анастасия Шахназарова
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Анна Василенко
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Корректоры: Марина Угальская, Анна Кондратова
Верстка: Кирилл Свищёв
В книге упоминаются социальные сети Instagram и/или Facebook – продукты компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская.
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© José Carlos Ruiz, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
Эту книгу я посвящаю Антонио и Беатрис, с которыми меня роднит не только биография, но и общие привычки
Идентичность
Берегите традиции
Эмоциональная булимия
Странное и гнетущее ощущение неполноценности отличает современную нам реальность. Мы воспринимаем жизнь как нечто несовершенное, нас не покидает навязчивая мысль о том, что нам постоянно чего-то не хватает, и речь вовсе не о материальных благах. В отчаянных попытках чем-то заполнить свои будни мы испытываем тревогу, которая со временем только нарастает. Система об этом прекрасно знает и побуждает нас не сбавлять темп.
Тем временем пособия по самопомощи, опираясь на философию, без конца повторяют мантру, ставшую краеугольным камнем нашей цивилизации: познай самого себя. К чему это нас привело? Уже более 2500 лет мы твердо убеждены, что ключ к решению любой проблемы кроется в этой фразе, то есть в самопознании, понимании себя, иными словами – в поиске идентичности. Тем не менее в XXI в. это утверждение видится самым жестоким, подлым и манипулятивным из тех, что предлагала философия за всю историю своего существования. Давление, которое она оказывает на современного человека, невыносимо.
Мы едва знаем самих себя, у нас низкий уровень самоконтроля, и наша воля слабеет день ото дня. Более того, мы исповедуем то, что Ричард Сеннет называет «порицанием безличности»[1], то есть просто одержимы желанием выделиться, продемонстрировать свою уникальную, ни на кого не похожую личность. Философ Жиль Липовецкий[2] характеризует современность как «господство индивидуальности», где «я» испытывает непреодолимое желание раскрыть свою уникальность. Просто познать самого себя недостаточно – необходимо это показать, выставить на всеобщее обозрение свой внутренний мир, поведать о достижениях, желаниях, открыто заявить о чувствах, озвучить мнение, продемонстрировать плоды творчества, опубликовать фотографии, поделиться мыслями… Цель этого – избежать безличности, которая воспринимается как недостаток, как нечто однозначно плохое.
Проблема возникает, когда человек, представляющий собой сумму темперамента (врожденное) и характера (приобретенное), вынужденно создает себе образ успешной жизни, который порой весьма далек от действительности. Отныне все его усилия и внимание направлены на то, чтобы слиться с этим образом, что не только противоестественно, но и в итоге приводит к печальному результату.
Последствия могут быть разными, и одно из них – падение публичного человека. «Тирания индивидуальности» приводит к тому, что мы перестаем обращать внимание на окружающих и, соответственно, воспринимать внешний мир как место взаимодействия с другими людьми. Если вся наша энергия сосредоточена на личном, общественное теряет значимость. Было время, когда эти сферы существовали параллельно, хоть и были отделены друг от друга. Так, мыслитель Георг Зиммель[3] писал, что «тайна интимности» представляет собой социальную ценность, которую необходимо сохранить.
Но то время прошло. Сейчас нами управляет «идеология индивидуальности», которая проявляется в форме эмоциональной булимии: мы накапливаем переживания, чтобы затем извергнуть их ipso facto в социальные сети, не дав организму усвоить питательные вещества.
Все мы, будто спринтеры, участвуем в бесконечной серии забегов на короткие дистанции, пытаясь приблизиться к архетипу успешного человека, который получает энергию от эмоционального эксгибиционизма. Подобно культуристам, мы накачиваем эго коктейлями из эндорфинов, захламляя виртуальное пространство своими публикациями. Но порой наедине с собой мы испытываем тошноту и головокружение от пустоты, разочарования и грусти, потому что ощущаем искусственность происходящего. Как бы сильно нам ни хотелось сбежать от реальности с помощью развлечений, в глубине души мы понимаем, что получаем своего рода допинг.
Прием, который использует система, – чистой воды иллюзия, но сам дискурс кажется столь логичным и здравым, что находит отклик в каждом из нас как на уровне эмоций, так и на уровне разума. Наш жизненный путь определяют лозунги, лишенные какого-либо контекста. Нам говорят: «стань хозяином своей жизни», «возьми на себя ответственность», «прояви инициативу», «будь проактивным», «следуй за своей мечтой»… И вот мы уже со всей душой, страстью и фальшивым энтузиазмом пытаемся добиться своей цели…
Не самые умные философы – вроде Хайдеггера – утверждают, что настоящая свобода начинается тогда, когда мы находим свое подлинное «я». На эту идею легко купиться, особенно если не углубляться в подробности. Она кажется очевидной и рациональной, и просто невозможно допустить, что она ошибочна или что ее можно неверно интерпретировать.
Суть трагического представления, которое называют жизнью, заключается в том, что мы покупаем билеты на магическое шоу, отправляемся в цифровой театр в предвкушении спектакля и растворяемся в атмосфере волшебства, пораженные увиденным. Когда шоу заканчивается, мы – все еще под впечатлением – возвращаемся в реальность, прекрасно понимая, что увиденное было всего лишь фокусом, что где-то там таился подвох. Но для большинства это не имеет значения, потому что зрелищность, химеры и полученное удовольствие важнее осознания того, что нам показали трюк. Очарование столь сильно и неподдельно, что подчиняет нас, заставляя снова и снова смотреть представление в поисках ежедневной дозы дофамина и не давая осознать свой диагноз – сентиментальное фантазерство.
Именно это и происходит с нами, когда мы следуем хайдеггеровской идее о поиске своего истинного «я» или фразе «познай самого себя», высеченной в храме Аполлона в Дельфах. Если нам говорят, что для обретения подлинной свободы нужно стать хозяином своей жизни, мы без малейших сомнений принимаемся за дело. Все наши желания, планы, мечты, да и сам образ жизни отныне подчинены ожиданию обещанного волшебства, однако время идет, а чуда как не было, так и нет.
Конечная цель фокуса в том, чтобы поддерживать иллюзию как можно дольше. Не нужно волноваться: успеха ведь можно добиться и в 18 лет, и в 25, и в 30, и в 40, и в 50, и даже в 60, потому что для него важен не возраст, а личные качества, такие как самодисциплина, неиссякаемый оптимизм, настойчивость, умение не сдаваться, позитивный настрой и – самое главное – готовность совершать все новые и новые попытки, то есть отсутствие пассивности…
Если мы не хотим, чтобы нами манипулировали, нам нужно остановиться и проанализировать, что несут в себе эти призывы и какова их цель. Стоит также спросить себя, кому они приносят выгоду.
Нам говорят, что наша жизнь – это то, чем мы можем управлять, будто это механизм, который можно настроить, что все зависит от целеустремленности, силы воли, упорства, формирования привычек, стрессоустойчивости… Познать себя и стать хозяином своей жизни – два величайших стремления человека на протяжении всей истории (знать и мочь). Но при этом не учитывается важность таких факторов, как случай, хаос, несправедливость, семейные связи, везение… И так как об этом умалчивается, неудивительно, что в определенный момент (в 16, 23, 32, 45, 60) мы начинаем считать себя неудачниками, неспособными управлять собой и предпринимать необходимые шаги, чтобы соответствовать критериям успеха. Мы признаем себя безвольными созданиями и в погоне за развлечениями не активируем механизмы критического мышления.
Усталость от себя: избыток идентичности
Стремление «познать самого себя» – тяжкое бремя, которое постоянно сопровождает нас и не дает освободиться от самих себя, ведь оно предполагает, что человека можно познать и тем самым заключить в некие рамки. Философ Левинас в споре с Хайдеггером утверждал, что истинная свобода заключается в бегстве от самого себя. Идентичность ограничивает, обусловливает наше поведение и даже может подавлять нас. Определить свою идентичность бессознательно – значит принять некую модель поведения, образ мыслей, чувства и мировоззрение, не оставляя места другим «способам бытия». С этой точки зрения быть свободным не означает познать себя и взять над собой контроль, а, напротив, открыть и познать себя заново.
Такое самопознание должно быть не конечной целью, а отправной точкой. Оно подразумевает отказ от шаблонного мышления – всего того, что мы приняли и усвоили, что обусловило наши мысли, поведение и эмоции на подсознательном уровне, причем иногда во вред нам самим. Рефлексия относительно того, что именно нас формирует, должна стать привычкой, приобретенной в раннем возрасте.
Нам хочется быть смелыми, терпеливыми и заботливыми, но эти качества можно развить только с помощью действий (а не желаний или размышлений о них). Дело не в том, чтобы сказать: «Боже, дай мне терпения», или дождаться момента, когда у нас будет достаточно мужества для принятия решения, а в том, чтобы уметь распознавать те ситуации, в которых требуется проявить смелость, терпение или заботу. Иногда формирование идентичности – это просто вопрос внимания.
Высокая скорость жизни, лень, стремление к комфорту, миллионы аппетитных раздражителей – все это не способствует анализу ситуаций в режиме реального времени. Внимание к повседневной рутине укажет нам, где проявить терпение, создаст ситуации, которые потребуют мужества или заботы с нашей стороны… Быть заботливыми, мужественными или терпеливыми – это не цель, которую нужно достичь, а действия, которые нужно предпринять. Мы должны научиться интерпретировать контекст и направлять свое внимание на каждую возникающую возможность.
Все это подразумевает критический анализ, который отталкивается от конкретных ситуаций и таким образом ведет к формированию личности, а не наоборот. Каждый день мы проявляем внимание к своему ребенку, когда он просыпается, к домашнему животному, к другу, который нам звонит, чтобы поделиться тревогами… Совокупность таких реальных действий и составляет общее понятие «заботливый человек». Но если мы поступим наоборот, то есть начнем с понятия, то, скорее всего, это ни к чему не приведет. Общее понятие состоит из универсальных формул, имеющих мало отношения к действительности, так что мы просто заставляем себя поступать определенным образом, при этом часто – против собственной воли. Следование универсальным формулам приводит лишь к стандартизации идентичности.
Вполне возможно, что именно в момент осознания, что мы наконец соответствуем общим стандартам, нас и охватывает экзистенциальная тоска от того, что мы лишь одни из многих. Философ Бодрийяр писал об этом так:
«Культура делает из нас клонов, и ментальное клонирование по уровню развития опережает биологическое… Система образования, пресса, культура и массовая информация превращает уникальных индивидов в идентичные копии»[4].
Мы переживаем избыток идентичности. Проблема в том, что он порождает тревогу и в худшем случае приводит к депрессии. Одно из самых точных определений депрессии было предложено Аленом Эренбергом, который сказал, что «депрессия – это усталость быть собой»[5].
Мы ощущаем избыток реальности (гиперреальность) и тем не менее постоянно стремимся погрузиться в нее. Изобилие информации (гиперинформация) приводит к тому, что, принимая решение, мы всякий раз осознаем, что отказываемся от других решений, которые нам тоже хотелось бы принять. Но и этого мало: под воздействием такого давления мы рано или поздно испытываем желание стать личностью, выделяющейся из общей массы, то есть страдаем от гиперидентичности.
Мы сталкиваемся с избытком реальности, и наше знание о ней тоже чрезмерно. Избыточно все: слишком много путешествий, которые нужно совершить, впечатлений, которые нужно получить, блюд, которые нужно попробовать, людей, с которыми мы должны познакомиться, социальных сетей, в которые мы должны зайти… Не замечать все эти прекрасные возможности, которые предлагает нам жизнь, становится все труднее. Ко всему этому добавляется гонка за созданием идентичности столь чрезмерной, что в конечном итоге она может оказаться нам не по силам.
Знакомый мир
До того как социальные сети позволили нам превратить свой аватар в рупор для общения с виртуальной деревней, мы выходили в мир, чтобы познать его. Реальность была огромным и привлекательным местом, где можно было найти самого себя через удивление. До появления гиперсвязи и интернета идентичность каждого из нас обусловливали контекст и обстоятельства. Фокус внимания был сосредоточен не на эго, а направлен за пределы идентичности. Мир казался необъятным, ведь он еще не был оцифрован. Чтобы удивиться, достаточно было просто открыть дверь и выйти из дома. Это было началом приключения, которое формировало нашу личность и определяло нас по мере того, как мы совершали определенные действия.
Но когда всемогущий экран проник в нашу жизнь, нам стало казаться, что все «под контролем»: реальность можно погуглить – и тогда появится чувство, что мир знаком, близок и познаваем.
При этом фактор удивления теряет значимость, и внимание к внешнему миру ослабевает. Мы начинаем ощущать, что избытка мира не существует, но при этом мы «что-то этому миру должны». Мы посещаем места, фотографии которых видим в социальных сетях, и воспроизведение этих фото превращается в задачу, которую нужно выполнить, – что-то вроде возложенного на самого себя обязательства. Всякий раз, когда появляется такая возможность, мы отправляемся в путь по разработанному дома маршруту, заранее бронируем столики в ресторанах, покупаем билеты, читаем путеводители, смотрим 3D-снимки отеля, где остановимся, продумываем места, которые посетим, нанимаем гидов, читаем отзывы – для удивления практически не остается места. Мы становимся частью этой реальности еще до того, как выходим из дома, и во время самого путешествия чувствуем, что нам все уже хорошо знакомо. Мы перемещаемся в пространстве, но не путешествуем. Как отмечал Бодрийяр, мы становимся жертвами отсутствия случайностей, недостатка иллюзий (я сказал бы – удивления) и избытка реальности.
Мы часто рассматриваем киберпутешествие как своего рода репетицию, которая призвана унять тревогу перед отъездом. Когда мы садимся в машину, наша цель уже не в том, чтобы увидеть и познать мир, мы хотим лишь подтвердить то представление о нем, которое получили посредством смартфона, планшета или компьютера… Отправляясь в путь, мы на самом деле тренируемся лишь в умении распознавать то, что увидели ранее. И делаем мы это не в одиночку, а в сопровождении собственного аватара. Путешествуя, мы испытываем колоссальное давление от того, что должны думать не только о себе, но и своем виртуальном «я». Аватар, то есть образ, который мы создали для интернета, – проявление избытка идентичности. Реальность представляет интерес только тогда, когда она служит целям аватара. Все то, чем нельзя поделиться, выставить напоказ или просто нефотогенично, не достойно внимания. Мы не должны забывать, что в гиперсовременности успешную личность невозможно представить в отрыве от идеального образа ее аватара.
Раньше, отправляясь в поездку, мы были открыты новому. Внешнее доминировало над внутренним, и поэтому путешествия могли привести к озарению. Идентичность современного человека более закрыта и старается подчинить внешнее своей природе. Реальность как таковая нас уже не интересует: мы хотим, чтобы существовала «персональная реальность для меня и моего аватара», иными словами, стремимся поставить реальность на службу избыточной идентичности, которой нужно постоянное самоутверждение. Это, в свою очередь, не позволяет нам меняться и лишает нас малейшей возможности открыть в себе что-то новое.
Ритуал и чужое
До того как гиперсовременность и техноглобализация вошли в нашу жизнь, переживание странного, незнакомого и необычного было в порядке вещей, тем более что каждый из нас находился в рамках привычных жизненных обстоятельств. Мы несли багаж того места, где родились и выросли: района, школы, социального класса… В конечном итоге этот груз становился частью нас и сопровождал повсюду, куда бы мы ни отправлялись. Покидая родительское гнездо, мы уносили с собой несколько ритуалов, которые связывали нас с отчим домом и надолго оставались частью нашей жизни.
Эта связь с корнями выражалась через обязательные действия: еженедельные письма близким, почтовые открытки, телефонные звонки родителям каждый вечер в одно и то же время, обсуждение привычных тем… Мы прилагали много усилий, чтобы сохранить тот язык, который связывал нас с местом, определившим нашу идентичность. Связь была обусловлена контекстом, в котором мы выросли, и подразумевала следование определенным ритуалам для общения с окружающими, некоего протокола, который был знаком собеседнику. Эти ритуалы в повседневной жизни создавали ощущение стабильности и, по мнению корейского философа Хан Бён-Чхоля[6], четко транслировали ценности, которые сплачивали сообщества.
Таким образом, ритуал способствовал организации людей, что отражено в самом определении этого слова: «то, что устанавливает порядок». Контакт с истоками представлял собой нечто среднее между долгом и праздником, это были формальные действия, которые помогали нам уверенно двигаться по жизни. Подобно литургии, они следовали определенному распорядку и имели четкий стиль и характер, что, в свою очередь, способствовало сохранению признаков идентичности.
Прошло время, и новые поколения привыкли путешествовать с раннего детства, учиться вдали от дома, при первой возможности снимать квартиру, ездить в другие страны по программе студенческого обмена и познавать мир через экран. Иностранное кажется знакомым, чужое воспринимается как нечто близкое и привлекательное, и поиск себя легко выходит за рамки непосредственного окружения. Учитывая то, что электронные устройства позволяют нам выходить на связь с родными в любой момент и из любого места, само понятие разрыва с отчим домом практически перестало существовать.
Мы все меньше испытываем потребность воссоединиться с родными местами, хотя время от времени нас охватывает ностальгия. Мы отказались от ритуалов и ослабили натяжение нити идентичности, которая связывала нас с домом. Раньше натяжение этой нити помогало нам сопротивляться всему инородному, тому, что не было частью нас самих. Именно ощущение натянутой нити приводило к тому, что за пределами зоны комфорта все казалось странным или даже шокирующим. Чтобы отдалиться от ядра собственной идентичности, приходилось раз за разом преодолевать эту силу. С каждым шагом клубок разматывался все больше, но натяжение нити сохранялось с помощью ритуалов, связывающих нас с корнями.
Уход из родительского дома, расставание с парнем или девушкой, рождение ребенка, переезд в столицу ради новой работы, путешествие за границу – все эти события были значимы для человека благодаря той прочной связи, которая определяла его жизнь, но не мешала изменениям. Когда возникала потребность, человек отправлялся во внешний мир навстречу приключениям. Под приключением понималась неопределенность будущих событий, и пережить ее помогали ритуалы, которые мы воспроизводили, где бы ни находились.
Но что же сохраняет натяжение нити в гиперсовременном обществе? Молодежь (и даже не совсем молодежь) выросла с ощущением того, что нить в их клубке такая длинная, что натяжения не возникает, куда бы они ни поехали и чем бы ни занимались. Веревочка вьется, а конца не видать. Ритуалы связи с истоками вытесняются ритуалами связи с собственным эго. Благодаря глобализации у людей появилась возможность есть ту же самую еду, пить те же напитки, покупать ту же одежду, выбирать те же развлечения в любой точке мира… «Связь с корнями» теперь не ограничивается ни временем, ни пространством. Сеанс связи можно устроить во внутреннем дворике библиотеки с помощью ноутбука, прямо на Эйфелевой башне через смартфон или на руинах Помпей с умными часами на запястье. Больше не нужно сохранять привычки, которые формировали внутренний мир человека. Жизнь стала намного более импульсивной. Порыв натягивает нить на несколько минут, пока длится контакт с домом, но не имеет ничего общего с ритуалом.
Ритуал подразумевает постоянное ощущение натяжения нити в течение дня. Мы просыпаемся и знаем, что в девять вечера нам нужно позвонить мужу, жене, маме, брату или девушке; из любой поездки нужно привезти подарки детям; каждое утро в семь нужно поцеловать родных и пожелать им хорошего дня, а после ужина собраться в гостиной, чтобы вместе посмотреть телевизор… До наступления глобализации человек ощущал, что у него впереди вся жизнь, но в основе всего были ритуалы связи с домом – и, где бы он ни оказывался, он совершал определенные действия, которые помогали ему сохранять натяжение нити (собираясь за границу, укладывал в чемодан кусок любимой колбасы или бутылку оливкового масла, продолжал везде слушать привычную музыку и т. д.). Напоминание о корнях и ритуалы укрепляли сформировавшуюся идентичность, создавали порядок и придавали уверенность. Однако новые технологии поощряют импульсивность, новшества и сиюминутность, избавляя нас от малейшей необходимости поддерживать натяжение нити.
Церемонии
Мы постепенно заменяем ритуалы, из которых состоит клубок нашей личности, церемониями, направленными вовне. Церемония – это формальное действие, совершаемое перед сообществом, пространство, где человек раскрывается, демонстрируя определенные шаблоны поведения. Церемония привлекает своей торжественностью и легкостью участия, ведь это действо разворачивается перед публикой согласно четким правилам. Общедоступность – ее очевидное преимущество, и, поскольку мы живем в интернет-вселенной, универсальный принцип церемоний позволяет нам чувствовать себя как дома, куда бы мы ни отправились. Все, что нужно делать, – это каждый раз повторять все этапы церемонии, взаимодействуя с виртуальным сообществом.
С этой точки зрения я рассматриваю церемонию как нечто публичное и открытое, а ритуал – как интимный процесс. У каждого из нас дома есть определенные ритуалы, в которых нам комфортно, но, приходя в гости к другу, мы удивляемся ритуалам его семьи.
Церемония обеспечивает защиту всего личного. Мы чувствуем, что должны проявить себя, заявить о своем присутствии, но только в рамках церемонии. Принимая в ней участие, важно показать уместную эмоцию, поэтому знать протокол просто необходимо. Когда мы в первый раз заходим в социальную сеть, мы внимательно изучаем ее на предмет принятых в ней формальностей. Сначала наши публикации редки, сдержанны или малосодержательны, но по мере того, как мы осваиваем ее modus operandi, мы становимся активнее и стараемся интегрироваться в сообщество этой сети.
В отличие от ритуала во время церемонии мы знаем, что на нас смотрят и оценивают. То же самое происходит, когда мы приносим экраны в нашу личную жизнь и прерываем свои ритуалы ради участия в церемонии. И вот уже наш уникальный дом становится формальным местом для спектакля, где мы ищем подходящий ракурс, чтобы снять видео для тиктока, настраиваем свет, выбираем подходящую одежду, еду и расположение столика для публикации в инстаграме… Мы перевели единственные в своем роде ритуалы из плоскости интимности в плоскость церемонии, где каждый, находясь у себя дома, старается принять участие в шоу, которое может обойтись без других обитателей жилища, но без пользователей интернета просто немыслимо.
Преимущество церемоний в том, что они обладают четким регламентом, поэтому участие в них носит абстрактный характер. Суть их сводится к тому, что человек должен следовать инструкции. Кроме нее больше ничего и нет: церемония разъединяет, что, в свою очередь, приводит к обеднению социума. Участвуя в церемонии, мы волнуемся только о той роли, которую должны сыграть, и прикладываем все усилия для того, чтобы справиться с ней как можно лучше.
Ритуал сдает позиции. Раньше мы старались сохранить связь со своими корнями при помощи ритуалов, а теперь отключаемся от действительности и подчиняем часть нашей жизни протоколам церемоний. Другими словами, мы прошли долгий путь от связи с другими к «аду одинаковости»[7], как назвал это Хан Бён-Чхоль.
Приключения закончились
Распространение церемоний привело к ослаблению идентичности в том, что касается нашего происхождения, то есть корней, которые удерживали нас внутри семейной системы. Когда человек отправлялся за границу, его привязанность к корням заставляла его остро переживать приключения. В гиперсовременном обществе люди испытывают настоятельную потребность в ярких эмоциях и готовы практически на все, чтобы повысить уровень адреналина (опасные селфи, прыжки с парашютом, банджи-джампинг и т. д.). Эта одержимость сильными эмоциями и поиском необычного, эта зависимость от всего удивительного обнажает нехватку внутреннего напряжения в нашей жизни и свидетельствует об отсутствии приключений как таковых.
Когда связь с прошлым ослаблена и отправная точка размыта, мы уже не знаем, на что ориентироваться. При этом не стоит путать внутреннее напряжение, которое поддерживает тонус и внимание в нашем микрокосме, с внешним давлением, которое выводит нас из равновесия и приводит к гиперактивности. Когда мы подвергаемся давлению извне, приключение превращается в испытание, в попытку вернуть контроль над жизнью, вновь обрести внутреннюю защиту, которая прочно связывала нас с корнями.
Под приключением, как я уже отмечал, понимаются будущие события, точнее – то, что с нами случится и приведет к отрицательным (провал) или положительным (успех) последствиям. Это понятие теряет свою актуальность, потому что гиперсовременный человек не соглашается на роль получателя, отказывается от ожидания, избегает его и, более того, забывает о том, как важно чего-то ждать.
Различия стимулировали и усиливали критическое мышление, запуская рефлексию при столкновении с противоречием. Все странное и необычное воспринималось отстраненно, и это помогало критически осмысливать жизнь, дистанцироваться и размышлять.
Можно дать более изысканное определение ритуалу и рассматривать его как элемент провокации, усиливающий изумление, благодаря которому более 2500 лет назад в Греции зародилась философия. Потребовалось немного времени и практики – и вот уже изумление превратилось в любопытство и затем в сомнение, пройдя, таким образом, три этапа протомышления (изумление-любопытство-сомнение). Поддерживать ритуал лучше всего с помощью повторений, то есть постоянных напоминаний. Это способствует тому, чтобы какая-то идея укоренилась в нашем сознании. Именно этим принципом на протяжении многих тысячелетий руководствуются религии: напоминают и повторяют, чтобы нить идентичности оставалась натянутой. Мы же, напротив, склонны многое забывать, и индустрия новизны всячески поощряет это бегство от обыденности.
Гиперсовременный человек вырос в атмосфере гиперактивности и привык к динамике бесконечного прогресса, к необходимости проявлять инициативу. Его намерение овладеть будущим, подстроить его под себя, будто это очередное достижение, привело к тому, что приключение исчезло из нашей жизни. Тогда как оно подразумевает выжидательную позицию и открытость тому, что может произойти, внимание к происходящему вокруг, к тому, с чем мы встречаемся, взгляд по сторонам, а не только в будущее и ожидание того, что случится.
В эпоху глобализации состояние ожидания стало синонимом поражения и пассивности. В процессе становления идентичности техноглобализация приводит к общему знаменателю все чужеродное, виртуализируя людей и побуждая их участвовать в церемониях. Используя смартфоны, мы чувствуем, что мир находится прямо у нас в кармане, можем купить любую вещь в мире, а Amazon и AliExpress доставят ее нам из Китая прямо домой. Нам еще и пяти лет не исполнилось, а у нас уже есть загранпаспорт, к 18 годам мы успеваем съездить за границу, полетать на самолете, попробовать всевозможные иностранные блюда, получить первый сексуальный опыт, сделать первую татуировку… И это постоянное стремление что-то делать в совокупности с желанием произвести впечатление (мы же помним, что, если не поделиться опытом в соцсетях, он не будет считаться полноценным) не оставляет времени для укоренения ритуалов, и приключение становится просто очередным случаем из жизни.
Рассеянная личность
Ослабление ритуала происходит тогда, когда исчезает повторение. Ритуал рождается в приватной обстановке, вдали от посторонних глаз, и создает настолько особенные связи, что мы испытываем дискомфорт, когда в них вторгается кто-то чужой. Мы не хотим, чтобы за нами наблюдали во время исполнения ритуалов, потому что осознаем их исключительность. Мы повторяем их до тех пор, пока они не входят в привычку, и регулярно призываем близких к участию в них. Мы заботимся о том, чтобы им было комфортно и стремимся обеспечить покой и стабильность, что способствует укреплению межличностных отношений.
Однако, отдав приоритет церемониям, мы перестали обращать внимание на других людей, несмотря на то что церемонии сейчас встречаются повсюду, особенно в виртуальном мире. Они очень конкретны и ограничены во времени, но при этом не повторяются: глядя в смартфон, планшет или компьютер, мы постоянно видим новую информацию. Когда мы публикуем видео, фото или текст, мы стараемся сделать так, чтобы наш пост отличался от предыдущих, но всегда остаемся в рамках символов, составляющих код определенной церемонии. Это микропроцессы, которые обладают собственной значимостью и перестают существовать, как только гаснет экран. Мы следуем правилам, и пусть содержание каждый раз новое, страх отличаться от других не позволяет нам выйти за рамки, продиктованные сообществом, и в итоге все наши действия однотипны. Это навязчивое желание проявлять активность и негласное правило публиковать что-то слегка отличное и в то же время похожее приводят к тому, что нас больше интересуют собственные действия, чем действия других людей.
Избежать искушения становится все труднее. Мы достаем телефон за завтраком, просматриваем социальные сети, всегда одни и те же и в одном и том же порядке; подбираем изображение под настроение, чтобы им поделиться, делаем фото, улыбаемся, позируем, выбираем лучший ракурс, фотографируемся еще раз, улучшаем снимок в фоторедакторе, накладываем фильтры, думаем, как его подписать, ищем подходящий хештег – и вот мы уже готовы поприветствовать наше виртуальное сообщество, то есть готовы к церемонии. Смотрим несколько профилей в твиттере, пробегаемся по заголовкам, узнаем новости из сторис в инстаграме, листаем фото, отвечаем на несколько сообщений в мессенджерах, «приводим себя в порядок» и, наконец, публикуем свое утреннее приветствие – вот и все: церемония в виртуальном мире состоялась.
Можете себе представить что-то подобное в реальном мире? Что, если бы мы прикладывали столько же усилий, самоотдачи и так старались бы для людей, которые живут с нами? Если бы мы, проснувшись, с улыбкой приветствовали членов своей семьи, показывали им себя в самом привлекательном виде, думали перед тем, как что-то сказать, подбирали фразы, которые их мотивировали бы или побуждали к размышлению… Но мы этого не делаем по многим причинам, в том числе и потому, что понимаем, что вся та церемония, которую мы совершаем для виртуального мира, на самом деле – симулякр и ее цель – фальсификация. Сознательная, изматывающая фальсификация. Принимать участие в ней утомительно, потому что нормы, критерии и процедуру определили не мы. Однако нам очень страшно оказаться за бортом, и потому мы старательно следуем инструкциям. Увлекаться и импровизировать нельзя, особенно когда речь идет о социальных сетях. Мы вынуждены неукоснительно следовать процедуре, чтобы избежать неприятных последствий, что подвергает нас еще большему стрессу, который в итоге изнуряет нас.
За эту усталость мы расплачиваемся в реальной жизни, потому что она не позволяет нам сформировать собственные ритуалы. Когда мы впускаем церемонии в свой дом, в нем не остается места для отдыха и уединения. Время, проведенное перед экраном, как правило, вычитается из времени, которое отведено для общения с близкими, с друзьями, то есть с теми, кто окружает нас в реальной жизни.
К этому добавляется фактор новизны. В цифровой реальности изображения, новости и сторис постоянно обновляются и недолго остаются актуальными, что побуждает нас проводить в сети больше времени. Когда мы выходим из интернета, наваливается усталость и наша способность взаимодействовать с другими ослабевает. Реальность постепенно перестает влиять на нас.
Иногда это приводит к ухудшению личных отношений, особенно с партнером. Количество разводов продолжает увеличиваться, и все больше людей выбирают жизнь в одиночестве. Тому есть множество причин, но мы не должны забывать, что утрата ритуалов в нашей жизни усугубляет эту проблему. Когда ритуал совершался постоянно и был частью становления нашей идентичности, мы беспокоились о близких, с которыми разделяли традиции. Когда вступали в новые отношения, мы соприкасались с привычками другого, с незнакомым нам видом близости. Стремление радовать партнера было взаимным, и осознание трансцендентности ритуалов побуждало к толерантности. Когда создавался новый проект совместной жизни, обсуждались и устанавливались новые правила, которым предстояло работать внутри союза, а также согласовывалось сохранение уже существующих, всегда с общей целью: радовать всех участников и укреплять отношения внутри семьи. Новые ритуалы становились отличительным признаком пары и создавали безопасное пространство в отношениях. Образование пары или семьи подразумевает слияние ритуалов, которое оговаривается заранее и которому придается огромное значение, так как традиции каждого партнера глубоко укоренены и оба понимают важность совместного проживания с другим и точек соприкосновения в паре.
Но, ослабив связующую нить ритуалов, мы потеряли способность быть близкими, толерантными и принимающими. Наша личность рассредоточилась, мы отдали приоритет участию нашего эго в церемониях, и поэтому нам с каждым разом все труднее установить с кем-то близкие отношения.
Тесей и носки
Чтобы лучше понять жестокость максимы «познай самого себя», обратимся к мифологии. Парадокс Тесея – хрестоматийный пример проблем, порождаемых анализом идентичности.
Итак, Тесей был храбрым юношей, сыном царя Афин Эгея. После того как Эгей убил сына царя Крита, критяне напали на Афины. Осада была насколько мощной, что полис сдался и в качестве наказания афиняне должны были ежегодно отправлять на Крит 14 юношей и девушек из благородных семей, чтобы их принесли в жертву Минотавру – чудовищу с телом человека и головой быка. Жил он в лабиринте и питался людьми, которые туда попадали. Тесей попросил у отца разрешения присоединиться к группе юношей и девушек, которым предстояло отправиться на корабле на Крит и стать очередными жертвами чудовища. Его целью было убить Минотавра и вместе со всеми вернуться в Афины. Эгей дал свое согласие, и вскоре корабль с 30 веслами и черными траурными парусами был готов к отплытию. Отец попросил сына, чтобы тот в случае успеха на обратном пути сменил черные паруса на белые, и таким образом Эгей, увидев корабль издалека, сразу узнал бы о победе сына. Тесей убил Минотавра и освободил афинян от гнета Крита, но на обратном пути забыл поменять паруса. Царь Эгей, каждый день поднимавшийся на скалу в ожидании корабля, увидел черные паруса и бросился со скалы в море. С тех пор это море стали называть Эгейским. Добравшись до суши, Тесей стал новым царем Афин, а корабль поставили на холме как памятник подвигу Тесея.
Этот монумент стоял под открытым небом, поэтому его приходилось регулярно реставрировать, заменяя изношенные деревянные доски на новые. Со временем в корабле Тесея не осталось ни одной оригинальной детали. Так и возник парадокс: было ли судно на вершине холма кораблем Тесея? Насколько корабль, все части которого были заменены, был кораблем, на котором плыл Тесей?
Много веков спустя к этому парадоксу обратился английский философ XVII в. Джон Локк, который предложил мысленно заменить корабль на дырявый носок. Если мы заштопаем дырку, будет ли это тот же самый носок? А если дырок будет не одна, а три, четыре, пять и мы все их залатаем, сможем ли мы утверждать, что это тот же самый носок?
Мы продолжаем называть эти предметы по-прежнему, уверены, что это корабль Тесея или наш носок, несмотря на то что бо́льшую часть материалов в них заменили. Мы не сводим идентичность к чему-то одному, например к оригинальности составляющих его элементов. Аристотель считал, что не существует универсального критерия, по которому можно идентифицировать что-либо, иными словами, предметы определяются посредством разных характеристик. Также не стоит забывать и о динамических свойствах предмета, из-за которых очень непросто заключить сущность чего-либо в одно-единственное слово или понятие.
Проблема идентичности
Трудно дать точное определение идентичности. Несомненно, образ, а именно эстетика внешности, – ее важная составляющая. По мнению некоторых мыслителей, тело, в котором мы проводим всю жизнь, и есть суть нашей идентичности. Но до какой степени это верно?
Чтобы раскрыть идею восприятия тела как сути идентичности, философ Бернард Уильямс предложил провести мысленный эксперимент. Представим, что сумасшедший ученый похищает вас и меня и говорит, что завтра в своей лаборатории он переместит вашу психику (разум, воспоминания, опыт) в мое тело, а мою – в ваше. По завершении одно тело получит миллион евро, а другое подвергнут пыткам. Вам предстоит выбрать, чье тело заберет деньги, и чье будут мучить. Принятое решение в этом мысленном эксперименте даст вам приблизительное представление о том, в чем кроется суть вашей идентичности.
В большинстве случаев люди предпочитают, чтобы миллион евро достался их новому телу. Это означает, что мы, вероятно, придаем слишком большое значение физическому облику. Чрезмерная забота о теле – изматывающие тренировки в спортзале, строгие диеты, пластические операции, – возможно, лишь способ отвлечься от того, что мы на самом деле считаем важным для себя и в себе.
В свою очередь Джон Локк считал, что личность в большей степени определяется нематериальным, например сознанием. Сложность же заключается в том, что по мере того, как мы растем, наше сознание также меняется. Чтобы объяснить механику этого процесса, он выстроил целую теорию, в которой главное место отвел памяти как хранилищу воспоминаний о том, кто мы. То, как именно каждое воспоминание связано с предыдущим, и формирует нашу уникальность.
Это дает нам некоторое представление о важности памяти и проблемах, к которым приводит ее потеря. Всем известно, что болезнь Альцгеймера, при которой разрушаются нейронные связи, в конечном итоге радикально изменяет личность человека. Не новость и то, что современный мир не лучшее место для тренировки памяти, ведь всю информацию можно найти в интернете, и система образования сегодня придает заучиванию фактов меньше значения. Но если Локк прав, то потеря памяти означает измельчание идентичности, что вполне логично.
Общество, которым правит гиперстимуляция, не побуждает нас тщательно обрабатывать информацию и укреплять память. Жесткие диски, облачные хранилища и гигабайты данных меняют подходы современной педагогики, которая фокусируется на развитии навыков, а упражнения на запоминание ставит далеко не на первое место. Взгляд, направленный на настоящее, маленькая ценность прошлого и гонка за тем, кем мы хотим стать в будущем, меняют критерии определения идентичности.
Ад однообразия
Когда интернет только появился, мы думали, что наш голос услышат, наше слово прочтут и наш образ в глобальной сети станет уникальным. Внезапно у нас появился инструмент, позволивший нам выйти за пределы своего окружения и заявить о себе в любой точке мира. Мы совершили киберпутешествие, преодолев физические ограничения. Также у нас появилась возможность услышать других и по достоинству оценить их уникальные особенности. Это невероятно обогатило нашу жизнь. Интернет воспринимался как магистраль, соединяющая нас со всем миром. Мы проявляли свою индивидуальность, налаживая контакты с другими, и это было благом. Нам открылся бесконечный горизонт возможностей для развития собственной личности через опыт общения с другими людьми со своими индивидуальными особенностями, ведь до этого они были слишком далеки от нас или попросту нам не знакомы. Мы оставались самими собой и одновременно становились лучше, перенимая то, что нам казалось подходящим.
Но мы не учли две вещи: огромную скорость развития и соблазн экранных изображений. То, что в начале казалось полем, где процветает разнообразие и плюрализм, где моя уникальность и уникальность моего сообщества только усиливались, неожиданно превратилось в водоворот тысяч и тысяч чужих индивидуальностей, далеких от моего контекста и обстоятельств моей жизни. Будь мы из столицы или провинции, мегаполиса или села, высшего или низшего социального класса, интернет объединил нас всех по одному критерию – единообразию. Мы и не заметили, как то, что делало нас особенными и отличало наше сообщество от других, растерялось, смешавшись с чужими обычаями (Хеллоуин, иностранные Санта-Клаусы и Деды Морозы, реггетон). Они так быстро встроились в нашу ДНК, что за короткое время от нашей уникальности ничего не осталось. На смену пришла однородность. Сейчас мы отчаянно пытаемся найти то, что нас отличает, чтобы как-то выделиться из толпы. Мы боремся за право быть особенными, доходя до крайности в своем стремлении вернуть старые признаки идентичности и отказываясь перенимать чужую культуру.
Фанатизм и безликость
Структура идентичности сложна и включает элементы, которые продолжают определять нас на протяжении всей жизни. Личность каждого человека уникальна. Все мы рождаемся с разными возможностями, и поэтому отличаемся друг от друга. Значительная часть жизни уходит на то, чтобы осознать эти возможности и на их основе развить некоторые из своих способностей.
Когда мы формируем внутри себя то, что называется индивидуальными особенностями, мы прикладываем огромные усилия, чтобы всё в нашей жизни с ними согласовывалось. Наши желания, поведение, мечты[8]
