Текст Достоевского. Историко-филологические разыскания
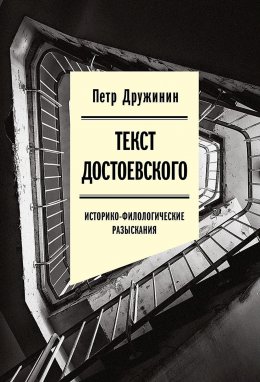
© П. А. Дружинин, 2025
© C. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Предисловие
В этой книге мы публикуем наши разыскания, посвященные истории текстов Ф. М. Достоевского. Непосредственно текстологические сюжеты соседствуют здесь с историко-библиографическими, связанными уже не с текстом писателя как таковым, а с его бытованием: цензурной историей и собственно выходом в свет; отдельно мы касаемся журналов «Время» и «Эпоха», соредактором и соиздателем которых был Ф. М. Достоевский.
Текстология же сегодня является одним из наиболее острых вопросов науки о Достоевском, а расхождения позиций различных научных школ привели даже к формированию «двух типов изданий Достоевского – академического и неакадемического»[1]. Не касаясь этих неразрешимых противоречий, в настоящей работе мы предлагаем, прежде всего, собственное исследование истории одного отдельно взятого и показательного для текстологической ревизии произведения Ф. М. Достоевского – «Записок из Мертвого дома». Может показаться, что после многочисленных научных изданий «Записок», включая и два академических, готовившихся крупными научными коллективами, ревизия источников текста если и позволит сделать какие-то наблюдения, то явно мелочные и незначительные. Тем важнее познакомить читателя с результатами нашей текстологической работы над общеизвестным и доступным каждому исследователю материалом.
Не менее любопытным оказывается и рассмотрение истории текста еще одного произведения Ф. М. Достоевского – повести «Двойник», в результате которого мы также предлагаем некоторые наши наблюдения над текстом первоначального, раннего варианта этого произведения.
Другим аспектом истории текстов Ф. М. Достоевского, которому мы уделяем пристальное внимание, будет исследование его произведений через призму истории цензуры и выявление ранее неизвестных фактических данных, которые касаются Ф. М. Достоевского – писателя. Богатейшие архивные фонды цензурного ведомства, прежде всего – материалы Петербургского цензурного комитета, Главного управления цензуры Министерства народного просвещения, Особенной канцелярии министра народного просвещения, давно доступны. И хотя они и объемны, и недостаточно систематизированы, но все-таки мы полагали маловероятным, чтобы в них начисто отсутствовали многие важнейшие сведения, без которых ныне затруднительно хронометрировать жизнь столь крупного писателя, каким является Ф. М. Достоевский. Тем не менее до сих пор не были установлены точные даты выхода многих его книг, практически неизвестны фамилии не только тех цензоров, которые выдали билеты на выход книг в свет, но даже тех, кто цензуровал поданные в комитет рукописи, печатавшиеся как в отдельности, так и в составе периодических изданий.
Разбирая эти и другие вопросы, мы вольно или невольно касаемся и академической науки о Достоевском, в особенности того состояния, в котором эта наука находится сегодня.
Глава I
Источники текста и научные издания «Записок из Мертвого дома»
В академическом Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского источники этого произведения очерчены следующим образом:
Рукописи «Записок из Мертвого дома», кроме нескольких разнородных листков, до нас не дошли, и текст произведения воспроизводится по печатным источникам на основе общих правил публикации, принятых в данном издании[2].
Таким образом, за исключением дополнения ко II главе, не вошедшего в окончательный текст, а также наборной рукописи начала той же главы, основным источником текста «Записок из Мертвого дома» являются печатные издания.
Это внушительный перечень, превышающий число публикаций других произведений писателя. Приведем его в согласии с обозначениями, принятыми в академических Полных собраниях сочинений:
[1]. РМ(1). – Русский Мир, 1860, № 67 («Введение», гл. I).
[2]. РМ(2). – Русский Мир, 1861, №№ 1, 3, 7 («Введение», гл. I–IV).
[3]. Вр. – Время, 1861, № 4, 9–11; 1862, № 1–3, 5, 12 (полностью, включая гл. «Товарищи»).
[4]. 1862(1). – «Записки из Мертвого дома», ч. 1. СПб., 1862 (часть 1).
[5]. 1862(2). – «Записки из Мертвого дома», чч. 1–2. Изд. 2-е. СПб., 1862 (полностью, исключая гл. «Товарищи»).
[6]. 1865 – Полное собрание сочинений Достоевского, т. I. СПб., 1865 (полностью, включая гл. «Товарищи»).
[7]. 1875 – «Записки из Мертвого дома», 4-е изд., чч. 1–2. СПб., 1875 (полностью, исключая гл. «Товарищи»).
То есть при жизни Ф. М. Достоевского было опубликовано семь различных источников текста, из которых четыре – полные издания «Записок из Мертвого дома» (в двух из них по цензурным обстоятельствам изъята глава «Товарищи»). Поскольку все эти издания выходили с ведома писателя, то перед текстологами встал непростой вопрос выбора «основного», «дефинитивного» или же «канонического» текста. Дальнейшее прекрасно иллюстрирует текстологическую максиму: «при скудости источников проблема дефинитивного текста может решаться гораздо проще, чем при их изобилии»[3]. Потребовались десятилетия, чтобы к настоящему времени текстология пришла к выбору «1875» в качестве основного источника текста «Записок из Мертвого дома».
Не касаясь дискуссий о правомерности самого понятия «канонический текст», с исходящими вследствие принятия его в качестве самоцели эвристическими усилиями по поиску этого «канонического текста», рассмотрим хронологию наиболее заметных в текстологическом отношении публикаций «Записок из Мертвого дома», предпринятых учеными ХХ – XXI веков.
Издание Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева в «Полном собрании художественных произведений» Ф. М. Достоевского, подготовленном Госиздатом, – первом научном издании сочинений писателя[4] («1926»). Свойственная этим филологам скрупулезность, проявленная ими при изучении остальных произведений Ф. М. Достоевского, проявилась и в подготовке текста «Записок из Мертвого дома»: ей сопутствовала серьезная текстологическая работа, в том числе были изучены варианты изданий произведения, составлена таблица обнаруженных между ними разночтений. В результате критического рассмотрения изданий в качестве дефинитивного текста редакторы избрали первое отдельное издание (СПб., типография И. Огризко, 1862, ч. 1–2) – источник «1862(2)» с исправлениями по другим прижизненным изданиям. Однако в «1862(2)» не была помещена глава «Товарищи»: она прошла цензуру позднее, нежели остальные главы, была разрешена цензурой тоже позже, чем получили цензурное одобрение первая и вторая части в этом издании 1862 года, и даже впервые была опубликована уже после того, как издание «1862(2)» вышло в свет. По этой причине текст главы «Товарищи» приводился Б. В. Томашевским и К. И. Халабаевым[5] по первой публикации в журнале «Время» 1862 года[6]. Выбор редакторами именно полного издания «1862(2)» имеет и объяснение: «Текст слегка менялся автором до второго издания 1862 г. После этого издания изменений текста не замечается»[7].
Выбор источника основного текста имел и более общие теоретические установки, которые мы находим в основополагающем для советской текстологии труде Б. В. Томашевского «Писатель и книга», который был закончен в 1927 году, то есть как раз во время работы над изданием Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Рассуждая об авторских переделках ранее изданных произведений, Борис Викторович указывает:
Чем дальше автор отходит от своего произведения, тем – обычно – меньше интересуют его вопросы обработки, и обычно, если произведение издается много раз, то, начиная с некоторого момента, мы имеем простые перепечатки, и авторское участие в этих изданиях сводится к нулю. В большинстве случаев в авторских переработках преобладают чисто стилистические изменения отдельных фраз и слов. <..> Но параллельно с авторской работой при переизданиях происходит механическая порча текста последовательными перепечатываниями. Самое внимательное наблюдение не сможет предохранить текст от медленной порчи. С этой точки зрения наиболее гарантирующим от чуждых автору искажений является почти всегда первое издание[8].
Это издание, как и труд ленинградских текстологов, высоко оценили современники. В. Л. Комарович уже в 1934 году, рецензируя работу К. И. Халабаева и Б. В. Томашевского, заключил, что «редакторами осуществлена большая и ответственная задача: прочно установлен окончательный авторский текст Достоевского»[9]. Приведем в данной связи и отзыв Б. М. Эйхенбаума об этом издании, написанный им в 1952 году в проспекте неосуществленной книги «Очерки советской текстологии»:
Особенно значительным и новым для своего времени было издание сочинений Достоевского. Во-первых, до этого издания настоящей текстологической работы над его произведениями не проводилось – и при сверке обнаружилось такое же (если не большее) количество извращений, пропусков и грубых опечаток, как и в изданиях других классиков. Во-вторых, к основным текстам произведений были приложены очень интересные приложения: таблицы разночтений всех прижизненных изданий и некоторые дополнительные материалы по истории текста. Таким образом, это издание художественных произведений Достоевского (как и издание «Каменного гостя» <1919 года, с текстом, выверенным по рукописи А. Л. Слонимским. – П. Д.>), оставаясь массовым и популярным, приобрело вместе с тем научный характер, благодаря чему оно не утратило до сих пор своего текстологического значения[10].
Здесь отметим, что впоследствии и ленинградские текстологи склонялись к тому, чтобы априорно считать наиболее авторитетным источником текста писателей последнее прижизненное издание. Это можно заключить по отзыву Б. В. Томашевского на написанную Б. М. Эйхенбаумом в 1955 году статью «Текстология» для второго издания Большой советской энциклопедии (статья вышла без подписи автора в сильно переработанном виде[11]). В данной связи Борис Викторович пишет:
Я бы возразил против фразы «При установлении основного текста… последним при жизни автора». Дело не в авторитетности последнего издания, а в том, что оно содержит наиболее завершенный и обработанный текст, т. е. текст, который мы признаем наиболее совершенным отражением мысли и мастерства писателя[12].
Необходимо также сказать о том, что именно это издание сочинений Ф. М. Достоевского было подготовлено в условиях наименьшего идеологического давления на текстологию как академическую науку. В доказательство своих слов приведем цитату из рецензии К. Н. Григорьяна, написанной более чем через десятилетие после окончания этого издания, но необходимую в условиях травли Б. М. Эйхенбаума:
Довольно распространенным является взгляд на текстологию как на нейтральную область. Это – вредное заблуждение. Совершенно ясно, что идейные позиции литературоведа, его методологические принципы и здесь дают себя знать, отражаясь на результатах текстологических изысканий. Наблюдается порочная тенденция изучать текстологические проблемы в узко-специальном плане, в отрыве от рассмотрения идейно-художественной концепции произведения в целом[13].
Это издание также стало этапом в развитии научной текстологии. При этом сама текстологическая работа была в ту эпоху внове для массовых изданий, почему к этому собранию сочинений были предъявлены претензии не только в связи с предпочтением ранних редакций, хотя формально существовали и более поздние, «окончательно установленные» автором, но и в связи с внесением корректив по другим прижизненным изданиям:
Выбрав по своему усмотрению те или иные издания, с которых перепечатывались отдельные произведения, – редакция без всяких оговорок вариантами разночтений различных изданий распоряжалась, как ей заблагорассудится[14].
Кроме того, была в рецензии и откровенная напраслина, так что Б. В. Томашевский и К. И. Халабаев даже были вынуждены указать на ошибки рецензента[15].
Что касается выбора ранних редакций как источников дефинитивного текста, то даже несмотря на разъяснение в книге Б. В. Томашевского впоследствии А. Л. Гришунин, приводя некоторые положения рецензии Н. Зеленова, в целом солидаризировался с мнением, что в издании имеется «необоснованный выбор ранних редакций в качестве основного текста»[16], и охарактеризовал работу Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева как «погоню за новациями», вылившуюся в «нездоровое „соревнование“ текстологов»[17].
Поскольку налицо довольно важный аспект истории отечественной текстологии, позволим себе некоторое отступление. В целом слова А. Л. Гришунина обнажают те противоречия, которые действительно существовали в послевоенные годы между текстологами двух столиц. Скажем, когда в начале 1955 года Б. В. Томашевский рецензировал статью «Текстология» для Большой советской энциклопедии, он указывал:
Коснусь и библиографии. Недостатком ее я считаю то, что в ней даже не упомянуты единственные две книги, посвященные специально вопросам текстологии. Это Г. О. Винокур – «Критика поэтического текста», М., 1927, и моя «Писатель и книга» (очерк текстологии), Л., 1928. Эти книги в значительной степени устарели, но до сих пор ничем не заменены. Ожидать же что-нибудь от организаторов совещания по текстологии <в ИМЛИ> 1954 г. не приходится[18].
Впрочем, на совещании 1954 года высказался сам Борис Викторович:
Ряд текстологов оспорили возможность применения в текстологии единого принципа «ненарушимости воли автора», отвергли понятие «канонический текст», как неправомерно категоричное; главным путем текстологии объявили изучение истории текста. Решительным оппонентом заслушанного на совещании доклада (В. С. Нечаевой) выступил Б. В. Томашевский. В исключительно яркой речи он сказал, что текстология не приемлет никакой рецептуры; «канонический» текст невозможно установить, потому что сама действительность не поддается канонизации; не может быть реализован и принцип «воли автора»; основа текстологии – вся филологическая наука, «понимание» писателя и его текста[19].
Б. М. Эйхенбаум в начале 1950-х годов сам работал над монографией «Очерки советской текстологии» для издательства «Искусство», которую он писал по инициативе редактора издательства А. Э. Мильчина, но замысел не был осуществлен, хотя до последних дней Борис Михайлович лелеял надежду о написании этой книги[20]. А когда он писал по заказу того же издательства предисловие для второго издания книги Б. В. Томашевского «Писатель и книга», то А. Э. Мильчин, в высшей степени благожелательно отозвавшийся о написанной статье, в письме от 13 августа 1958 года обратился к «уничижительной сноске» о текстологических работах В. С. Нечаевой и просил аргументировать эту оценку, но Б. М. Эйхенбаум ничего не изменил, и редакция сняла этот выпад из окончательного текста[21].
В очередной раз это противостояние дало себя знать 16 мая 1963 года, когда А. Л. Гришунин – сотрудник Института мировой литературы, в значительной мере отвергавший взгляды В. С. Нечаевой и ее выучеников, – защищал в Пушкинском Доме кандидатскую диссертацию «Очерк истории текстологии новой русской литературы». В результате В. С. Нечаева даже была вынуждена написать письмо директору ИРЛИ А. С. Бушмину, которое по своему примирительному тону важно и для характеристики подлинно научной позиции самой Веры Степановны:
Благодаря Ученый совет ИРЛИ за внимание, проявленное им к сотруднику группы текстологии ИМЛИ, которой я руковожу, не могу не довести до сведения Ученого совета мои самые решительные возражения против некоторых утверждений, которые позволил себе диссертант в ответе оппонентам. Он старался подчеркнуть, что якобы не был свободен в своих суждениях, изложенных в диссертации, чем и объясняются, например, его высказывания о Б. В. Томашевском, и старался подчеркнуть якобы враждебное отношение к текстологам Пушкинского дома, которое его окружало в Москве («Монтекки и Капулетти», «трудно защищать в Ленинграде диссертацию, написанную в Москве» и т. п.).
Если по поводу печатной работы Гришунина, помещенной в «Основах текстологии», его товарищи по этому коллективному труду и я, как ответственный редактор, сделали немало замечаний, принятых автором, то в представленной им диссертации он был совершенно свободен в изложении своих научных мнений. У него не было официального руководителя, и его ссылки на какой-то «нажим», помешавший ему изложить его подлинную точку зрения, не соответствуют действительности и, к сожалению, невысоко характеризуют его как ученого, так как являются признанием, что в диссертации он отразил не свое убеждение, а приспособил его к чьим-то посторонним требованиям.
Прошу Вас довести до сведения членов Ученого совета ИРЛИ, что я и сотрудники руководимой мною группы протестуем против изображения каких-то «враждебных лагерей» в советской текстологии. Разная оценка тех или иных частных явлений в текстологической теории или практике не может повлиять на чувство глубокого уважения и подлинной научной дружбы, которые мы испытываем к нашим товарищам – текстологам, работающим в Ленинграде[22].
Спустя тридцатилетие состоялась публикация в десятитомном «Собрании сочинений» Ф. М. Достоевского, подготовленном Государственным издательством художественной литературы под общей редакцией Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина и других. Как указано редакторами во вводном обращении, «тексты произведений публикуются по авторизованным изданиям с приближением орфографии и пунктуации к современным нормам»[23]. Текст «Записок из Мертвого дома» для этого издания был подготовлен и снабжен примечаниями Л. М. Розенблюм («1956»)[24].
Для отечественной текстологии это издание знаменуется сменой источника текста. Как пишет Лия Михайловна, он дан по изданию 1875 года, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям. Текст главы VIII <«Товарищи»>, не вошедший в издание 1862 и 1875 годов, печатается по изданию 1865 года[25].
История подготовки этого собрания сочинений мало изучена, роль этого издания в истории филологической науки недооценена и в действительности почти не отражена в литературе вопроса[26]. Считается, что «реабилитация» Ф. М. Достоевского относится к 1956 году[27], тогда как история этого собрания сочинений в десяти томах (первоначально предполагалось – в двенадцати) позволяет нам сдвинуть дату как минимум к началу 1955 года. Но безусловно, что это издание смогло состояться только в эпоху оттепели и с санкции ЦК КПСС.
Избирая формальный повод для будущего издания, инициаторы связали его с предстоящим в феврале 1956 года 75-летием со дня смерти Ф. М. Достоевского. Однако на этапах подготовки возник и новый повод. Как сообщал 10 августа 1955 года зав. редакцией русской классической литературы ГИХЛ В. В. Григоренко в официальном письме члену редколлегии В. С. Нечаевой, с грифом «лично»,
по рекомендации директивных органов крайне желательно открыть подписку (с выдачей первого тома) на собрание сочинений Ф. Достоевского к началу работы ХХ Съезда КПСС, т. е. в первой половине февраля 1956 года. Эта дата совпадает и с юбилейной датой Ф. М. Достоевского[28].
Инициаторами выступил глава Гослитиздата А. К. Котов, который попросил руководство Ленинградского отделения издательства поручить В. А. Десницкому, А. С. Долинину и Г. М. Фридлендеру написать проспект издания и разработать инструкцию для редакторов томов[29]. Само начинание было поддержано зам. директора Пушкинского Дома В. Г. Базановым, и предполагалось, что издание будет осуществляться в Ленинграде. Поэтому самое первое заседание, на котором обсуждался проспект будущего издания, проходило 8 февраля 1955 года именно в Ленинградском отделении Государственного издательства художественной литературы; вел его директор издательства С. Л. Горский, председательствовал В. Г. Базанов, участие приняли Г. А. Бялый, В. А. Десницкий, А. С. Долинин, В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, В. Н. Орлов, Г. М. Фридлендер и другие[30] (отсутствовавший на заседании Б. С. Мейлах письменно подал свое мнение)[31].
Когда делу был дан административный ход в Москве, а первый секретарь правления Союза советских писателей СССР А. А. Сурков был назначен председателем Комиссии по проведению 75-летия со дня смерти Ф. М. Достоевского, предприятие приняло уже всесоюзный масштаб; и тогда В. В. Ермилов – ортодоксальный советский литературовед, обладавший большими административными возможностями, – решил вовсе оттереть ленинградцев от руководства, а также забрать у ленинградских филологов подготовку ряда томов. Дело дошло до того, что руководство Ленинградского отделения ГИХЛа вынуждено было отдельно настаивать на необходимости включения А. С. Долинина в состав редколлегии[32].
30 июня 1955 года редколлегия была утверждена[33]. В ее состав вошли: В. В. Ермилов (председатель), Л. П. Гроссман, А. С. Долинин, В. С. Нечаева и Б. С. Рюриков (главный редактор «Литературной газеты», который в ноябре будет назначен на должность заместителя заведующего Отделом культуры ЦК КПСС). 3 июля 1955 года секретариат Союза советских писателей СССР провел совещание в связи с подготовкой к предстоящему юбилею Ф. М. Достоевского[34], и с того момента все руководство работами было сосредоточено в Москве, тогда же было утверждено окончательно решение о превращении двенадцатитомника в десятитомник; и в том же году в редколлегию был введен еще один ортодокс от литературоведения – В. Я. Кирпотин, который лишь усилил бюрократическое давление редколлегии на непосредственных составителей и комментаторов издания.
Хотя это собрание сочинений и было подчеркнуто массовым, а не академическим, притом готовящимся в спешке, нужно отметить серьезную текстологическую работу, начатую теми, кто это издание инициировал. Любопытно, что первоначально именно спешка не позволила пригласить в состав редколлегии Б. В. Томашевского. Суть проблемы, которую бы представляло его активное участие, сформулирована В. М. Жирмунским на редакционном совете по обсуждению проекта будущего издания, состоявшемся 8 февраля 1955 года в Ленинграде. В ответ на реплику В. Н. Орлова о необходимости привлечь Б. В. Томашевского Виктор Максимович выразил следующее мнение:
Теперь насчет текстовой линии. Учитывая участие Томашевского в этой работе, не хотелось бы, чтобы такое большое дело, имеющее известную спешность, чтобы оно очень задерживалось текстологическими разысканиями, которые сами по себе очень ценны, но которыми в данном случае можно было бы пренебречь. Пускай не сетуют на меня филологи[35].
Тем не менее В. А. Десницкий, А. С. Долинин и Г. М. Фридлендер разработали первоначальные текстологические принципы этого собрания сочинений, изложенные в «Инструкции для редактирования» и представленные в готовом виде 28 февраля 1955 года[36]. В ней кроме прочего было провозглашено следующее правило:
Тексты, при жизни Достоевского не печатавшиеся, печатаются по последней рукописной редакции. Произведения, печатавшиеся при жизни писателя один раз, – по первопечатному (журнальному) тексту. Произведения, перепечатывавшиеся при жизни Достоевского несколько раз, печатаются, как правило, по тому последнему, прижизненному изданию, в подготовке которого, как свидетельствуют документальные данные и изучение текста, Достоевский принимал непосредственное участие (и которое является поэтому наиболее аутентичным). В случае, если историко-филологическое изучение текста приведет редактора в отдельных случаях к выводу о необходимости печатать тот или другой текст в другой редакции и по другому источнику, его выводы выносятся на обсуждение Главной редакции, которая принимает об этом мотивированное решение, заносимое в протокол[37].
При московской редакции была образована текстологическая комиссия (без участия Б. В. Томашевского), которая утверждала составлявшийся редактором каждого произведения «текстологический паспорт». В состав этой комиссии помимо членов редколлегии и редакторов конкретного тома входили: Э. Л. Ефременко, А. И. Опульский, Е. И. Прохоров, Ф. И. Евнин, М. Я. Блинчевская, К. Н. Полонская. При этом выполнялся принцип, который был декларирован еще в Объяснительной записке к проекту собрания сочинений, составленной в начале 1955 года В. А. Десницким, А. С. Долининым и Г. М. Фридлендером:
Отделов «Других редакций» и «Вариантов» настоящее издание, являющееся не академическим, а массовым изданием, не предусматривает. Отдельные наиболее важные для истории текста (или с других точек зрения) места из рукописей и первоначальных редакций должны быть приведены в комментариях к соответствующим произведениям[38].
На этапе подготовки к печати «Записок из Мертвого дома» Л. М. Розенблюм составила список предлагаемых изменений, преимущественно признанных ею опечатками в согласии с первыми публикациями в «Русском Мире» и «Времени», но были ею сделаны и «исправления по смыслу»; ряд ее предложений, впрочем, не был одобрен текстологической комиссией[39].
Издание «Записок» в академическом Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского[40] («1972»), работа над которым началась в 1966 году[41]. Подготовка текста для этого издания была произведена И. Д. Якубович, редактор тома – Ф. Я. Прийма. В данном случае в качестве основного текста Ирина Дмитриевна избирает источник «1875», то есть последнее прижизненное издание, и также с некоторыми исправлениями по более ранним публикациям и «с устранением явных опечаток, не замеченных Достоевским»[42] (указаны 34 сделанных редакцией исправления).
Избрание источника текста в данном случае согласуется с общей позицией редакции академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского: «Тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, как правило, по последнему изданию»[43]. Глава «Товарищи», которая не вошла в состав издания 1875 года, была приведена по тексту «1865», то есть также в соответствии с провозглашенным принципом последнего прижизненного издания.
Издание «Записок» в собрании сочинений Ф. М. Достоевского, подготовленном под редакцией проф. В. Н. Захарова и имевшем подзаголовок «Канонические тексты»[44] («1997»), в котором тексты печатались в старой орфографии («научное издание в авторской орфографии»). В выборе «канонического текста» составители идут вослед академической традиции, и сочинение «печатается по тексту 1875» с рядом исправлений по более ранним изданиям[45].
В издании поименована «текстологическая группа»: Л. С. Артемьева, Г. В. Борисова, О. И. Гурина, В. Н. Захаров, Т. А. Каракан, А. А. Кемпи, И. И. Куроптева, О. Б. Решетникова, Н. А. Тарасова[46]. Примечательно, что хотя в издание «1875» не вошла глава «Товарищи», как и указано в текстологическом комментарии (речь об упоминании, что глава «Товарищи» входила не во все издания «Записок»[47]), однако откуда именно был взят текст этой главы в «Канонических текстах» – не поясняется.
Этот научный коллектив манифестировал факт полного овладения источниками авторского текста:
Мы работаем со всеми редакциями: набираем все тексты, на основе последней редакции сводим все варианты в общую редакцию, делаем анализ разночтений и устанавливаем канонический текст. Наша методика анализа разночтений со всей наглядностью позволяет выявить типичные опечатки и ошибки[48].
Издание 1997 года в свою очередь послужило источником текста для публикации в «Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского в XVIII томах» (Т. 3, 2003), подготовленном также силами В. Н. Захарова и его коллег, но уже в современной орфографии. В предисловии к этому изданию мы читаем:
Наше собрание сочинений – самое полное из всех Полных собраний сочинений. <..> Тексты подготовлены к публикации на основе нового научного издания произведений Достоевского в авторской орфографии, в котором восстанавливается авторская воля писателя, определяются канонические тексты его произведений. Для настоящего издания все тексты писателя приведены в современной орфографии с сохранением авторских особенностей художественной речи Достоевского. Наши буквы и знаки препинания восстанавливают дух и смысл творчества Достоевского[49].
Еще одна научная версия текста «Записок из Мертвого дома» напечатана в собрании сочинений Ф. М. Достоевского в девяти томах:
Подготовка текстов, составление, примечания, вступительные статьи председателя Комиссии по изучению творчества Ф. М. Достоевского ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, д. филол. н. Татьяны Александровны Касаткиной.
Как сообщается в аннотации,
В издании впервые публикуется комментарий нового типа, включающий, помимо традиционного литературоведческого, и интерпретационный, смысловой комментарий, вскрывающий евангельскую основу произведений Ф. М. Достоевского, объясняющий символические детали, «говорящие» имена, особенности художественного мира писателя[50].
Хотя это собрание сочинений действительно изобилует комментариями, текстологическая работа не была целью при подготовке издания. На обороте же титульного листа содержатся два взаимоисключающих указания:
При публикации текстов за основу принималось Полное собрание сочинений в 30 томах, изданное Академией наук СССР (1972–1990). Подготовка текстов производилась по изданиям произведений Ф. М. Достоевского в старой орфографии[51].
Уже далее, в комментарии, делается указание:
При подготовке текста использовано издание: Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Издание в авторской орфографии и пунктуации под редакцией профессора В. Н. Захарова. Петрозаводск, Т. 3, 1997[52].
Таким образом, это издание представляет собой орфографическую модернизацию издания «1997», так называемых Канонических текстов.
Замыкает этот перечень научных публикаций «Записок из Мертвого дома» второе издание академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского[53] («2015»). В редакционном введении сообщается:
…тексты, опубликованные Достоевским при жизни, печатаются, как правило, по последнему авторизованному изданию. Остальные произведения и письма печатаются по автографам, а в случае их отсутствия – по стенографическим записям А. Г. Достоевской, авторитетным копиям, посмертным публикациям и другим источникам. Из текста принятой для печати редакции на основании всех первоисточников устраняются явные описки, типографские опечатки, а также цензурные искажения и другие отступления от подлинного авторского текста. Исправления, внесенные в текст в результате этого сличения, оговариваются в комментариях (кроме исправления явных описок и опечаток)[54].
Подобно первому академическому Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского («1972»), источником служит последнее прижизненное издание «Записок из Мертвого дома»: «Печатается по тексту 1875 с устранением явных опечаток, не замеченным Достоевским»[55], а также с исправлениями по остальным шести источникам текста.
Подготовка текста «Записок» была выполнена коллективом квалифицированных текстологов:
Для второго издания текст и варианты прижизненных изданий «Записок из Мертвого дома» подготовил В. Д. Рак при участии М. Д. Андриановой. Обновление и дополнение примечаний <..> выполнила И. Д. Якубович <..> Редактор тома – В. Д. Рак. Контрольный рецензент – С. В. Березкина[56].
Таким образом, начиная с первого научного издания «Записок из Мертвого дома» – «1926», то есть уже целое столетие, если и отмечалось разномыслие у исследователей, то исключительно относительно избрания наиболее авторитетного источника текста. Что же касается числа печатных источников, то константа сохраняется с того же 1926 года. Насколько это соответствует исторической действительности, мы сможем убедиться, рассматривая подробно эти печатные издания и привлекая к нашему исследованию необходимые архивные источники.
Глава II
О «Русском Мире»
Печатная история «Записок из Мертвого дома» начинается с «Русского Мира». Значительная роль в появлении этой публикации принадлежит А. С. Гиероглифову[57], хотя ряд исследователей и считают ее излишне преувеличенной[58]. Хрестоматийная же версия начала обнародования «Записок из Мертвого дома» сформулирована в комментарии к академическим Полным собраниям сочинений, а в сокращении «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» звучит следующим образом:
Сентября 1 <1860>. В № 67 еженедельной «политической, общественной и литературной газеты» «Русский Мир» опубликованы «Введение» и I глава «Записок из Мертвого дома», беспрепятственно прошедшие цензуру[59].
Прежде чем вернуться к цитате из «Летописи», расскажем о самом издании. Примечательно, что хотя формально «Записки из Мертвого дома» были напечатаны в 67-м номере (за 1 сентября 1860 года), но в действительности – в самом первом номере газеты «Русский Мир» после ее реорганизации.
С самого основания в 1859 году эта еженедельная газета (де-факто журнал, выходивший сначала по пятницам, затем дважды в неделю – по средам и субботам) издавалась книгопродавцем Я. В. Писаревым и редактировалась В. Я. Стоюниным. Форматом газета была в четвертую долю печатного листа и выдерживала этот формат в течение первого года, но с начала 1860-го увеличила формат до собственно газетного, объяснив такой шаг необходимостью поспевать к назначенным дням (фальцовка замедляла выход издания в свет и доставку подписчикам). По-видимому, то был лишь способ удешевить издание ввиду низкой подписки, что подтверждается и дальнейшими событиями: к весне 1860 года положение «Русского Мира» резко ухудшилось, в конце марта газета стала катастрофически запаздывать с выходом, почему в апреле и была достигнута договоренность о передаче издания в другие руки. Начался постепенный переход издания купцу Ф. Т. Стелловскому, который в свойственной себе манере сперва под видом помощи изданию вошел в число комиссионеров, а затем объявил о новой подписке (с 1 мая) и планах на перемену с 1 сентября не только редактора издания, но и всей редакционной политики.
Начиная с № 28 (16 апреля 1860) газета уже печатается в типографии Ф. Стелловского, имя В. Я. Стоюнина как редактора пропадает (подготовка продолжилась силами прежних сотрудников), а относительно «новой редакции» печатались постоянные известия. Новым редактором предполагался А. С. Гиероглифов, человек порывистый и деятельный, – именно ему принадлежало право издания «Русского Мира», но газета была отягощена долгами.
1 августа 1860 года между купцом Ф. Т. Стелловским и титулярным советником А. С. Гиероглифовым был заключен контракт (см. Приложение 1), в согласии с которым купец покупал за пять тысяч рублей право издания «Русского Мира» со всеми долгами, а редактором издания и компаньоном становился А. С. Гиероглифов[60]. Впрочем, первоначально, то есть в момент реорганизации, предполагалось издавать журнал, с приведением его к прежнему формату ин-кварто; однако, когда появилась необходимость заново регистрировать издание в цензурном комитете уже на правах журнала, пайщикам оказалось проще оставить «Русский Мир» формально газетой. Обо всех изменениях новая редакция предварительно известила и читателей:
Если бы мы начинали снова нашу деятельность, было бы совершенно излишне входить в такие объяснения, которые теперь нам кажутся необходимыми: издание журнала «Русский Мир» в течение полутора года сопровождалось до сих пор множеством разных неисправностей конторы журнала в отношении к публике, о чем мы имеем повод заключить из многочисленных жалоб от подписчиков, и потому естественно, что журнал не пользуется должным кредитом. Нам остается уверить, что с выходом журнала под новой редакцией будут устранены непременно все неисправности вообще по изданию журнала. Содержание конторы, печатание и рассылку журнала принял на себя содержатель музыкального магазина, поставщик Двора Его Величества, Ф. Стелловский, с полной гарантией на исправность.
Редакция надеется, что принимаемая ею система издания журнала «Русский Мир» доставит ему приличное место в нашей журналистике, крайне бедной еженедельными обозрениями. В вознаграждении за литературный труд редакция будет следовать размеру гонорария, принятому в лучших наших ежемесячных журналах[61].
Как обстояло дело с привлечением Ф. М. Достоевского в это печатное издание, вполне известно[62], и 23 августа 1860 года писатель получил от А. С. Гиероглифова семьсот рублей серебром «за будущую статью» для первых номеров журнала[63]: по-видимому, то было платой как за вводную часть и главу I, так и за дальнейшее, потому что писатель предполагал договориться о печати «Записок из Мертвого дома» в «Современнике» при условии «если дадут 200 р. с листа», приведенная же выше декларация о гонораре говорит нам о том, что договоренность состояла по меньшей мере о трех-четырех листах.
В любом случае, в номере «Русского Мира» от 1 сентября 1860 года появились Предисловие и глава I; вторая же глава была задержана, и рассмотрение ее в цензуре затянулось; только 12 ноября было дано разрешение на ее издание, но А. С. Гиероглифов решил возобновить печатание с нового 1861 года.
Здесь мы вынуждены вернуться к утверждению, будто введение и первая глава «прошли цензуру беспрепятственно»[64]. Откуда это известно и почему с такой безапелляционностью утверждается в литературе вопроса? Ответа на это у нас нет, есть лишь предположение, что ввиду задержки с появлением продолжения и общеизвестных сложностей в Петербургском цензурном комитете было ошибочно предположено, что раз в 1860 году начало «Записок из Мертвого дома» вообще вышло в свет, а затем временно прекратилось, то, значит, внимание на них цензура обратила не сразу. Хотя такое объяснение, безусловно, никак не свойственно тому цензурному гнету, который испытывала периодическая печать в 1860 году, и мы бы сочли такое объяснение неубедительным. Возможно, была и иная причина утверждения о «беспрепятственности», но в любом случае ошибочность этого утверждения будет нами объяснена ниже.
Стоит настоять на необходимости привлечения к истории публикации «Записок из Мертвого дома» и архивных материалов Петербургского цензурного комитета. Если обратиться к реестру выданных билетов, по которому окажется возможным узнать не номинальную дату издания этого номера «Русского Мира», а действительную, то миф о беспрепятственном прохождении начала «Записок из Мертвого дома» через цензуру моментально развеивается: этот номер, на котором была выставлена дата «1 сентября 1860 года», после всех согласований и, видимо, препирательств с цензором был в окончательном виде отпечатан только 15 сентября, тогда же подан в Петербургский цензурный комитет, но не был даже в таком виде одобрен «день в день», что было обычной практикой, а задержался на день, и билет на выпуск номера в свет был подписан цензором только 16 сентября[65]. То есть в результате всех этих проволочек подписчики получили «Русский Мир» более чем на две недели позднее номинальной даты, что для газеты, каковой формально являлось издание, явление совершенно исключительное.
Мы можем назвать и имя цензора, который был причастен к первой публикации «Записок из Мертвого дома», – это Ф. И. Рахманинов (имени которого мы не найдем ни в истории издания «Записок из Мертвого дома», ни даже в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского»).
А. С. Гиероглифову в значительной степени не повезло с цензором, который оказался приставлен к «Русскому Миру»: Федор Иванович Рахманинов (1825–1880), в отличие от многих других цензоров, чье участие в судьбах произведений Ф. М. Достоевского не было столь деструктивным, по-видимому сыграл не последнюю роль в прекращении печатания «Записок из Мертвого дома» в «Русском Мире». Выпускник Московского университета, юрист, начинавший чиновником Петербургской уголовной палаты, затем служивший в канцелярии губернатора, в 1851 году перешедший в департамент Министерства юстиции, был назначен цензором Петербургского цензурного комитета только 15 января 1860 года[66]. И если до него «Русский Мир» вел цензор А. К. Ярославцев (1809–1884)[67], то начиная с 5 февраля 1860 года это издание переходит под контроль Ф. И. Рахманинова; причем Петербургский цензурный комитет, по-видимому, был поначалу даже доволен таким надзором, потому что в марте к Ф. И. Рахманинову от В. Н. Бекетова переходит и более сложный в политическом смысле печатный орган – журнал «Современник»[68].
Вероятно, если бы Ф. И. Рахманинов имел больший опыт цензурирования, то он не был бы настолько осторожен, но, повторимся, «Русскому Миру» с новым цензором не повезло. Так что никакого «беспрепятственного прохождения через цензуру» у начала «Записок из Мертвого дома» не было и в помине. А поскольку такие опоздания к читателям могли попросту разорить издание, то печатание «Записок» было в 1860 году А. С. Гиероглифовым приостановлено, а возобновлено только с нового, 1861 года. Тому была и еще одна причина – резонанс от появления на свет «Записок» позволил редактору надеяться, что перенесение в новый год их продолжения приведет к увеличению числа подписчиков. Кроме того, мы предполагаем, что время было использовано А. С. Гиероглифовым и на то, чтобы цензор заранее просматривал и приводил в соответствие с представляемыми им нормами текст глав, которые планировались к напечатанию. Отчасти это доказывается тем, что цензурное разрешение на повторное издание введения, первой и второй глав «Записок из Мертвого дома» (собственно, первого номера «Русского Мира» 1861 года целиком) было получено от Ф. И. Рахманинова еще 6 ноября 1860 года[69]. Впрочем, и это также не сильно помогло, потому что Ф. И. Рахманинов из предосторожности предпочитал не подписывать сам, а в согласии с практикой деятельности цензуры представлял сомнительные с его точки зрения сочинения на рассмотрение цензурного комитета.
Как мы сказали, «Русский Мир», приступив заново к печатанию «Записок из Мертвого дома», повторил в первом номере за 1861 год введение и главу I, а также поместив главу II. Но и этот номер, который номинально был датирован 4 января 1861 года, также задержался: он поступил в Петербургский цензурный комитет только 9 января, и Ф. И. Рахманинов в тот же день выписал билет на выход[70] – то есть с того момента, как в ноябре была одобрена рукопись, вторая глава претерпела какие-то изменения в соответствии с пожеланиями цензуры. Глава III была пропущена цензурой 10 января (напечатана в № 3 от 11 января), этот номер вышел уже со сравнительно небольшой задержкой – он был отпечатан 13 января, и в тот же день Ф. И. Рахманинов выписал билет на выход в свет[71]. Тогда же А. С. Гиероглифов просит писателя прислать обещанную IV главу. Однако цензурные сложности приводят к тому, что публикация «Записок из Мертвого дома» прекратилась на IV главе в № 7 (25 января 1861-го, цензурное разрешение от 24 января[72]), который вышел в свет с недельной задержкой – только 30 января он был отпечатан, и в тот же день Ф. И. Рахманинов выписал билет[73]. Исходя из того, что на полосе 132 этого номера имеется колонтитул «№ 6», мы можем предположить, что здесь не просто опечатка, а след от переверстки: публикация планировалась в предыдущем номере (21 января 1861-го, цензурное разрешение от 20 января; в свет вышел с опозданием – 26 января[74]), но цензор Ф. И. Рахманинов, как уже ясно, подолгу не подписывал к печати номер.
Здесь отметим, что этот цензор настолько затруднил работу журналов, что постепенно он лишился доверенных ему цензурным комитетом повременных изданий – начиная с январской книжки 1861 года «Современник» вернулся к В. Н. Бекетову, а в мае 1861 года и «Русский Мир» будет передан другому цензору – Е. Е. Волкову[75]. Сам же Ф. И. Рахманинов был переведен в Московский цензурный комитет и там проявлял свою строгость; нелишне процитировать слова Л. Н. Толстого, который прочувствовал этого цензора, издавая в 1862 году журнал «Ясная Поляна»:
1-го сентября. Утро работал – вяло. Голова болела гимороидально. К Рахманинову. Всю желчь поднял. Не пропущена 1-я статья. Надо вдвое работать новую[76].
Хотя Ф. И. Рахманинов оказался ощутимым препятствием для публикации «Записок из Мертвого дома» в «Русском Мире», окончание печатания сочинения в газете произошло и по формальным обстоятельствам: Ф. М. Достоевский счел гонорар в 700 рублей серебром отработанным. По-видимому, это решение писателя было принято А. С. Гиероглифовым сочувственно: продолжение издания «Записок из Мертвого дома» было для него чревато конфликтом с Ф. Т. Стелловским. Ситуация с преодолением «Русским Миром» цензурных трудностей оказывалась для их предприятия критичной: цензурные придирки, будучи рутиной для ежемесячных журналов, становились крайне болезненными для газеты, которая должна была поспевать к конкретной дате и обычно получала разрешение накануне выхода в свет, а печаталась тоже накануне – вечером или даже в ночь.
Имелась и другая, не менее значительная причина: «Записки из Мертвого дома» были важны Ф. М. Достоевскому для начатого одновременно с их изданием журнала М. М. Достоевского «Время». Еще 6 сентября 1860 года последним было представлено в цензуру и одобрено цензором А. К. Ярославцевым «Объявление о журнале „Время“ от г. Достоевского»[77], текст которого был в значительной мере написан Ф. М. Достоевским[78], и с 1861 года этот журнал начал выходить в свет.
И хотя впоследствии, 3 мая 1861 года, А. С. Гиероглифов поместил в «Русском Мире» объявление, что после публикации во «Времени» сочинение появится и на его страницах, Ф. М. Достоевский отправил письма в редакции петербургских газет со словами, что с «Русским Миром» не состоит «более ни в каких литературных сношениях», а текст произведения окончательно передан «Времени» и всякое продолжение «может явиться только в этом журнале»[79].
Что касается собственно Ф. Т. Стелловского, то с ним, по-видимому, Ф. М. Достоевский в то время дела не имел вовсе: газету вел А. С. Гиероглифов единолично; впрочем, впоследствии Ф. М. Достоевский сможет почувствовать на себе железную хватку этого известного музыкального издателя. Однако еще ранее на сотрудничестве с Ф. Т. Стелловским обжегся сам А. С. Гиероглифов, о чем мы вкратце расскажем, поскольку это важно не только для истории «Русского Мира» и для характеристики его соиздателей, но и для понимания того, каков был будущий издатель первого Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского купец 2-й гильдии Ф. Т. Стелловский.
А. С. Гиероглифов успешно издавал «Русский Мир» и с началом 1862 года не только заменил музыкальное приложение (издаваемое Ф. Т. Стелловским, лишь удорожавшее издание и отпугивавшее подписчиков) на сатирический листок с карикатурами «Гудок» (цензурный комитет формально произвел объединение двух изданий в одну редакцию, действовавшую на прежних основаниях контракта А. С. Гиероглифова и Ф. Т. Стелловского), но и перевел печать в другую типографию, которую арендовал сам ради этого предприятия, поскольку Ф. Т. Стелловский постоянно завышал типографские расходы и тем самым уменьшал долю прибыли, которая делилась поровну между Ф. Т. Стелловским и А. С. Гиероглифовым. Эти действия А. С. Гиероглифова хотя и улучшили материальное положение издания, однако оказались болезненными для фактического владельца издания – Ф. Т. Стелловского, человека крайне расчетливого.
В конце 1862 года разразился публичный скандал: А. С. Гиероглифов, обладавший довольно горячим нравом (см. Приложение 4), обвинил компаньона в присвоении денег иногородних подписчиков «Русского Мира» и разместил прокламацию об этом в петербургских газетах, в том числе и в самом «Русском Мире»[80]. Ф. Т. Стелловский решил немедленно отстранить А. С. Гиероглифова от должности редактора издания, почему 19 декабря 1862 года и подал в Петербургский цензурный комитет прошение, в котором просил утвердить В. В. Крестовского вместо А. С. Гиероглифова[81], что нарушало положения контракта от 1 августа 1860 года о покупке купцом прав на «Русский Мир». Последнее не давало возможности цензурному комитету утвердить смену редактора, и комитет занял нейтральное положение, ожидая либо судебного решения спора, либо, что явно могло произойти быстрее, примирения. (М. К. Лемке считал, что первопричиной конфликта была недостаточная подписка на «Русский Мир», что развязывало руки Ф. Т. Стелловскому для смены редактора[82].) Оба участника продолжали отягощать цензурный комитет своими прошениями: А. С. Гиероглифов желал продолжать издание (он даже выпустил на свои средства один номер от 5 января 1863 года), а Ф. Т. Стелловский потребовал приостановить выдачу цензурных разрешений на оба издания. Ответ спорщикам был дан 9 января 1863 года, причем вышестоящей инстанцией – министром народного просвещения А. В. Головниным, – что говорит о серьезности разразившегося скандала: «Продолжение издания „Русский Мир“ и „Гудок“ до окончательного разрешения их спора может быть допущено не иначе как только по взаимному их между собою соглашению»[83]. Соглашения между компаньонами достигнуто не было, и «Русский Мир» прекратил существование. Н. А. Лейкин, который также был привлечен к изданию А. С. Гиероглифовым, резюмировал это в своих воспоминаниях:
Маленькие журналы тогда возникали быстро, приостанавливались, переходили из рук в руки и так же быстро погибали в новых руках. Издатели почему-то думали, что начать издавать журнал можно без затраты, что подписчики на него тотчас так и посыплются, и журнал сейчас же будет окупать себя, но на деле это было не так. Стелловский, наживший на нотах, сунулся в журналистику и книгоиздательство и, тотчас же потерпев убытки в «Русском Мире», прекратил его[84].
Глава III
Ф. М. Достоевский и цензура
Разговор о печатных источниках текстов Ф. М. Достоевского невозможен без обращения к материалам цензуры – настолько всеобъемлющей была ее власть над литературой в XIX столетии: любое слово могло превратиться в печатное только с ведома цензуры как государственного учреждения и при участии конкретного цензора как орудия этого учреждения.
И на протяжении всей своей литературной биографии Ф. М. Достоевский испытывал давление цензуры – и как непосредственный автор, и как редактор литературных журналов. По этой причине цензурные материалы, при их использовании исследователями, могут служить важным источником биографических сведений о писателе: они нередко позволяют установить точные даты выхода журналов и отдельных изданий произведений Ф. М. Достоевского в свет, раскрыть нам имена цензоров, от которых зависел выход произведений Ф. М. Достоевского, – то есть тех теневых деятелей русской литературы, кто по своему вкусу и произволу исправлял текст писателя. И хотя большинство произведений Ф. М. Достоевского дошло до нас в виде печатных изданий, то есть мы не особенно можем понять и охарактеризовать воздействие, которое вносили различные чиновники цензурного ведомства в тексты писателя, однако несомненно и то, что цензоры в отведенное им время были полновластными хозяевами текстов Ф. М. Достоевского, распоряжаясь ими по своему разумению, пристрастности, вкусу… И в любом случае – по своему произволу.
Можно возразить: трудно-де говорить о влиянии цензоров непосредственно на тексты Ф. М. Достоевского. Однако сам писатель, по сути, доказывает нам, что, пройдя этот сложный путь со своим очередным произведением, он не смел восстанавливать измененное цензурой, считая это не особенно продуктивным – намного проще было действовать (воспользуемся пушкинской метафорой) путем Савельича – плюнуть да поцеловать у злодея ручку – то есть пойти на уступки и увидеть свое произведение опубликованным и уже далее идти по пути наименьшего цензурного сопротивления.
В этой связи показателен редкий в писательской биографии Ф. М. Достоевского случай коренной переработки произведения. Речь о повести «Двойник», которую он очень высоко ценил, предвосхищая появление своего chef-d'oeuvre, и потому после явной неудачи на протяжении долгих лет был преследуем мыслью о доведении ее до совершенства. Именно поэтому «Двойник» не был отдан Н. А. Основскому для помещения в двух томах «Сочинений Ф. М. Достоевского» (1860). Но даже в этом случае, имея массу намерений по расширению замысла повести и даже политической актуализации ее текста, Ф. М. Достоевский при переработке «Двойника» для третьего тома Полного собрания сочинений в издании Ф. Т. Стелловского (1866) начисто отказался от своих намерений и стал действовать в полном согласии с нравами героя повести («Это все было еще совсем ничего и, несмотря ни на что, могло бы устроиться к лучшему»). Он избрал самый консервативный и одновременно простой с точки зрения прохождения цензуры путь – по сути, отредактировал и сократил текст. Возможно, предвосхищение цензурных трудностей было не единственным основанием для такого выхода, но, как мы сказали, действовал Ф. М. Достоевский при переработке не в соответствии с собственным замыслом, а в согласии с советом прозорливого В. Г. Белинского («Мы убеждены, что если бы г. Достоевский укоротил своего „Двойника“, по крайней мере, целою третью, повесть его могла бы иметь успех»[85]).
Как показывает печатная история произведений Ф. М. Достоевского, и «Записки из Мертвого дома» в данном случае очень показательны, писатель, единожды пройдя плотину цензуры, избегал вносить авторские изменения в текст, разве что уж совсем незначительные, чтобы не было риска повторной цензуры (а значит, как минимум задержки и нового этапа цензурных вмешательств в текст). Поскольку Ф. М. Достоевский жил преимущественно литературным трудом, то свои произведения он отдавал сначала в журналы (получая оплату), а впоследствии пытался издавать отдельно, стремясь переложить расходы на издателей и получить гонорар. И хотя выгода самостоятельного издательского дела, рано прочувствованная М. М. Достоевским на примере журнала «Время», а затем и издательские опыты А. Г. Достоевской позволяли писателю получать от издания своих сочинений больший барыш, нежели отдача их на сторону, самый принцип издания и переиздания в условиях господства цензуры выработался у Ф. М. Достоевского достаточно определенно.
Мы отмечаем издательский принцип Ф. М. Достоевского: проходить первоначальную цензуру при публикации в составе журнала (традиционно это было менее рискованным, в том числе и материально) и уже затем для переизданий подавать в цензуру не рукопись, а именно вырезку в виде ранее напечатанного текста. Этот принцип, несомненно, упрощал прохождение плотины цензуры, но и служил преградой к тому, чтобы вернуть в произведение изъятое цензурой при первой публикации, как и добавить в него что-либо содержательно заметное.
Несмотря на различные этапы в истории российской цензуры в ее отношении к текстам и разную степень подозрительности, учитывая здесь и субъективные особенности цензоров, ранее напечатанный текст уже был в некотором смысле гарантией, что если даже на цензора и обрушится гнев начальства, то у него будет очевидная и уважительная причина, которая станет защитой от серьезных взысканий. А цензурная реформа 1865 года, которая носила двусмысленный характер и не привела к особенным благотворным последствиям, по сути, заставила авторов и издателей еще более усилить самоцензуру.
В данном случае позволим напомнить формулировки М. Е. Салтыкова-Щедрина. В письме к П. В. Анненкову в 1875 году он писал:
А если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства. Я объявляю это всенародно в статье «Между делом», которая явится в сентябрьской книжке <«Отечественных записок»>[86].
Приведем и основные мысли писателя из указанного сочинения:
Я – русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать:
Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой – искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа езоповскою, – манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств. Цензурное ведомство скрежетало зубами, но, ввиду всеобщей мистификации, чувствовало себя бессильным и делало беспрерывные по службе упущения. <..>
Привычке трепетать я обязан послереформенному цензурному ведомству. Я не стану распространяться о том, что́ именно сделало это последнее, чтобы заставить меня трепетать – похвала живым может быть принята за лесть? – я только констатирую факт. Я знаю, что, с тех пор как мы получили свободу прессы, – я трепещу. Покуда я пишу – я не боюсь. Иногда я даже делаюсь храбр; возьму да и напишу: напрасно, мол, думают некоторые, что благожелательное и ничем, кроме почтительности, не стесняемое обсуждение действий (заметьте аллегорию: я даже умалчиваю, чьих и каких действий) равносильно нападению с оружием в руках… Но как только процесс писания кончился, как только статья поступила в набор, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права. И она усиливается и усиливается по мере того, как исправляется корректура и наступает час, с которого должен считаться четырехдневный для журналов и семидневный для книг срок нахождения произведений человеческого слова в чреве китовом. Чудятся провинности, преступления, чуть не уголовщина. И в то же время ласкает рабская надежда: а может быть, и пройдет! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, как особое видоизменение трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляет единственную руководящую нить в современном литературном ремесле. Избавиться от нее, правда, очень легко; стоит только забросить перо, распроститься с корректурами и, как чумы, обегать типографии, но вот подите же… Сдается, что, не будь этой надежды, пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы одни «Московские ведомости»…[87]
