Центро-Круговая модель бытия. Концепция
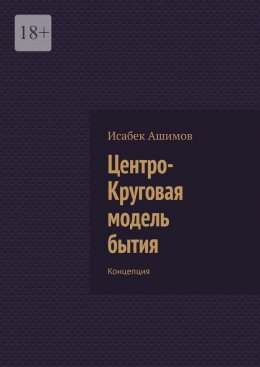
© Исабек Ашимов, 2025
ISBN 978-5-0067-8787-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава I
Пафос создания итератизма как учения о круге (Вместо введения)
Еще Платон (428—348 до н. э.) писал: «Геометрия притягивает душу к истине и являет суть картины мира». Если человеческое сознание в состоянии хоть как-то приобщиться к тайнам жизни и тайнам Вселенной, то сакральная геометрия – наилучшее средство для этого» – такова квинтэссенция высказываний многих мыслителей. В сакральной геометрии круг – это фундамент, на котором построены все остальные формы. Иначе говоря в этом мире все начинается с круга. У Платон (428—348 до н. э.) круг – «подвижный образ вечности недвижной». По Гермесу, «Сам Бог есть круг, центр которого везде, а окружность – нигде». По К. Г. Юнгу (1875—1961), символику круга выдумать нельзя, они поднимаются из позабытых глубин, так как призваны выразить глубочайшее озарения сознания и высочайшие прозрения духа, соединяя таким образом уникальность сегодняшнего сознания с вековым прошлым человечества». Есть много примеров использования этого, геометического, универсального, по сути, символа-кода в гуманитарной сфере. В мифологии круг, округлость священна как наиболее естественное состояние, содержащее неявленное, бесконечное, вечность; заключающее в себе пространство и отсутствие времени, как отсутствие начала и конца, пространства, верха и низа. В философии круг олицетворяет циркулярность и сферичность как универсальный символ не только отрицания времени и пространства, но и возвращение, возвратное движение. То есть как символ начала и конца, как бесконечность, которая в идеале не существует. Как понять такие суждения, как круг – это то, что цикличность существует, ибо у бесконечности есть точка идеала? Как понять данный парадокс – бесконечность не имеет цикличности, а существует бесконечность цикличностей?
Впервые на символ-понятие «Круг» обратил свое внимание, когда писал эзотерический роман-аллегорию «Тегерек» (2012), в котором речь идет о горе «Тегерек», что на юге Кыргызстан. Слово «тегерек» в переводе с кыргызского языка, означает круг. С той поры, круг в моих трудах служит не только исходной геометрической фигурой и сакральной метафорой, но и своеобразным символом-кодом, позволяющим построить новую фигуру «слова-кода», отражающего новые знания, новые смыслы, новую систему взглядов. Между тем, все это послужило мне, чтобы выстроить некие контуры нового учения – учения о Круге. Итак, контуры учения мною впервые приведены в трехтомнике «Итератизм: интервал абстракции» (2014): «Неискоренимость зла» (I т.); «Идеация неполноты» (II т.); «Концепт неведения» (III т.). Сам термин «итератизм» в переводе с санскрита означает круг, круговращение, цикличность. На основе вышеприведенного художественно-философского сочинения, в целях не только унификации и внедрения в сознание людей контуров заявляемого учения о круге, мною был сконструирован одноименный миф «Тегерек» и неомиф «Проклятье Круга Зла». По сути, миф и неомиф являются циклами полноценного нарративного круга для проведения целенаправленных специальных исследований уже философского порядка. Написанные мною литературно-философские сочиненения – «Тегерек: сущность теней», «Тайна горы Тегерек», «Край Сфер и АнтиСфер», «Мистический шейх», «Проклятье Круга Зла», «Неискоренимость Зла», «Виртуальная жизнь аватара тысячу лет в прошлом», «Поиск истины» отражают элементы, методологические основы и этапы этих исследований. Ряд наших работ: «Тегерек: мифы, тайны, тени», «Конструирование и символизация мифа и неомифа о Тегерек», «Концептуализация, семантизация, сакрализация и философизация мифа и неомифа о Тегерек», «Теория авторского мифотворчества. Анализ. Синтез. Комментарии», «Научно-мировоззренческая культура», «Верификация мифа и неомифа», «Культуризация мифа и неомифа», «Антропофилософия мифа и неомифа» обосновывают и отражают сущность учения. Одними из формализованных результатов в этом направлении служат: 1) Научная идея «Триадный синтез современной научно-мировозренческой культуры индивида» (Свид-во №25-I, М., 2017); 2) Научное открытие «Закономерность формирования и изменение состояния научно-мировоззренческой культуры» (Дип. №67-S, М., 2018).
Итак, познавательный и научно-литературный опыт и культуросозидающий философский пафос влился в идею о создания особого учения – итератизма – учения о круге. В формулировке названия учтены смысл слова «круг, круговращение, цикличность, итерация (в пер с лат. – повторение). Целью данной работы является: 1) Поиск аргументационного материала по созданию учения о круге; 2) Иллюстрация этого проекта на примерах: 1) Итератизм Абсолютного Зла (Глава IV); 2) Итератизм научного просвещения (Глава V).
Как известно, В.Г.Сагатовский (1933—2014) выделяет следующие философские круги: 1) Гносеонтологический круг; 2) Мировоззренческо-онтологический круг. Паттернами этих кругов являются «онтология», «гносеология», «философская антропология», «мировоззрение». Общеизвестно, учение – это познание, обучение, образование; это совокупность теоретических положений какой-либо области знаний; это доктрина или иначе система взглядов и идей какого-либо учёного, мыслителя. Итератизм – не совсем обычное учение и философское обобщение выполнено также необычно. Если идейной основой учения являются ряд авторских художественно-философских сочинений, тогда как научная верификация, а также аргументация с одновременной иллюстраций служат: 1) «Миф о Тегерек»; 2) «Неомиф о Тегерек». Как автор (Ашимлв И. А.) сводного капитального труда «Тегерек. Мифы, тайны, тени» (2024), выступаю одновременно в двух качествах – как ученый и как писатель. В ипостаси писателя выношу на суд два композиционно взаимосвязанных между собой и синтетичных по жанру, сочинений – эзотерический роман-аллегорию «Тегерек» (2012) и роман «Проклятье Круга Зла» (2021), которые послужили своего рода последовательными литературными нарративами для последующего философского анализа. В ипостаси ученого выношу на суд философское обоснование двух кругов (по Сагатовскому) с осмыслением их сущности и методологии: 1) Гносеонтологический круг на примере интератизма Абсолютного Зла (опыт конструирования, деконструирования мифа и неомифа; опыта символизации, концептуализации, философизации, семантизации, сакрализации мифа и неомифа); 2) Мировоззренческо-онтологического круга на примере итератизма просвящения (установление закономерности формирования и развития научно-мировоззренческой культуры).
Итак, представляем вниманию первый опыт научно-философского конструирования мифа «Тегерек» и неомифа «Проклятье Круга Зла», а также первый опыт их всесторонней научной «верификации», а также авторской теории формирования и изменения состояния совремнной научно-мировоззренческой культуры в качестве иллюстрации: 1) Гносеонтологического круга; 2) Мировоззренческо-онтологического круга.
Учение о круге является просвещенческим проектом, основным посылом которого является то, что Круг являет собой определенный код философских символов, отражающих ряд философских замыслов, когда с помощью семиотической метафоры круга можно выстроить философский прототекст, существование которого только постулируется. Наш модернизаторский подход подсказывает необходимость рассмотрения нескольких режимов мышления, в особенности мышления, связанного с геометрией круга кругов – сознательное манипулирование конечной и дискретной системой круга как символов с явно зафиксированными правилами построения осмысленных строк символов и менее явными правилами. Геометрическая метафора, в тех случаях, когда она претендует на статус инструмента познания, постулирует, что некоторый сложный набор явлений можно сравнить с кругами в кругу. Такая метафора – это приглашение к размышлению о том, что наше знание всегда половинчатое. Между тем, круг всегда олицетворяет законченность, полноту и целостность. Именно это касается тех самых двух или трехкомпонентных философских кругов – гносеонтологического, мировоззренческо-онтологического. Дж. П. Карс (1932—2020) писал: «Метафора есть соединение похожего с непохожим, при котором одно не может превратиться в другое». А может ли метафора сообщить что-то, чего философы не знали ранее? Ряд ученых полагают, что да, при условии, если читатели готовы к ее серьезному обсуждению: если мы готовы уточнить наше неточное воображение с помощью жесткой логики геометрического рассуждения философских дилемм. Многие философы пытались демифологизировать образ геометрии как интеллектуальной деятельности: 1) Когда мы философствуем, то с неизбежностью рационализируем и обобщаем свои инстинктивные предпочтения; 2) В социальном аспекте надо отметить, что нам приходится полагаться на своих современников и предшественников даже при написании совершенно строгого доказательства. Недостаток метафоры – не в том, что она неточна или неистинна, а в том, что она сопротивляется организации в систему. Научная модель явления также может быть ложной или грубо приближенной, но ее преимущество – в том, что она входит в систему научного знания, которая эту модель поддерживает, питает извне и несет потенциал ее улучшения или смены. Сама метафоризация есть динамическая, творческая и долговременная деятельность по наложению, примеркам и прикидкам разветвленного и точного знания о технологических процессах переработки информации к биосоциальным процессам. В ходе этой деятельности медленно кристаллизуется новое знание. Основной постулат семиотики состоит в гипотезе о структурном подобии различных знаковых систем и возможности выделить идеальный объект исследования – «знаковую систему». Мы попытались оценить семиотику «Круг» к возможности семиотического подхода к протопонятию «большой системы» и соответствующего расширения этой метафоры.
Предметом общей семиотики должен быть уровень информационных процессов (в других контекстах – знакового или символического поведения) большой системы, притом те аспекты этого уровня, которые поддаются сравнению во всех больших системах. Если считать исходным понятием семиотики «Круг», то исходным протопонятием общей семиотики будет: 1) «Итератизм Абсолютного Зла»; 2) «Итератизм научного просвещения». Согласно такой схемы не только аргументации, но и подтверждения нами выделены следующие аспекты: 1) Мифологические (§1); 2) Научно-мировоззренческие или иначе просвещенческие (§2).
§1. Формирование мифологических аспектов аргументации итератизма. Символ круга – идеальная форма, глубинный образ сознания всего жизнепотока, обозначающий совершенство и исток мироздания. Мое отношение как исследователя к объекту изучения (Круг), возможно, носят как черты исследовательской страсти, так и ностальгической привязанности к этой теме итератизма Абсолютного Зла и итератизма научного просвещения. Итак, об итератизме Абсолютного Зла. Чтобы дать читателю хотя бы первое представление о сути научной работы мною был нарратив в форме романа-аллегории «Тегерек», выбрать из круга интересов лишь один сюжет – круговорот Зла. На этой основе был выработано мое (Ашимов И. А.) мифологическое мышление и взору читателей будет представлен сконструированный мною новый миф о Тегерек. Навязав читателю необходимые мифологические представления, которые, как известно, являются средством и способом обобщения и объяснения повседневного эмпирического опыта, а также основной формой выражения и существования духовного опыта. Действие мифа о Тегерек, особенно этиологических, происходит в начальное, сакральное, не эмпирическое время. Начало любого рождения в двумерной плоскости отражается символом круга. Круг носит значение изначального и неделимого единства, в котором сокрыта суть закона цикличности и вечности бытия. Знание о появлении и развитии Универсума в множестве эзотерических традиций опечатано формой замкнутой окружности. Общеизвестно, каждый исследователь мифологии так или иначе формулирует свое отношение к нескольким фундаментальным вопросам. Следует ли рассматривать основные характеристики мифологического мышления как некоторую его недостаточность или же как типологическое своеобразие по сравнению, скажем, с научным мышлением, характерным для современной цивилизации? Каково относительное место личной и коллективной психологии в столкновении и функционировании мифологического мышления?
Нужно подчеркнуть, что мифу не свойственна логичность мышления, его организующие принципы – ассоциации, сопричастность, аналогии по смежности. В этом плане, миф о Тегерек – есть средство поддержания непрерывности, сохранения традиций, есть выражение коллективного бессознательного. Причем, содержание этого коллективного бессознательного – ментальные структуры, иначе говоря закономерности человеческой психики, которые подлежат выявлению при изучении мифа. Чтобы представить мифологию как поле логических операций, нами использован новый миф «Проклятье Круга Зла», в котором используются бинарные оппозиций: добро / зло; темное / светлое; знание / незнание и пр. Логические операции для него – это операции трансформирования, переводящие одну позицию в другую, или так называемые медиации, с помощью которых оппозиция, рассматриваемая как противоречие, делается психологически и социально приемлемой посредством ее замены на ряд последовательных и все менее «интенсивных» оппозиций: деконструкция, символизация, семантизация, сакрализация, концептуализация, философизация. Была ли в результате этого открыта «научная истина»? Скорее да, чем нет. Анализ мифов, проделанный нами и направленный на выявление их глубинной структуры, все же важный творческий труд, однако, интерпретация социального функционирования этой структуры пока остается неполной. Именно этот факт лег в основу дальнейших исследований, но уже в поле гносеонтологического и мировоззренческо-онтологического кругов.
Почему акцент делается на мифологию? В чем заключается скрытый смысл неомифа, как результат деконструкции исходного мифа? Какова значимость современного мифотворчества? Какова нынешняя технология мифопоэтики? Что собой представляет новый жанр роман-миф или роман-предостережение? Какова стратегия научной «верификации» мифа или неомифа? Читатель не может не задаваться подобными вопросами, вникая в суть книги. Постепенно, в процессе осмысления мифа и неомифа вопросы в той или иной мере также будут сниматься и, возможно, лишь теперь, когда читатель понял идею автора, возникает следующий вопрос: что мы сами можем сказать по этому поводу? В чем заключаются истоки данного труда? В литературе рубежа ХХ-ХХI вв. наблюдается тенденция использования архаичных мифов для изображения современной жизни и делается попытка объяснять происходящее через обращение к мифу. На новом этапе развития и национального сознания нашего общества, безусловно, также возрос интерес к мифу и неомифу. В этой связи, очевидно и то, что возросла актуальность философского их осмысления. Следовательно, в науке, культуре, обществе актуализировался этот тип дискурса. В этом аспекте, понятна основная причина всплеск интереса к мифотворчеству – творческие люди, несущие в народ духовную пищу, наконец, начали осознавать свою миссию – стать в той или иной мере мифотворцем. «Мифотворчество есть живая, реальная функция цивилизованного человека», – писал Юнг К. Г. (1875—1961). По мнению многих исследователей, именно через миф человек пытается отыскать примеры в прошлом, в которое он «погружается», а вынырнув из него по-новому осмысливает настоящее и будущее.
В чем заключается пафос нашего сочинения? Очевидно, природа людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям своих предков. Даже если применить современные технологические способы восполнения потери памяти, что-то, а может быть и нечто, будь то важнейшие, галактического значения знания и человеческий опыт, будь то сакральные заклинания наших, в чем-то дальновидных предков к своим потомкам, будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, дорогие образы, память близких и родных безвозвратно теряются даже в течение жизни одного поколения. А ведь речь может идти о таких феноменах человечества, как Зло, с его проклятьем вечного возвращения. Здесь следует отметить, что главным предметом книги является проблема Зла: вечность и цикличность Зла, фабрика и конвейер Зла, пути и способы борьбы с его проявлениями. Тысячелетиями оставались актуальными такие вопросы: что такое Зло? В чем заключается его природа и смысл? Как прервать неизбежность Зла? Когда-то, В. Розанов (1856—1919) в своей книге «Апокалипсис нашего времени» писал: – «…Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для Бога. Что такое произошло – этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. Бороться или победить это – тоже бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она испугана была чем-то в беременности своей и родила «не по мысли Божьей», а «несколько иначе». И вот «божественное» смешалось с «иначе». Речь то идет о вечном проклятии возвращения Абсолютного Зла.
Все надеются, что XXI в. станет веком духовных достижений, которые будут несоизмеримыми по своему значению с материальными, что духовные открытия полностью перевернут наше мировоззрение и сделают нас лучше. Между тем, человечество не раз «переживал» ценный исторический опыт «наступания на грабли». Понятно, что наш мир не совершенен, несовершенны и люди, а потому вероятно то, что мы будем вечно совершать ошибки. Но как научить людей избегать повторения глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? Вот в чем вопрос, над которым бились мыслители многих поколений. Как прервать проклятье Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, найдем ли его решение?! Нужно учесть, что в обществе, в котором мы живем, очень и очень много людей, которые воображают, будто оно может стать иным. Наивность!? Но, тем, не менее… Однажды ступив на путь познания, не остаётся иного выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше. Многие мыслители предлагали свою теорию зла, в которых отражена попытка объединить и примирить два древних и, на первый взгляд, противоположных понимания зла: 1) Христианско-боэцианское (зло – есть отсутствие добра, соблазн или заблуждение); 2) Северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой следует сражаться с оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения многих авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной основе, причем, прежде всего, в себя самом. Понятно и то, что сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны помнить о своей сакральной ответственности. Мы должны быть ответственными, преданными своему народу, так как наши потомки неразрывно связаны с нами, и от нас зависит их процветание или гибель. Нужно готовить людей с очень высоким уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, прозорливости. Таков пафос нашего сочинения.
Что хотелось бы донести до читателей? Почему пришлось полемизировать с мифологическими и неомифологическими идеями? Каковы собственные доводы? Начнем с вопроса: реальны ли мифы и легенды? И да, и нет. Четко определить понятие «миф» непросто. Согласно Ю. Е.Березкину, в научной среде сложились два основных подхода к его определению: 1) Миф как сюжет, имеющий место преимущественно в повествовательных текстах; 2) Миф как концепция, набор убеждений и представлений, не требующих научных доказательств (миф-концепция). Для исследования важны оба подхода, поскольку всякий миф-концепция оформляется в повествовании (нарративе) и именно в виде текста представляет особую ценность для исследователя. Так или иначе, мифы больше похожи на древние тексты великих Мудрецов, которые рассказывают нам о нашем прошлом, о настоящем современном мире и даже о будущем. Они как символы. Чтобы их понять изнутри, нужно иметь немного другой разум, совсем другие знания. А чтобы понять истинный смысл символов того или иного мифа или легенды, нам нужно пройти сквозь их текст, нужно проникнуть вглубь разума того существа, кто их сочинял. Только так мы сможем понять тот истинный смысл, который они хотели нам передать.
Миф, который изложен в данной книге своими символами дал нам более простое знание о борьбе со злом. Разве не заложен в этом смысл? В романе «Тегерек», проклятье Круга Зла мы считали фантастикой, но в романе «Проклятье Круга Зла» она уже оказывается для нас самой настоящей реальностью, от которой нам не уйти. То, что в книге осуществлена первая попытка расшифровать символы Круга, это неслучайность. Через них удается реально увидеть то, что нас ждёт в нашем настоящем и в будущем. А это подталкивает нас к смене приоритетов жизни, к развитию духовности. Общеизвестно, толкование смысла и содержания мифологического дискурса зависит от избранного исследователем подхода к исследованию мифа и мифологического дискурса. В исследовании символов мы осуществили попытку объединения научного знания и простого смысла мифа. Мы использовали методологию оценки интервала абстракции (пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции и границы применимости, установленные на базе огромной информации, касающиеся той или иной проблемы) не только итератизма Абсолютного Зла, но и онтологической недостаточности человека. Итератизм (в пер. с санскрита – повторяемость, кругообразность). Наша абстракция объединяет эти понятия с понятиями познавательных кругов. Насколько удалось связать интервалы абстракции в единую конфигурацию «зло – противодействие злу» судить читателям.
Как известно, А.Ф.Лосев (1893—1988) разработал неклассическое представление о значении символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя, тем самым, момент тождества означающего и означаемого, как значение символа. Такой подход позволяет увидеть значение символа как неравновесную самотождественность его, результатом которой является конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о тождественности символа и обозначаемой символом объективной действительности и вводится вопрос о людях, которые через символ воспринимает и выражает действительность. В этом аспекте, в подтексте книги – это гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла – Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон). Оба этих символа – это схематичное, отвлеченное, многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия или явления. «Тегерек» и «Круг» – симулякры, имеющие два различных значения в зависимости от репрезентативной и нерепрезентативной модели применения. В результате семантизации на смену реальности (Тегерек) приходит гиперреальность или иначе симулятивная реальность (Круг). По сути, в неомифе понятие «Круг» присутствует понятие «Тегерек», как повторение самого себя. В неомифологических текстах показано, что Зло возвращается, как одно и то же явление, но уже в условиях условной различности и многообразия (Ажыдар ↔ радиация). Круг – есть символ не только единства, бесконечности и постоянного возвращения к самому себе, но и несовершенства мира и равнозначности антиномических его феноменов (Сфера / АнтиСфера, Добро / Зло, Система / АнтиСистема, Хаос / Порядок и пр.), так как его центр везде, а окружность – нигде. В целом, миф – это история в символах. Когда-то созданные мифы способны видоизменяться, принимать разнообразные формы, становиться идеологией, эталоном, моделью, программой, видением, принципом, заповедью. На определенные мифы, руководящие поведением индивида и коллектива, ориентируется человеческая психика. В этом плане, основная претензия мифа – исправление бытия, его коррекция, компенсация и попытка идеально реализовать желания и стремления, неосуществимые в прежней жизни. Поскольку миф является ментальной конструкцией, он реализуется в идеях, которые затем оформляются в некую идеологию. Лишь после того, как набор новых идей, направленных на преодоление противоречий мифа и реальности окончательно отливается в завершенную и стройную идеологию, наступает этап сакрализации мифа. Надо всегда помнить одну истину: природа знает причинность, но не цель, а потому добро и зло – исключительно человеческие построения. В этом отношении онтологическая недостаточность человека является фабрикой зла. Как преодолеть эту недостаточность? Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти. А может ли познание выступить универсальной системой против Зла? А с другой стороны, «где ярче свет – там тени гуще». Каково соотношение у людей природного инстинкта, интуиции, здравого смысла, абстрактного воображения, таланта, проницательности. Добро и Зло следует рассматривать как Систему / АнтиСистему. Питаю втайне надежду, что мой интерес к этим проблемам наведет некоторых на мысль о необходимости противодействия злу, но и эволюции человеческого сознания.
Почти у любого из нас, которые не лишены творчества, есть способность, которую называют воображеньем. Настоящее слишком живо раздражает ее, когда же нужнее спокойный и вдумчивый «анализ-синтез» всей массы информации. Иначе говоря, нужна аналитика – больше выводить, чем выдумывать. Конечно же жаль, вместо того, чтобы задумываться над смыслом послания, которое несут мифы, многие исследователи предпочитают деконструкцию и развенчания мифов. Есть два противоположных мнения: с одной стороны, гонители мифов, утверждающие, что пора покончить с мифологическими недомолвками, с иллюзиями, с отупляющими народ и разжигающими страсти мифами, поскольку, чем их будет меньше, тем лучше; с другой стороны, психологи-юнгианцы, полагающие, что мифы – неизбежный и специфический элемент человеческой жизни. По мнению Е.М.Мелетинского (1918—2005), мифология способствует восприятию непонятного, объясняя окружающую действительность посредством более понятных средств.
Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию – идеальную форму взаимодополнительности «Мифа» и «Логоса». Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от Мифа к Логосу? Прежде всего – это движение: 1) От слитности субъекта и объекта к их различению; 2) От разграничения «Я» от «не-Я» к четкому пониманию их взаимооппозиции; 3) От представления к понятию; От предмета к образу; От мироощущения к миропониманию.
Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование его на бытие в целом. Важно заметит, что, независимо, какова концепция мифа, имеет исключительное значение способ его выражения. Нами выбран стиль художественно-философского сочинения. Как известно, налет литературности присущ почти любому философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, что любой философ заботится о языке своих сочинений: 1) Старается подобрать наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; 2) Стремиться сделать свой текст как можно более понятным; 3) Использует риторические украшения для удержания внимания своего читателя.
Многие философы считают, что мифы – это чистый вымысел, составленный кем-то с заранее определенной целью. В некоторых мифах содержится зерно истины, однако, среди огромного числа двусмысленностей и искажений это зерно совсем теряется. Между тем, сам миф все равно сохраняет некоторую атмосферу правдивости. В этом аспекте, мифы нужно хорошо осмыслить, обосновать, то есть «подогреть», прежде чем в них вспыхнет огонек убедительности. Такова логика действий создателей мифов. Так как, мифы лежат в основе оценки событий, то ясно, что мы никогда не сможем верно понять такую оценку, пока не рассеем иллюзорной подоплеки и не заменим ее истиной. Справиться с этой задачей могут в первую очередь философы. Во все времена философы в пух и прах разносили мифы, анатомируя и объясняя их сущность и выковыривая из них истину.
Существует целый ряд факторов, способствующих реализации авторских идей: 1) Опора на мифологические источники; 2) Постоянство и вариативность метафор; 3) Ориентация на последовательное воплощение наиболее стойких сюжетных схем; 4) Синтез естественного и сверхъестественного; обращение не к рациональному, а эмоциональному; 5) Через идентификацию и стандартизацию идей, ситуаций, характеров; 6) Мозаичность, серийность, интуитивное угадывание подсознательных интересов потенциальных читателей и пр. С одной стороны, они усложняют процесс восприятия, ну, а с другой – заметно унифицируют подходы к освещению проблем. Считают целесообразным выделить несколько этапов. Первый. Выявление фольклорных/мифологических стереотипов медиатекста. Целый ряд положительный персонажей – простых людей, живущих простой жизнью в ограниченных условиях скудного региона. На фоне положительных персонажей выделяется лишь один отрицательный персонаж – Кара-Бахши. Все события разыгрываются вокруг противопоставление целого рода-племени и единственного отрицательного героя, тем самым показывая то, что даже одно Зло может эффективно бороться против Добра и во имя Зла. Видя то, что он – Широз-бахшы не может одолеть заговоры Ак-киши-олуя по поводу заточения ажыдара он находить свою погибель из-за тайной книги. Второй. Выявление ряда кругов действий положительных персонажей и Широз-бахшы с фольклорной- мифологической основой: 1) Круг действий Кара-молдо; 2) Круг действий кара-кулов – охранителей могилы Зла; 3) Круг действий людей, живущих рядом с кара-кулами и помогающих им в борьбе со злом. Третий. Коллективная жизнь и психология кара-кулов с фольклорной/мифологической основой. Автором выбран особый стиль повествования мифа. Можно проследить специфику изобразительного и/или визуального решения в текстах, основанных на мифах и легендах «края каньонов и пещер».
Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах. В романе «Тегерек» – миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена в краю каньонов и пещер. Это всегда рассказ о некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило. Мифология – это возможность прочесть утраченные страницы прошлого, вспомнить былой Дух, Сакральность, Нравственную сущность, Мировосприятие, не забывая при этом наше настоящее. В мифе констатирующий компонент представляет какую-либо данность: эмпирический факт, спонтанный феномен психики, мысленный конструкт. В романе «Тегерек» речь идет о горе Тегерек, пещерах, каньонах, вокруг которых сложены легенды и предания. Они выступают для людей, обитающих в тех краях, как объект чувственного восприятия, тогда как существенные характеристики их скрыты. Однако, они по этой причине вызывают у них соответствующий интерес. Из элементов, компонентов постепенно создается ткань мифа, в результате осмысления которого у людей появляется новый познавательный уровень, как переход от поверхностных представлений о явлениях к их причинам, генезису, динамике. Самыми распространёнными является компонент мифа, содержащий в себе каузальные объяснения. В романе «Тегерек» обсуждается ряд вопросов: почему, пещеру (Кара-камар, Астын-устун, Келин-басты) отождествляют с темными силами? Откуда названия Ажыдар-сай, Кара-даван, Ак-суу, Чоюнчу, кара-кулы? Целью мифа о Тегерек было формулировка неких эпистемологических и гносеологических качеств объяснения. Каким видится человеку объясняемое явление? Как человек идентифицирует это явление? Какое представление об этом явлении складывается в сознании этого человека? Между тем, чем адекватнее явлению этот образ, тем адекватнее будет и его объяснение, и наоборот. Данный образ выступает в роли детерминанта содержания объяснения, поскольку с ориентацией на него, в соответствии с ним субъект конструирует содержание объяснения.
Изначально миф о Тегерек публиковался под названием «Тегерек». Восточная культура разнолика, сложна и не всегда понятна европейцу с его особой системой ценностей. Сконструированный миф подвергся деконструкции, на основании чего была сконструирован неомиф. В нем стираются различия национальных культур, мысль автора устремляется далеко в будущее, в мировую культуру, планетарную цивилизацию. Мы акцентируем мифологическую составляющую образа «Гора-саркофаг Тегерек». Это символ в романе «Тегерек», как нарратив являет собой сложный и многозначный символ. В связи с ним возникает, прежде всего, мотив сакральной связи горы-саркофага Тегерек и саркофага, сооруженного над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Мы постарались, органично соединить в своем неомифическом повествовании естественнонаучные знания и мифолого-символический пласт архаических событий. Мы, в нашем неомифе, актуализируем единство человека и природного мира через изображение различных проявлений абсолютного зла. Природное в художественном дискурсе имеет двойственную основу: реалистическое описание глубоко символично, каждый конкретный факт находит свое архетипическое объяснение.
Важную роль играет мифологема горы, рек, пещер, каньонов, заклятий. Особую роль в мифе играет образ пещеры, как темной пустоты, архетипически связанный с темными силами зла. Только в отличие от традиционного символа река «Ак-суу» напротив, выступает на стороне добра. Это река помимо географического фона, выступает в качестве многозначного символа избегания зла. Мною используются фольклорные мотивы гор и пещер, прежде всего, в качестве соответствующих символов: Гора – Сфера, Пещера – АнтиСфера, а не в качестве метода усиления зрелищности и эмоциональной притягательности. Мифологические и неомифологические сюжеты куда сложнее. Они дают старт посмотреть на самого себя в прошлом, наблюдать разницу текущего состояния, бросить взгляд на будущее.
Неомиф в той или иной мере насыщен символами, опирающиеся на географическую реальность, но фактически императивно над ней властвующие. Г. Гейне (1797—1856) однажды написал: «Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта». Мы можем сказать, что, когда гора-саркофаг Тегерек раскалывается, трещина проходит через людские сердца. Старцы остро чувствуют свою миссию по борьбе с ажыдаром. Ответственность, совесть и храброе сердце – вот то, что нужно для противодействия злу в любом его обличии не только в те далекие мифологические времена, но и сейчас. Возможно, даже в большей степени, чем в прошлые века. В неомифе мы возвращались к этой проблеме уже на современном уровне с накопленным за это время более широких и глубоких познаний, и, конечно, мы должны, даже обязаны по-другому относится и действовать во имя идей, заложенных еще в сакские времена. Таков лейтмотив неомифа. Такой культуросозидающий пафос вливается в идею о создании особого учения – итератизма. Однако, мы акцентируем на то, что сама природа человеческой мысли – это ускользающая тайна, мучительная загадка… Не секрет, что часть людей понимают утопичность наших мыслей о «новой технологии» ликвидации онтологической недостаточности людей, как фабрики Зла. В мифе словами Ашим-бава, Айсулуу-эне постоянно говориться о необходимости повышения познавательного уровня людей, о подъеме, о преодолении себя через делание, освоение, улучшение мира. Так рождается мифологема «светлого будущего» как «мира без ажыдара», на основе чего нами актуализируются проблема борьбы против Зла через концептуальное развитие проблемы, как таковой и философских размышлений. В романе представлена дихотомия «Добро / Зло». Соединив реальную географию с мифологической, мы через личности положительных и отрицательных героев, их мировосприятии и жизнетворчество, попытались создать неомиф.
Итак, неомиф – это повествование определенного сюжета с использованием целого арсенала образности, в первую очередь – литературно-мифологической, на основе которого выполняется попытка ответить на вечные экзистенциональные вопросы (жизнь, смерть, добро, зло), стоящие перед человеком во все времена. Целью неомифа – это обращение исследователя к вечным универсалиям в целях реактуализации глубинных реакций человека на те или иные ценности. Они продиктованы особенностями авторской концепции, индивидуальным подходом в постановке социальных и нравственно-философских вопросов современности. Неомиф раскрывает глубинные аспекты бытия, в которых присутствует прием потока сознания, мифоаналогии, образного мышления. Неомиф – это новый вариант мифопоэтики, связанные с традицией переплетения настоящего, прошлого и будущего, где новое по-иному раскрывает старое. Главная задача – это создание нового отношения к действительности путем пересмотра серии забытых миропониманий. Неомиф рождает широкий символизм, художественный образ обретает синтетическую природу, многозначность, многоплановость символа-мифа. Признавая то, что фабрикой Зла является не что иное, как онтологическая недостаточность самого человека, мы искали ответ на вопрос, как ликвидировать истоки Зла, попытавшись переделать главную эту причину через Познание самого себя и окружающий нас мир, через Духовность. В мире, как писал А. Шопенгауэр (), одинаковых людей не бывает. Различие людей может быть сведено к трем основным категориям: что за личность? что он имеет? что он представляет собою? Автор убеждает нас в том, что «то, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира», то есть мир, в котором живет человек, зависит, прежде всего, от того, как его данный человек понимает, а, следовательно, от свойств его мозга. Именно индивидуальность определяет меру возможного для него успеха, благополучия, признания, счастья. Причем, на первом месте стоит духовные силы, а затем образование.
Понятно, что человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значения. Именно у такого человека сохраняется потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять. Богато одаренный человек живет, наряду со своей личной жизнью, еще второю, а именно духовною, постепенно превращающуюся в настоящую его цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда как остальные люди именно личную жизнь считают целью. Таким образом, человек гораздо менее подвержен внешним влияниям, чем это принято думать, а потому использовать свои индивидуальные свойства с наибольшей выгодой, сообразно с этим развивать соответствующие им стремления – это и есть истина. Однако, в жизни происходят самые невероятные проявления индивидуальности, характеристиками которой являются определенное соотношение таких психологических феноменов, как природный инстинкт, интуиция, здравый смысл, разум и рассудок, способность к абстрагированию, проницательности, и наконец, таланта и гениальности.
Умственно недалекий человек может добиться впечатляющих успехов в различных сферах деятельности только из-за того, что обладает хорошими природными инстинктами, помогающими ему вовремя сориентироваться в жизненных ситуациях. Напротив, человек с высокими умственными способностями, но не имеющими природных инстинктов, может упустить жизненные возможности. Или взять другой пример. Малообразованный человек от природы с небольшими умственными способностями, но живущий по принципу здравого смысла, может достигнуть в жизни много, тогда как одаренный и интеллектуальный человек, прозябать в жизни из-за того, что живет, не соблюдая этот принцип. Однако, в любом случае тупость ума всегда сочетается с притупленностью впечатлительности и с недостатком чувствительности, а эти свойства делают человека менее восприимчивым к страданиям и печалям. Наоборот, нескончаемый поток мыслей, их вечно новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность и стремление к все новым и новым комбинациям их – все это качество одаренного ума. Кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все человечество, для того существует лишь одно счастье: иметь возможность развить свои способности и закончить свои труды, и одно несчастье: не иметь этой возможности. С другой стороны, ум, далеко превышающий среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Если же сочетаются материальный достаток и великий ум, то в этом случае счастье обеспечено, такой человек будет жить особою, высшею жизнью, так как он застрахован от обоих противоположных источников страданий – нужды и скуки. Ну, а если он материально не обеспечен? Следуя вышеприведенной логике, судьба человека зависит от удачного соотношения ряда феноменов: природного инстинкта и интуиции; здравого смысла и рассудка; способности к абстрагированию и проницательности; гениальности и трансцендентного воображения? Не является предпосылкой зла именно неадекватное соотношение этих феноменов в том или ином человеке? Ставя такие вопросы, я подумал, что теперь более, чем когда-либо, нужно обнаружить с наружу всё, что есть внутри, чтобы понять, из какого множества разнородных начал состоит наша природа.
Философский анализ мифа о Тегерек будет идти следующим образом. Прежде всего попытаемся установить действительный смысл этого мифа. Потом сравним этот смысл с философских учений об Абсолютном зле. После выявим, какие утверждения миф заранее предполагает и какие из него следуют. И, наконец, необходимо ясно показать воздействие мифов на поведение и поступки человека. Учения о Зле носят подлинно философский характер, так как принадлежат к наиболее широким обобщениям. А теперь пришло время пригласить читателя заглянуть в глубь вопроса, независимо от того, стал ли он философом по выбору, по случаю или по склонности. Кто же такой мифотворец? Прежде всего, это идеальный планировщик бытия, расписывающий реальность, отсекая лишнее и додумывая отсутствующее. Он аргументирует, убеждает, выступая, одновременно, резонатором и толкователем мифа. Мифотворец, конструируя неомиф, выступает не только архитектором времени и пространства, связывая их в прошлое, настоящее, будущее, но и архитектором новых смыслов. Из колоды рассыпающихся смыслов архаичных мифов. Между тем, в авторской книге, надо признать, это весьма интересная рефлексия ученого и философа с его попыткой реферативно описать мир Абсолютного зла и миропрактики борьбы с ним. Нельзя не отметить, что автор выступает и в качестве реаниматора утраченного смысла или проблем запоздалой родовой идентификации. Что это даст? Чтобы строить свои родовые истории? А может быть порождать и выпускать своих ажыдаров?
В чем заключается логика сочинений? Нужно отметить, что процесс осмысления мифа, а также конструирования неомифа осуществляется в форме поступательно-возвратного движения. Так, поняв одно в исходном романе «Тегерек», а также в романе «Проклятье Круга Зла», которых, как было сказано выше, следует воспринимать как нарратив опыта деконструкции мифа, мы, с опорой на них можем сконструировать другое, а затем от другого возвратиться к первому. В результате такого движения процесс интерпретации приобретает циклический характер и постепенно продвигается вперёд к полному истолкованию всего текста и созданию на этой основе неомифа. Разумеется, при условии, когда метафоры содержательно и логически согласуются с другими элементами соответствующей структуры, если смысл этой структуры оказывается непротиворечивым, лишь тогда образуется цельный смысловой контекст неомифа. Возможность такого взаимообусловленного и прогрессивно развивающегося процесса обеспечивается тем, что каждый фактор во всяком цикле этого процесса приобретает некоторую долю новой информации, с помощью которой удаётся сформировать новую долю информации о другом факторе. Затем эта процедура реализуется в обратном направлении, и мы получаем новую информацию о первом факторе. Такова, как нам кажется, технология конструирования неомифа. Итак, информация об одном из факторов постепенно пополняясь, создаёт предпосылки для увеличения информации о другом факторе. Такое, скажем «парциальный» способ преодоления информационной недостаточности движется по кругу, приобретая новый, более высокий уровень обобщения. Так создается теория кругов или предвестник создания нового учения, название которому итератизм.
§2. Формирование научно-мировоззренческих аспектов аргументации итератизма. На наш взгляд, исследования переходных состояние от мифологической образности к понятийному мышлению, (от Мифа к Логосу), а также от неполноты к полноте осмысления демонстрирует целостность философии, лежащей в основе мировоззрения. О.М.ФрейденБерг (1913—2006) пишет: «Так примерно продвигается вперед вся человеческая культура. Условная от конца и до начала, возведенная из кирпичей давно забытого мировосприятия, она беспрерывно претендует на логичность и целесообразность своих выражений. Она верит в прогресс и в новшество. Наука осторожно и скромно поправляет в ее руках вожжи». Предметом семиотики объявляются знаки, знаковые системы и все аспекты их функционирования и структуры. Интерес к проблемам устройства и работы знаковых систем прослеживается с очень давних времен. К предшественникам семиотики относят Платон (428—348 до н. э.), Августина (354—430 до н.э.), Лейбница (1646—1716) и многих более поздних мыслителей. Если логика изучает знаковые системы в их отношении к абстракции истинности, то семиотика делает упор на функционирование реальных систем, при том что эта реальность a priori может быть неосознанной и неэксплицированной. В таком случае сам акт экспликации может иметь значительные и неожиданные последствия, подобно психоаналитическому сеансу.
Нам кажется, научный прогресс стал быстрее, даже много быстрее, но не приобрел качественно нового характера. Понимание остается делом индивидуального сознания и, я бы сказал, каждый раз актом личного мужества. Научных прорывов, связанных с ростом объема и скорости коммуникации в научной сфере трудно представить. Однако один футуристический сценарий напрашивается. Может оказаться, что мы приближаемся к пределу, за которым интересующую нас информацию о природе мы просто не сможем воспринимать, не столько из-за ее объема, сколько из-за величины ее сложности. Иными словами, даже в максимально сжатом виде (в виде кодов и символов) ее будет слишком много. Если мы не захотим отказываться от накопления научного знания, эту задачу придется передать искусственному интеллекту. Семантическое поле понятия «разум» очень широкое, в частности, оно имеет, по убыванию масштабов, эволюционный, цивилизационный и личностный пласты. Тьюринговский анализ интеллекта может быть правильно оценен только в рамках этой, центральной для него, парадигмы: «Разум есть специфическая деятельность». С чем мы имеем дело сейчас, с гениальными догадками или с фундаментальными заблуждениями? К примеру, дарвиновской теории эволюции и работы мозга. Знаем ли мы правильный язык для описания этих процессов, если учесть тот факт, что впереди нас ожидает полная смена основных парадигм?
Оба круга представлений, об эволюции и о мозге, состоят из двух компонентов: очень обширные наблюдательные данные и очень примитивные качественные представления о том, как эти штуки могут работать. Искусственный интеллект открывает принципиальную возможность дополнить эти качественные представления количественными оценками и прогнозами на этой основе. Ученые полагают, что даже при такой возможности для переработки тех объемов информации, с которыми имеют дело эволюция и человеческий мозг, у искусственного интеллекта не хватит ресурсов, если принять то, что мы правильно понимаем, как работает искусственный интеллект. Данный вопрос не праздный для философии. Вопросы просвещения, просвещенской культуры, формирования мировоззренческой культуры личности и общества в целом в настоящее время обстоит очень остро. Как известно, просвеще́ние – это передача, распространение знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве; система культурно-просветительных мероприятий и специальных учреждений страны.
И. Кант (1724—1804) утверждает, что просвещение заключается в «развитии своего разума» через мышление вне простых и удобных рамок догмы и общепринятых формул. «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого», – пишет он. Вообще, просвещение, по сути, состояло из веры в то, что расширение знаний, применение разума и преданность научному методу приведут к большему прогрессу и счастью человечества. Впервые в истории был поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития. Философия просвещения пытается систематизировать и категоризировать всю предыдущую теорию знания. Мыслители эпохи Просвещения (XVII—XVIII вв.) были уверены, что корень всех бед в невежестве и главная роль в развитии общества принадлежит образованию. Какова цель философии просвещения и образования? Философы и другие теоретики образования предлагали множество целей: 1) Развитие любознательности и склонности к исследованию; 2) Поощрение творчества, нравственного мышления, чувств; 3) Получение знаний и воспитание знающих учеников. Согласно определения, философия образования – исследовательская область философии, анализирующая основания педагогической деятельности и образования, его цели и идеалы, методологию педагогического знания, методы проектирования и создания новых образовательных институций и систем. Философия образования составляла немаловажный компонент систем великих философов. Так, проблемы образования обсуждались Платоном, Аристотелем, Я. Коменским, Дж. Локком, Гербартом. Целая эпоха в развитии философии непосредственно связана с идеалами Просвещения. В философии XIX в. проблема образования человека рассматривалась как центральная (Гердер, Гегель и др.). В России это относится к педагогическим идеям В.Ф.Одоевского, А.С.Хомякова, П.Д.Юркевича, Л.Н.Толстого. И в ХХ в. многие философы применяли принципы своей философии к изучению проблем образования (Д. Дьюи, М. Бубер и др.). Философия, обращаясь к педагогической теории и практике, к проблемам образования, не ограничивалась описанием и рефлексией о сложившейся системе образования, ее целях и уровнях, а выдвигала проекты ее преобразования и построения новой системы образования с новыми идеалами и целями. Еще в 1930-х гг. ХХ в. педагогика трактовалась как прикладная философия (С.И.Гессен). Современная философия образования выдвигает новые ориентиры для реорганизации системы образования, артикулирует новые ценностные идеалы и основания новых проектов образовательных систем и новых направлений педагогической мысли.
Основными причинами формирования философии образования как особой исследовательской области философии являются: 1) Обособление образования в автономную сферу жизни общества; 2) Диверсификация институций образования; 3) Разноречье в трактовке целей и идеалов образования, которое фиксируется как многопарадигмальность педагогического знания; 4) Новые требования к системе образования, связанные с переходом от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Основное размежевание внутри философии образования проходит между эмпирико-аналитическими и гуманитарными направлениями и отражает альтернативные подходы к субъекту образования – человеку. Эмпирико-аналитическая традиция в философии образования использовала понятия и методы бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, а также кибернетический подход к психике человека. Собственно аналитическая философия образования возникает в начале 1960-х гг. ХХ в. в США и Англии (И. Шеффлер, Р.С.Питерс, Е. Макмиллан, Д. Солтис и др.). Основная цель философии образования усматривается в логическом анализе языка, употребляемого в практике образования. В кон. 1970-х гг. ХХ в. аналитическая философия образования осуществляет переход от принципов логического позитивизма к принципам философии лингвистического анализа, к аналитике обыденного языка, прежде всего к философии позднего Л. Витгенштейна (1889—1951), подчеркивая роль «языковых игр» и семантики в образовании. В конце 1960-х гг. ХХ в. в философии образования формируется новое направление – критико-рационалистическое (К. Поппер, В. Брецинка, Г. Здарзил, Ф. Кубэ, Р. Лохнер и др.), для которой характерны: 1) Трактовка педагогики как прикладной социологии и поворот к социальной педагогике; 2) Противопоставление социальной инженерии холизму и в связи с этим критика долгосрочного планирования и проектирования в педагогической практике; 3) Критика тоталитарного подхода в образовании и педагогическом мышлении и отстаивание принципов «открытого общества» и демократических институций в управлении системой образования; 4) Ориентация педагогической теории и практики на воспитание и образование критически-проверяющего разума, на формирование критических способностей человека.
Истоками гуманитарных направлений в философии образования являются системы немецкого идеализма начало XIX в. (Ф. Шлейермахер, Гегель), философия жизни (В. Дильтей, Г. Зиммель), экзистенциализм и различные варианты философской антропологии. Для гуманитарных направлений в философии образования характерны: 1) Подчеркивание специфичности методов педагогики как науки о духе, ее гуманитарная направленность; 2) Трактовка образования как системы осмысленных действий и взаимодействий участников педагогического отношения; 3) Выдвижение на первый план метода понимания, интерпретации смысла действий участников образовательного процесса. Внутри гуманитарной философии образования можно выделить несколько направлений: 1) Герменевтический историзм, в центре которого понятия «повседневность», «жизненный мир» человека; это направление отстаивает мысль о том, что в любом жизненном акте существует образовательный момент, а задача философии образования трактуется как осмысление всех духовных объективаций человека, образующих некую целостность, ответственность; 2) Структурная герменевтика, которые, исходя из автономии образования в современном обществе, рассматривают педагогику и философию образования как критическую интерпретацию педагогических действий, подчеркивают значение герменевтики в педагогической теории и практике; 3) Педагогическая антропология, представленная в различных вариантах – от натуралистически ориентированных (Г. Рот, Г. Здарзил, М. Лидтке) до феноменологических (О. Больнов, И. Дерболав, К. Данелт, М.Я.Лангевелд); 4) Экзистенциально-диалогическая философия образования (М. Бубер, А. Петцелт, К. Шаллер, К. Мелленхауэр и др.), усматривавшее смысл и основания педагогического отношения в межличностных связях, во взаимосвязи «Я» и «Ты».
В 1970—80-е гг. ХХ в. становится популярным критико-эмансипаторское направление в философии образования. С этим направлением во многом смыкается постмодернистская философия образования, которая выступает против «диктата» теорий, за плюрализм педагогических практик, проповедует культ самовыражения личности в малых группах (Д. Ленцен, В. Фишер, К. Вюнше, Г. Гизеке, С. Ароновитц, У. Долл и др.). В советский период различные направления в философии образования получили в трудах П.П.Блонской, Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Г.Л.Щедровицкого, Э.В.Ильенкова и др. Общими тенденциями философии образования накануне XXI в. являются: 1) Осознание кризиса системы образования и педагогического мышления как выражение кризисной духовной ситуации нашего времени; 2) Трудности в определении идеалов и целей образования, соответствующего новым требованиям научно-технической цивилизации и формирующегося информационного общества; 3) Конвергенция между различными направлениями в философии образования; 4) Поиски новых философских концепций, способных служить обоснованием системы образования и педагогической теории и практики (выдвижение на первый план феноменологии, поворот к дискурсному анализу (М. Фуко и др).
С философией образования наиболее тесно связана мировоззренченская культура, которая представляет собой совокупность источников и способов познания человеком мироздания, сущности самого человека и его отношения с Миром, а также тех учений, теорий, идей, которых он стал придерживаться в результате познания. Мировоззренческая культура включает в себя религию, нравственность, философские взгляды, духовные потребности. Уровень развития мировоззренческой культуры есть показатель духовности человека и общества. Мировоззрение есть плод глубокой мыслительной деятельности самой личности, перед которым стоит духовная задача – осмыслить собственный жизненный путь: во имя чего жить, во что верить, чем заниматься. Мировоззренческая культура личности проявляется в широком кругозоре, в способности выработать свой собственный взгляд на мир и происходящие в нем процессы, в умении обосновать свою позицию. Верить или не верить – личное дело каждого, но хорошо, когда в основе выбора лежит личное убеждение, а не чья-то добрая или злая воля. На наш взгляд, в стандарт образования обязательно должна быть заложена идея атеизма. Эти мысли нами изложены в книгах «Религия / АнтиРелигия» (2022), «Поиск истины» (2023). После распада СССР возник духовный вакуум, в который устремилась самая разноликая псевдо духовность, религиозность, не подкрепленная верой. Человек, ориентированный на личностное развитие, не принимает слепо мировоззренческую идею, а вырабатывает свою позицию, анализируя разные взгляды, знакомясь с новейшими открытиями в науке, исследуя свой внутренний духовный мир. Духовно развитый человек не отвергает, не разобравшись, другое мнение, проявляет терпимость к иному миропониманию.
Наш культуросозидающий пафос на основе необходимости новой научно-мировоззренческой культуры, как нами подчеркивалось выше, вливается в идею о создании особого учения – итератизма. Вечное возвращение – это концепция, которая была сформулирована Ф. Ницше (1844—1900) в его работе «Так говорил Заратустра». Согласно этой концепции, все явления и события в мире повторяются бесконечно, как будто они возвращаются к своему началу. Он утверждал, что все, что происходит в мире, имеет свою причину и следствие, и что эти причины и следствия снова и снова повторяются в бесконечном цикле. Он считал, что этот цикл вечного возвращения является основной характеристикой жизни и природы. Концепция вечного возвращения имеет свои корни в философии Платона (428—348 до н. э.) и Аристотеля (384—322 годы до н.э.), которые также считали, что мир состоит из повторяющихся циклов. Однако Ф. Ницше (1844—1900) пошел дальше и утверждал, что эти циклы не только повторяются, но и что они постоянно меняются и развиваются. Для него концепция вечного возвращения была способом понять, как мир функционирует и как мы можем жить в нем. В целом, концепция вечного возвращения представляет собой философскую идею, которая подчеркивает, что все в мире меняется и развивается, но также возвращается к своим истокам, но на более высоком уровне (в нашем понимании).
Как известно, В.Н.Сагатовский выделяет: 1) Онтолого-мировоззренческий круг – это наличие взаимной обусловленности мировоззрения и онтологии. Определенные положения онтологии обосновывают определенные мировоззренческие установки и наоборот – под предпочитаемые установки подыскивается соответствующая онтология (чаще всего подсознательно); 2) Мировоззренческо-онтологический круг – это взаимная обусловленность определенного мировоззрения, как совокупности ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно места человека в мире и смысла человеческой жизни, и определенной онтологии как философского учения о мире. Онтология обосновывает мировоззрение, но мировоззренческие установки определяют предпочтение той или иной онтологии. По автору, мировоззрением – это совокупность ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно мира, человека и его отношений. Системообразующим началом мировоззрения является основной вопрос мировоззрения – о месте человека в мире и смысле человеческой жизни. Онтология – это философское учение о мире, т.е. о всеобщей структуре мира-универсума и любого сущего. Онтология как наука выстраивает категориальную структуру, онтология как вид литературы осмысляет уровень всеобщего посредством переживаний и воплощения их в символах (метафорах, концептах). Определенная онтология обосновывает определенное мировоззрение, но в то же время определенное мировоззрение выбирает под себя (чаще всего, разумеется, подсознательно, если речь не идет о конструировании идеологического мифа) определенную онтологию. Таким образом создается своеобразный круг.
В чем заключается идея и пафос предлагаемого сочинения? Кому оно адресовано? Что хочет сказать или доказать автор? Что он пытается до нас донести? С какими идеями полемизирует автор и какие собственные доводы он приводит в ответ? Прав ли автор в интонациях и акцентах? С подобных вопросов, как правило, читатель начинает обсуждать произведение. Постепенно, в процессе чтения указанные вопросы в той или иной мере снимаются и лишь в конце прочтения читателю, возможно, в той или иной степени удастся сформулировать то, что можно назвать точным обобщением основной идеи автора. На сегодня сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и литературных философов. Вначале о рациональной философии: 1) В текстах всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее читатель, когда каждое предложение автора осмысленно, а текст выражает последовательность взаимосвязанных мыслей; 2) Аргументация мыслей идет от логики и данных наук, опираясь на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы; 3) Голословно не внушаются авторские идеи читателю, а аргументация убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности и пр. Между тем, стиль художественно-философского сочинения как смесь литературной и рациональной философии имеет ряд преимущества в аспекте полноты изложения материалов.
Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим критериям: 1) Если для рационального философа главное – это мысль, последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то второстепенным, порой даже несущественным; 2) Если рациональный философ сначала формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль; 3) В текстах литературной философии вместо рациональной аргументации используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно этим объясняется широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и прочих литературно-художественных приемов; 4) Невозможность построить критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо то, что формируется «мозаичный» текст, некая бессвязность, расплывчатость, умозрительность; 5) Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, пришлось труд разделить на две части по степени доминирования того или иного стиля.
Как известно, осмысление реальности – традиционная тема философии. Человек ощущает реальность изнутри, внутри себя и извне, выступая в роли наблюдателя, созерцателя, постороннего. Сторонники естественных наук часто бывают склонны к преувеличениям. Некоторые из них полагают, что наукой имеет право именоваться только наука естественная, констатирующая объективные факты, исследующая реальность при помощи измерительных приборов и обнаруживающая каузальные взаимосвязи. По этим же критериям они оценивают психологию. Психология и гуманитарные науки начинаются лишь тогда, когда наблюдения, статистические данные, так называемые объективные факты и пр. подвергаются интерпретации, когда исследователь задается вопросом о мотивах, стоящих за поведением и чувствами индивида, группы и общества. Однако именно на этом этапе возникает мифология, поскольку зафиксировать психологический феномен можно только с помощью метафор, образов и пр. Что же такое философское иносказание? Это художественно-философский прием отображение одного феномена через другого путем создания метафоры. Метафора рассчитана на небуквальное восприятие и требует от читателя умения понять и почувствовать создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. В нашей книге, по сути, речь идет о способе образования новых философских категорий.
Теперь, что касается знака или символа Круга. В нашем случае, круг – это содержательная единица сознания, мысль, связанная с явлением нескончаемости Зла. Разумеется, круг содержит в себе самые общие сведения о предмете без намёка на какое-нибудь специальное предназначение, направленность. А если рассматривать круг, как единицу в качестве связки подсказывающую возможную этимологию термина «смысл»? Как известно, у смысла есть функция – достичь определённого результата или эффекта. Он оказывается наделённым определённой значимостью, ценностью для взаимодействующих в процессе коммуникации людей, являясь аксиологическим, социокультурным и ментальным феноменом. Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума читателя научные знания? Автор считает такое возможным, если использовать триадный принцип познания: популяризация →, концептуализация → философизация. Как ученый-философ, как писатель-фантаст из романа в роман («Пересотворить человека», «Грани отчаяния», «Тегерек», «Биовзом», «Развенчание мифов», «Фиаско», «Клон дервиша», «Биокомпьютер») создал целую галерею персонажей, представляющих научный мир, которым подвластны смелые научные эксперименты. Разумеется, были у них завистники и оппоненты, которые считали, что авторские идеи слишком абстрактные, отражают абстрактность и сложность научного подхода к излагаемым проблемам. Но интересен не столько анализ художественного уровня научно-фантастических романов автора, сколько анализ культурной мифологии медиатекста, то есть выявление и анализ сконструированных автором мифов и легенд. Разумеется, надеюсь на понимание моих опытов конструирования и философского анализа мифов, тесно связанных с сверхактуальными проблемами современности – Абсолютное зло, эвтаназия, роботохирургия, пересадка головы, клонирование человека и пр. Между тем, взаимосвязь необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих архетипов имеет очень большое значение, прежде всего, для популяризации науки и новых технологий, для актуализации идейных горизонтов мифов и неомифов.
Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или отрицание. Дело в том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить в очень и очень узком кругу учений. Куда больше религий признают существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. И всё же хотелось бы сказать: попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть может, автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинное» значение? А если взять за основу несколько вариантов: 1) Антропоморфный Дьявол – некий зловещий тип, который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; 2) Дьявол-отступник – это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого воображения; 3) Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор». В качестве мифологического нарратива или «бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема «нарратив – метафизика – философская импликация» важна для эффективной популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: 1) От простого к сложному; 2) От единичного к общему, через особенное.
Изображённые события и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации текстовых стратегий всех частей книги. В чем заключается необычность сочинений? Прежде всего, нарративы представляют собой новый синтетический жанр научно-философского толка, тексты которых порождены авторским мифосознанием и представляют собой не что иное, как индивидуально-авторское смысловое и структурное единство, адресованное читателю. То есть они воссозданы через призму индивидуального авторского видения с целью целенаправленного создания, вначале мифа, а затем соответствующего ему неомифа. Для чего это было сделано? Прежде всего, для воздействия на читательское сознание через раскрытие смысла новых вызовов и угроз, связанных с проблемой Зла и борьбы с его проявлениями. Юнгианская тень присутствует всегда, в том числе как проявление зла. Поэтесса А. Ахматова (1889—1966) писала: «Будущее, как известно бросает свою тень задолго до того, как войти». Исламский богослов Ибн Таймия говорил: «Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте». Понятно, что здесь невозможно обойтись без теории, а потому мною выбран стиль целенаправленного научно-художественного дискурса писателя и философа в одной голове. Какова идея и что за пафос произведения? В чем заключается логика сочинения? Вполне допускаю, что моя книга, возможно, смутит и озадачит читателей, ибо, она написана, с одной стороны, в новом, так называемом синтетическом жанре (роман-миф, роман-предостережение), а с другой – представляет собой результат конструирования и комплексной научной верификации мифа и неомифа (деконструкция, символизация, концептуализация, философизация, семантизация, сакрализация). Надеюсь, что любой предвзятый читатель поймет правду того, что, казалось бы, непритязательные художественные сочинения автора, оказывается: 1) Содержат заметный комплекс актуальных философских проблем; 2) Философия оказывается окружает нас всюду и везде, что даже на сельской периферии где-то там Богом забытом краю, мы сталкиваемся с ней каждодневно. Впрочем, автор далек от того, чтобы навязывать свое понимание и свои философские доводы кому бы то ни было. Надеюсь, читатель сам сделает соответствующие выводы, проявив уже некую причастность к философии.
Один из мудрецов сказал: «Мало знать путь, нужно суметь по нему пройти». В свое время Л.Н.Гумилев (1912—1992) писал: «…то, что ценой жизни устанавливается ученым-исследователем, обывателю зачастую непонятно и неинтересно. А то, что выдумано с расчетом на уровень читателя – легко усвояемо». Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума читателя научные знания? Считаю такое возможным, если использовать триадный принцип познания. Здесь я сошлюсь на свое научное открытие [«Закономерность формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры («Теория Ашимова»). – Дипл. №67-S. – М., 2018]. Так вот, при помощи непрерывного, последовательного, динамичного и трехфазного познавательного процесса («популяризация», «концептуализация», «философизация») осуществляется перенос моделей знания из менее развитого в более развитое, в конечном итоге, определяющий процесс «приращения» новых знаний в культурную ткань человечества. Именно такой уровень мироощущения и мировоззрения придаст каждому из нас уверенность в том, что наши мысли научились летать и имеют свои горизонты, что мы уже причастны к философии. Что означает причастность к философии? Если мы внимательно всмотримся в лица архаичных кара-кулов из романа «Тегерек», то сможем увидеть самих себя. Логика такова, что «край каньонов и пещер» – сакральная малая родина кара-кулов не имеет отношения к реальной географии, но путь в этот незнаемый, Богом забытый край, ведет в глубины сознания нашего сознания, внутреннего «Я» каждого из нас, независимо кто мы, откуда мы и куда мы направляемся. Вот почему, книга, как мы полагаем, представляет собой лишь возможность «прочесть» утраченные страницы прошлого, вспомнить былой Дух, Сакральность, Нравственность, Мировосприятие, не забывая при этом, что мы уже живем и будем жить в Новом эсхатологическом мире настоящего и будущего.
Понимаю, что мы «замахнулись» на кардинальную и вечную проблему человечества – проблему Зла и борьбы с ним. Разве есть более актуальный эсхатологический феномен современности, чем Зло? Зная и понимая концепт Зла, суть фабрики Зла в контексте, как онтологической недостаточности самого человека, так и АнтиСистемы в целом, нужно искать пути элиминации Зла, борьбы с ним в любом его обличьи. В этом плане, философия – это не знание, а действие. Немецкий поэт И.В.Гёте (1749—1832) писал: «Где ярче свет – там тени гуще». Как это следует понимать? Логика такова, что уже в архаичные времена кара-кулы понимали исключительную сакральность познания мира и самого себя, как способ преодоление Зла во вне и внутри себя, как путь ликвидации Зла, ведущий в глубины сознания каждого из нас. В чем заключается новизна нашего подхода? Наверное в том, что, как правило, философы приступают к осмыслению и обобщению уже имеющегося материала от писателя. Естественно, при этом философы пытаются несколько умозрительно определить содержание поставленных писателем вопросов, когда почти всегда бывает трудно четко сформулировать саму проблему. Другое дело, когда сам философ конструирует художественный нарратив с четкими вопросами для осмысления и обобщения: во-первых, сформулировать какого рода предметы и явления должны существовать ради них самих? Во-вторых, какого рода действий мы должны совершить, чтобы найти решение проблемы? Вот почему одним из главных подходов к проблеме является: «посадить» (гипотетически) философа и писателя в один рабочий кабинет; «совместить» (гипотетически) философию и писательство «в одной голове». Разумеется, реальный эффект будет лишь тогда, когда произойдет «совмещение» философа и писателя в личности одного человека. В ипостаси писателя он создает художественный нарратив, а в ипостаси ученого и философа свообразную технологию, когда несколько операционных смыслов (деконструкция, символизация, концептуализация, философизация, семантизация, сакрализация) интегрируются в новый смысл, который в сознании индивида предстает уже как новое идеальное содержание.
Глава II
Итератизм: теоретические концепты кода-символа «круг»
§1. Гносеонтологический круг. Как известно, за многовековую историю своего существования философия накопила огромный арсенал концепций и идей. В процессе развития философского знания и науки, внутри философии рождались различные направления: этика, логика, философская антропология, философия права, религии, просвещения, образования, науки и пр. Что касается онтологии и гносеологии, то они всегда считались основными разделами философии, без которых не может существовать сама философия и вышеуказанные направления. В философских исследованиях природы, общества, человека, культуры, науки, образования и др. обязательно присутствуют не только онтологические и гносеологические, но и мировоззренческие и культурологические основания. Вначале об онтогносиологических основаниях. По мнению В.Э.Войцеховича онтогносеологическая проблема «Единого» является одной из основных философских проблем. По мнению ведущих философов, проблема онтогносеологии в современной философии встает в связи с неудовлетворительностью как абстрактно онтологических построений, с одной стороны, а также конструкций односторонне гносеологических, с другой стороны. В этом аспекте, онтогносеология должна быть осмыслена именно в связи как с провалом построения автономных онтологий, так и с провалом автономных гносеологий. Провал онтологических построений, точнее сказать, автономных онтологий, наиболее осязаемым образом представлен М. Хайдеггером (1889—1976) и находит свое выражение, во-первых, в кризисе попытки прямого выхода к бытию, а, во-вторых, в провале автономных гносеологий. Потому, нужно иметь в виду, что отделить гносеологическое от онтологического и наоборот, онтологическое от гносеологического представляется невозможным. Еще И. Кант (1724—1804) отмечал, что «гордое имя онтологии должно уступить место аналитике чистых категорий рассудка». По автору, не в меньшей степени пониманию невозможности автономной онтологии способствует рассмотрение паралогизмов и антиномии чистого разума. «Как в случае онтологии, так и в случае гносеологии речь идет об обнаружении невозможности обретения непосредственного знания, на что нацелены как аналитики бытия, так и аналитики сознания», – пишет И. Кант (1724—1804). Нужно отметить, что традиция классической немецкой философии была фактически представлена тем, что современные авторы называют онтогносеологией, а в те времена назывались диалектикой.
По Аристотелю (384—322 до н.э.), онтология является философским учением о бытии, содержание которого включает в себя все реально существующее – «первых начал и причин бытия» (природа, общество, человек). Онтология является фундаментом гносеологии, так как сам процесс познания есть закономерность бытия и поэтому может быть понят лишь на основе выяснения сущности бытия, законов его движения и развития. Имеется глубокая взаимосвязь между онтологией и «частно-всеобщими» философскими дисциплинами (философская антропология, социальная философия, аксиология, логика, этика, эстетика). В настоящее время в мире получили распространение философские работы, дающие негативную критику классической онтологии на основе новой идеологии о том, что современная наука сама способна дать свое, нефилософское обоснование единству мира, поэтому необходимость в философской универсализации отпадает. Русские идеологи такого подхода предлагают различные варианты неклассических онтологий. У В.Н.Сагатовского – это «неметафизическая коррелятивная онтология», у П.М.Колычева – «релятивная онтология», у В.В.Афанасьевой и Н.С.Анисимова – «постнеклассическая онтология», у И.Д.Неважай – «региональная онтология».
Как известно, всеобщим объектом отношения человека является универсум, который трактуется как совокупность всех форм потенциального и актуального бытия, которые выражают базовое противоречие универсума – актуальное бытье как настоящее, а в потенциальном как прошлое и будущее. «Бытийные», онтологические формы универсума духовно и практически осваиваются человеком, в результате чего возникает онтологическая модель универсума. В указанном плане, освоение универсума совершаются в двух формах деятельности: 1) Познавательной (гносеологический аспект); 2) Оценочной (аксиологический аспект). Практическое освоение, основанное на духовном, осуществляются: 1) Системой методологических принципов (методологический аспект); 2) Системой родов деятельности (праксиологический аспект). Указанные аспекта с точки зрения философского мировоззрения характеризуют четыре способа освоения бытия универсума: 1) Гносеологический; 2) Аксиологический; 3) Методологический; 4) Праксиологический. Их противоречивое единство диалектически генерирует единую интегральную онтологическую модель универсума, исследование которой составляет содержание философии, внося свой специфический вклад в общую интегративную онтологическую модель универсума, определяя следующие интерпретации: 1) Когнитивную; 2) Оценочную; 3) Методологическую; 4) Деятельностную. Указанные виды интерпретации могут быть как адекватными друг другу, так и противоречащими. Между тем, это определяет возможность постановки и детализации проблем на базе диалогов, споров, дискуссий. По сути, все аспекты общечеловеческих онтологических моделей бытия представлены во всех типах мировоззрения. В качестве философских аспектов мы имеем в виду не только гносеологический (познавательный), но и аксиологический (оценочный), методологический (операциональный) и праксиологический (деятельностный). Что касается типов мировоззрения, то человек не ограничивается традиционными мировоззрениями: 1) Философское; 2) Мифологическое; 3) Религиозное. Важно учитывать освоения человеком универсума в виде совокупности всех форм потенциального (прошлое и будущее) и актуального (настоящее) бытия. Указанные формы существования бытия в универсуме определяют необходимость дифференциации гносеологического освоения универсума на три вида: 1) Ретроспективное познание как познание прошлого; 2) Презентивное познание как познание настоящего; 3) Прогностическое познание как познание будущего. Даже сугубо гносеологическое освоение сущностно-бытийных форм универсума может выразиться в создании вышеприведенных онтологических моделей универсума, что, конечно же, приведет к разнообразию, углублению, целостности философских взглядов.
Общеизвестно, гносеология является разделом философии, изучающим возможности познания мира человеком, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природу и границы. Она исследует сущность познавательного отношения человека к миру, его исходные и всеобщие основания, рассматривая их в контексте человеческого бытия. Она играет ведущую роль в становлении и развитии философии, поскольку обосновывает и оценивает различные характеристики бытия, определения природы, общества и человека, нормы и критерии научного познания. Такая роль и значимость гносеологии значительно усилилась в эпоху современной науки, когда, опираясь на данных специальных наук о знании и познании, взаимодействуя с ними, стимулирует рассматриваемые проблемы во всей широте и глубине, тем самым вписывает феномен познания и знания в общий контекст бытия человека в мире.
Роль гносеологии в ещё большей степени увеличивается в «критической философии» И. Канта (1724—1804), развивающей и укрепляющей принципиальные рефлексивные установки философии Нового времени. Именно в кантианстве получает своё развёрнутое выражение гносеологизм, то есть представление о гносеологии как основной исходной части философии, предваряющей всякое философское рассуждение и устанавливающей границы его возможностей. Этот гносеологизм непосредственно вытекает из базисной предпосылки кантианства – его так называемого критицизма, соответственно с которым всякое претендующее на теоретическую строгость философское исследование должно начинаться с рефлексивного анализа установок и предпосылок, лежащих в его основании. Выявление в процессе рефлексии этих предпосылок и оснований и составляет суть так называемого трансцендентального метода И. Канта (1724—1804), который направлен на то, чтобы представить любой продукт познания как результат определённого рода деятельности априорных структур «трансцендентального сознания».
У Ф. Гегеля (1770—1831) существенную и своеобразную эволюцию претерпевает проблематика учения о познании. В своей «феноменологии духа» он пытается дать историческую схему развития форм сознания и познания в человеческой культуре. Именно «феноменология духа» выражает в его системе роль гносеологии как схематизации и обобщения исторического опыта познания, который в конечном счёте приводит к позиции тождества бытия и мышления. Нужно помнить, что гносеология как отдельный раздел философии стала возможной благодаря утверждению Р. Декарта (1596—1650): «ничто не может быть ближе уму, чем сам ум». Из презумпции «непосредственной данности» сознания самому себе впоследствии исходят и трансцендентальная философия И. Канта (1724—1804), и феноменология Э. Гуссерля (1859—1938) и М. Хайдеггера (1889—1976). Если бы не эта презумпция, – гносеология неизбежно столкнулась бы с бесконечной лестницей собственных мета-обоснований. Над вопросом об условиях возможности познания надстраивался бы вопрос об условиях возможности познания познания.
Характерной тенденцией теоретико-познавательной мысли, особенно на рубеже XIX—XX веков, является тесная её связь с логико-методологическим анализом науки (неокантианство, феноменология Э. Гуссерля (1859—1938), махизм, конвенционализм П. Дюгема и А. Пуанкаре, логический позитивизм). Нужно отметить, что логический позитивизм выдвинул достаточно претенциозную и радикальную программу сведения философии (в том числе и теорию познания) к формально-логическому анализу языка науки. В Новое время теоретико-познавательная проблематика выдвигается на передний край философского исследования, формируются фундаментальные гносеологические концепции эмпиризма, рационализма, априоризма, устанавливается органическая связь гносеологии с логико-методологическими концепциями научного познания. Между тем, рефлексия над перечисленными вопросами становится непременной предпосылкой для множества теоретико-познавательных исследований. Гносеология оказывается в центре всей проблематики, прежде всего, западной философии Нового времени, где решение теоретико-познавательных вопросов становится необходимым условием исследования всех остальных философских проблем. Так формировался классический тип гносеологии.
Исходной мировоззренческой предпосылкой понимания познания в Новое время является изменение представлений о месте и роли человека в мире. Нужно подчеркнуть, что идея автономности человеческого познания, органически связанная с представлением о прозрачности для самосознания, познающего субъекта некоторых исходных истин, составляющих основание всего корпуса адекватного знания, лежит в основе гносеологических «антиподов» Нового времени – эмпиризма и рационализма. По существу, они выступали как два симметричных варианта осуществления указанной выше идеи. Оба они исходили из того, что в основе адекватного знания лежат непосредственно очевидные, самодостоверные для субъекта истины. Только для эмпиризма это были эмпирически устанавливаемые «истины факта», а для рационализма в зависимости от интуитивистского (Р. Декарт) или логицистского (Г.В.Лейбниц) его вариантов в качестве таковых выступали истины интеллектуальной интуиции или аналитические «истины разума». При этом гносеологическая идея о самодостоверности исходных истин для познающего субъекта, вытекающая из общемировоззренческих установок Нового времени, оказывается связанной с определённой интерпретацией научного знания, ибо «моделью» для этих самодостоверных истин оказываются фактофиксирующие суждения в эмпирических науках и представляющиеся несомненными теоретические истины математики.
Безусловно, развитию современной гносеологии способствует общий научный прогресс, смена научных рациональностей с внедрением новых научных постулатов и парадигм. Следует учесть тот факт, что в рамках постнеклассической философии совершилась грандиозная релятивизация всего, что ранее составляло фундамент и гносеологии, и онтологии сознания. В философии ХХI века возможен более радикальный шаг: от релятивизации перейти к виртуализации гносеологии. Это – проявление общекультурной тенденции: традиционные проблемы истины и реальности заменяются интеллектуальными играми в построение возможных миров. Человек осознается как самодостаточная, «автономная» сила, способная к адекватной ориентации в мире на основе собственной свободной ответственной активности вне зависимости от какого-либо высшего авторитета, ограничивающего эту свободную активность. В теоретико-познавательном плане это означает, что человек может своими силами, не опираясь на внешний авторитет или традицию, осуществить достоверное познание реальности в подлинности её бытия. Своеобразной формой философии XX в., которая сохраняла определённую смысловую связь с классической проблематикой гносеологии и, вместе с тем, претендовала на её радикальное переосмысление, выступила аналитическая философия. Продолжая и углубляя по существу рефлексивные установки, свойственные классической гносеологии, её сторонники подчёркивают направленность этой рефлексии на сферу значений языковых выражений, видов их употребления.
Наиболее важной проблемой современной гносеологии как самостоятельной философской дисциплины становится возможность её конструктивного взаимодействия с интенсивно развивающимися специальными науками, в том или ином ракурсе изучающими знание и познание, – с логикой, методологией и историей науки, семиотикой, информатикой, когнитивной психологией и другими. Такое взаимодействие является полем комплексного междисциплинарного исследования, где возникают синтетические дисциплины типа, например, генетической эпистемологии. Если говорить об удельном весе гносеологии в современном философском знании, то распространение гносеологизма в XIX веке сменяется в XX веке поворотом в сторону онтологизма. Это связано с процессом перехода от классической к постклассической философии, при котором чётко осознается производность познания – как определённого мироотношения от бытия человека в мире. Но это отнюдь не предполагает возвращения к «наивной» нерефлексивной онтологии докантовского типа, а связано с рассмотрением познавательного отношения человека к миру в общей перспективе его мироотношения, взятого, так сказать, в широте и глубине, что и позволяет рассматривать то бытие, которое выступает предметом онтологии в современном её понимании.
Итак, согласно исследованиям ряда философов гносеологический аспект является исходным в формировании онтологической модели универсума. Он представлен различными формами, видами и уровнями познавательной деятельности человека: чувственными и рациональными, эмпирическими и теоретическими, образными и абстрактными. Цель познавательной деятельности состоит в генерации знаний. Как известно, знания рассматриваются, с одной стороны, как субъективные формы бытия объектов, а с другой стороны – как адекватные и неадекватные формы отражения объектов. Знания, как продукты познания, существуют в различных видах носителей (ощущения, восприятия, представления, понятия) и различных статусах достоверности (теории, аксиомы, постулаты, гипотезу, проблемы, концепты, заблуждения, ложные знания). Гносеологическую проблематику, кроме общей теории познания (гносеологии), изучают эпистемология как учение о рассудочных и разумных, эмпирических и рациональных формах знания, и когнитология как теория рациональных знаний. В конечном счете, гносеологическое освоение универсума формирует знаниевую (когнитивую) модель универсума (научную картину мира). Эта модель интегрирует в себя и аксиологические аспекта, с помощью которого философия обретает свои основания и специфику в связи дифференциацией отражения на два вида: 1) Познание как констатацию сущего; 2) Познание как оценивание – выражение отношения субъекта к познанному объекту (Т. Павлов, В.П.Тугаринов, Н.З.Чавчавадзе, С.Л.Рубинштейн и др.). Оценки объектов выражают позитивное (ценности) или негативное (антиценности) отношение субъекта к значимости объектов. В качестве адекватного критерия оценки значимости объектов может быть использована объективная мера человеческого рода (Протагор, К. Маркс, Ф. Энгельс). Итак, в результате аксиологического освоения универсума создается не только знаниевая, но и ценностная модель бытия.
Важно осмыслит и ряд других аспектов гносеологии: 1) Методологический аспект освоения универсума обусловлен объективной необходимостью практического освоения универсума, а для этого надо было обладать функциональными принципами освоения, которые и разрабатывает методология. К тому же, методология получает интеллектуальные основания от гносеологии, которые К. Маркс (1818—1883) выразил закономерностью «оборачивания теории в метод». В общефилософском плане адекватным ей методом является диалектический как учение «о раздвоении единого на противоположности и изучения их противоречивого отношения», о чем говорил В.И.Ленин (1870—1924). Методология обеспечивает разработку принципов деятельностного освоения бытия. В результате создается диалектико-методологическая модель универсума: «субъективная диалектика мышления есть отражение объективной диалектики бытия», о чем писал Ф. Энгельс (1820—1895); 2) Праксиологический аспект освоения универсума обусловлен необходимостью практического отношения человека к познаваемому и оцениваемому, о чем писал К. Маркс (1818—1883), а обеспечен он потенциалом методологических принципов как принципов деятельности. В конечном счете, создается целостная онтологическая модель универсума в форме духовно и практически освоенной среды бытия человека.
Следует подчеркнуть, что в современных концепция и теориях философии особенно очевидны взаимопроникновения гносеологических и онтологических методов и форм, когда любой сложный философский факт не обходится без постановки и развития проблем гносеонтологического порядка. В концепциях П. Адо, М. Фуко, С.С.Хоружего, Н. Элиаса, Ж. Делеза и др. отражены идеи переосмысления онтологических, гносеологических и антропологических вопросов философского познания. Из истории философской мысли вышеуказанных авторов, известно, что гносеология игнорировала как «ненаучный» такие вопросы как опыт личности, общества, традиций, менталитета. В отличие от нее, в центре гносеонтологии событие встречи мира, человека и общества, «чреватая» новыми конфигурациями, моделями, практиками. Конституирование, конструирование и институализация стали атрибутами человеческого бытия последнего столетия. Предметом конституирования выступает одновременно и сам человек как субъект бытия, так и само бытие / со-бытие. Гносеонтология выступает как своего рода фундамент, сообщающий не только новое качество миру / реальности, но, в первую очередь самому человеку. В этом аспекте, такое направление в философии рассматривают как методологическое движение, которое «захватывает» всю множественность форм становящегося человеческого рода, проявляя себя с разной интенсивностью в познании, культуре, жизни общества и человека.
Как известно, в круговращении одной из проблем взаимной связи гносеологии и онтологии является проблема их соотношения: с одной стороны, гносеологические принципы научного познания с верификацией, конкретизацией, концептуализацией, философизацией полученных знаний, а с другой стороны, онтологические допущения, существующих, в том числе в неявной форме. В целом, они замыкаются в одном кругу: «гносеология» ₪ «онтология». При этом выделяют две основные линии соотношения гносеологии и онтологии: 1) Философское конструирование, когда утверждается, что объект исследования формируется в процессе познания и поиска новых смыслов; 2) Философская предпосылочность научного знания, когда решается вопрос о существовании объекта до его познания на уровне здравого смысла. Есть мнение о том, что правильно говорит о гносеонтологическом круге, когда онтологию включают в гносеологию, как соотношение познания и непознаваемого. Итак, гносеонтология – это все-таки гносеология с онтологическим «довеском». Та самая линия соотношения гносеологии и онтологии, означает, с одной стороны, гносеологи, обращающиеся к вопросу существования объектов познания и, тем самым, занимающиеся онтологической проблемой, развивают онтологию внутри гносеологии, а с другой стороны, онтологи, развивающие гносеологию внутри онтологии, создают онтологическую гносеологию. Именно это способствует целостности философии, когда гносеология и онтология замыкаются в круге полноценной философии.
Если судить с точки зрения «воображаемых ветвей развития познания» в нынешнем постмодернизме, то трудно сохранить в процессе инвариантных преобразований причастность лишь к традиционной философской онтологии, без гносеологии. Шагом же на пути к онтогносеологии может быть виртуализация гносеологии и последующее нахождение инвариантов между альтернативными возможностями развития познания. Традиционные проблемы онтологии и гносеологии сегодня имеют тенденцию редуцироваться к проблеме интерсубъективности. В контексте же виртуальной гносеологии этот вопрос расширен до проблемы интерсубъективности между воображаемыми субъектами познания. Вообще, актуальность онтогносеологичекой тематики, на наш взгляд, обусловлена необходимостью ограничения целерациональной активности, основанной на абсолютизации познавательных значений. Абсолютизация гносеологических значений, наиболее последовательно выражается в классической рациональности, в таком приобщении к объективной истине, при котором человек абстрагируется, отвлекаясь от собственной жизненности в ее индивидуально-исторических, нравственных, конкретно-временных проявлениях. Дуализм познания и жизни, технического и органического выявил необходимость ограничения объективного, научно-технического мышления. Причем, особой значимостью стала обладать тенденция формирования таких типов познания, при которых возможно проявление не сущего, а бытия, установление ни познавательных значений, а поиск и «полифония» смыслов, создание условий для актуализации личностного бытия. Считается, что поиск способов представления, «схватывания» бытия должен быть вполне отнесен к онтогносеологической тематике.
Философам всегда было интересно рассмотреть гносеонтологию, как систему. Традиционно онтология и гносеология рассматриваются как разделы философии, при этом в своем классическом понимании онтология – это изучение бытия, гносеология – это познание этого бытия. Если основным вопросом онтологии является: что существует? – то основным вопросом гносеологии является: как существует? Чтобы ответить на первый вопрос человеку мыслящему надо получить знание о нечто предельно общем, следовательно для этого необходимо научиться систематизировать и классифицировать многообразные и разнообразные объекты, процессы и явления мира, действительности, бытия. Причем, на основе принцип двоякости – двоицы противоположных, соразмерных и равновесных сущностей. Однако, чтобы выстроить системность полагается тройка системных сущностей: 1) Первая сущность; 2) Вторая (противоположная, соразмерная и равновесная) сущность; 3) Третья (обобщающая, системная) сущность. Геометрический образ такой системы или её базовое ядро можно представить в виде трех кругов в одном: 1) Первый круг (функционально-структурный) – сущность (элемент системы) характеризуется свойствами или условием наблюдаемости; 2) Второй круг (противоположная) – сущность характеризуется свойствами ненаблюдаемости; 3) Третий круг (обобщающая – сущность (система) характеризуется системными или комплексными свойствами целостности, единения, системы, эмерджентности, управляемости.
Исходя из сущностей указанных кругов можно утверждать, что в основе взаимосвязей между ними лежат фундаментальные отношениями тождества и различия, характеризующими сущность систематизации, в том числе: 1) Все элементы (две противоположные сущности), входящие (включенные) в третью обобщающую сущность (элемент), по признаку включения (принадлежности) являются тождественными, и наоборот, все части (две противоположные сущности), не входящие в третью сущность и в целом в систему – не являются тождественными, так как они нетождественные или различимые; 2) При разбиении системы на элементы, каждая из них является различимой по проводимому основанию разбиения. В рассматриваемой троице обусловленных системными сущностями, которые рассматриваются с позиций четвёртой сущности – системы, в которой системно объединены два фундаментальных процесса: 1) Обобщение или интеграция знаний, путем реализации фундаментальной операции познания – отождествления функциональных элементов системы; 2) Различение или дифференциация знаний, путем реализации фундаментальной операции познания – различения функциональных элементов системы. В первом случае, при установлении тождественности или отношения тождества между понятиями «части или функциональные элементы системы», логика соотношения указанных сущностей действительности определяется логикой включения (интеграции) конкретного функционального элемента в конкретный обобщающий функциональный элемент. Во втором случае, при установлении различимости или отношения различия между рассматриваемыми понятиями, логика соотношения указанных сущностей произвольной природы определяется логикой разбиения (декомпозиции) системы на функциональные элементы с использованием системных базовых методов анализа и дедукции. Таким образом, предложенную троицу обусловленных сущностей можно рассматривать как базовую модель фундаментального принципа системного или комплексного подхода к познанию мира, действительности, бытия.
Следует отметить всеобщий характер представленной троицы обусловленных и проявленных системных сущностей, что характеризуется следующим: 1) Универсальность и всеобщность включенных в троицу сущностей; 2) Универсальность и всеобщность связей между сущностями троицы, которые представляют собой общесистемные фундаментальные отношения познания; 3) Независимость, неизменяемость описания и представления объектов и процессов мира, действительности, бытия с помощью троицы обусловленных системных сущностей; 4) Независимость и неизменяемость действия троицы по отношению к любому понятию (сущности) мышления человека, в том числе категории, принципы, методы и законы познания; 5) Независимость изменения состояния троицы по отношению к любому объекту, процессу и явлению мира, действительности, бытия.
Формулировка и решение проблемы гносеонтологии есть установление взаимовлияния онтологии и гносеологии, когда онтология предполагает гносеологию, а теория познания – онтологию. Именно уровень гносеонтологии является для философии базовым, фундаментальным. Между тем, сегодня в области гносеонтологии предлагаются «слишком сумасшедшие» концепции, претендующие на философский статус. В частности, симулякр «возможный мир» сегодня используется как теоретический инструмент в неклассической логике, в теориях искусственного интеллекта, эпистемологии, аналитической философии языка, лингвистике, философии сознания, аналитической метафизике, когда акцентируется аксиома «реально всё возможное». Кстати, такую конструкцию разрабатывает М.Н.Эпштейн (1883—1966), предложивший концепцию «потенциации» или «можествования», когда стирается качественная разница между действительным, возможным и необходимым, между «бытием, есть», «может быть» и «не может не быть». А.Ф.Лосев (1893—1988) считает, что гносеология, антропология есть не что иное как разные разделы онтологии. Существует концепция «экзистенциального материализма» (Э.А.Тайсин), постулирующий совмещение учения о бытии, онтологии, и учения о познании, гносеологии. Согласно автора, «философское направление, изучающее единое сущностное бытие, человеческое по преимуществу, строя метафизику как существенное единство онтологии и гносеологии, можно назвать экзистенциальным материализмом». Э.А.Тайсина выдвигает постулат «совмещения учения о бытии, онтологии, и учения о познании, гносеологии» с позиций синкретизма – склейки базисных противоположностей: онтологии и гносеологии, объективного и субъективного. Синкретизм есть отличительная черта мифологического мировоззрения, отличающийся своей «суперпозицией» («наложение», «пересечение»). Такой подход можно обнаружить и в границах художественного мировоззрения писателей. Свою позицию они называет «языковой картиной мира», которая нуждается в интерпретации. Ей можно сопоставить различные точки зрения. С ней сопоставимы мифология и художественное мировоззрение, где наблюдается «склейка» базисных противоположностей объективного и субъективного (В.С.Степин). Речь идет о нарративной «концепции» языковой картины мира, признавая противопоставление вымышленного и реального «надуманным плодом бинарного мышления», ибо «каждый волен выбирать себе модель реальности по своему вкусу», «модель бодрствующего и спящего». Языковую картину мира можно интерпретировать и на основе концепции «традиционного мировоззрения» А. Дугина, который признает единство онтологии, гносеологии, мировоззрения.
Гносеологически принцип дополнительности означает, что в зависимости от применяемых средств (методы наблюдения, приборы, теоретические подходы) в объекте выделяются разные предметы, свойства которых могут отличаться друг от друга вплоть до противоположности. Разные взаимодействия выделяют из объекта не просто предметы познания, но самостоятельные предметы уже в онтологическом смысле этого слова. В целом, философия своими разработками гносеологии, аксиологии, методологии и праксиологии оказывает объективное воздействие на аналогичные аспекты всех типов мировоззрения, способствуя становлению общей теории мировоззрения (М.М.Прохоров). Если рассматривать вопрос о теоретических вариантах возможного соотношения онтологии и гносеологии, то нужно отметить, отказ от синкретизма при трактовке взаимоотношения онтологии и гносеологии как базисных противоположностей сферы онтогносеологии открывает следующие возможные варианты истолкования их соотношения: 1) Дуализм или антиинтеракционизм; 2) Редукционизм; 3) Диалектизм; 4) Мифологизм. Дуализм (антиинтеракционизм) – онтология и гносеология равноправны в философии, а потому не посягают на права друг друга. Между тем, это их разрыв. Кантовский «переворот» можно представить схемой [S> O] в противовес «онтологической» концепции познания, выражаемого схемой [O> S]. И. Кант (1724—1804) совершил следующее: 1) Вывел онтологию за пределы философии, оставив область объективного рационального знания исключительно за наукой. Гносеологию же он ставит выше онтологии, утверждая, что именно решение гносеологических проблем определяет решение наукой ее онтологических проблем, которые непосредственно опираются на эмпирическую информацию об объектах; 2) Вывел гносеологию вперед, полагая, что онтология предопределена гносеологией, при этом не признавая обратное влияние. Для онтологического обоснования теории познания, редукционизм выражает схемой [O> S], так и для кантовского варианта [S> O], тогда как диалектическая модель раскрывает взаимосвязь онтологии и гносеологии, когда схематически познание можно представить, как [S> (O> S)], которое сохраняет рациональное содержание обеих концепций. Мифологический же подхода лишь создает видимость решения проблемы взаимосвязи и взаимовлияния онтологии и гносеологии.
Нужно отметить, что началом и необходимым основанием смены онтологической перспективы выступает рождением мысли, заключающейся в том, что в описываемый предметный мир человек привносит что-то свое. И тогда проблемы мышления становятся способом измерения, созданием определенных условий, системы координат для восприятия мира. А возможность соотносить все познаваемое непосредственно с личностным бытием, делает мысль основанием для жизни. Ценность мысли заключается, прежде всего, в том, что она принадлежит самому человеку, давая возможность ощущать и проживать собственную жизнь. Становится понятно, что «мыследействие» – это альтернативный целерациональности способ познания. Мыследействие – это результат индивидуальных усилий, направленных на преодоление человеком своего эмпирического существования. Важной характеристикой мысли является ее онтологическая значимость. Ведь, если человек не совершил мыследействия, то никакая сила в мире не сможет заменить, восполнить несделанное. Такой мысли, такого состояния не будет существовать. Мысль есть состояние самобытности, ценным является не содержание мысли, а ее наличие. Для решения этой задачи необходимо определенным образом измениться, собрав себя. По М. Хайдеггеру, «Мысль есть действие. Но действие, которое одновременно переходит за всякую практику. Мысль прорывается сквозь действие и производство не благодаря величию каких-то своих результатов и не благодаря последствиям какого-то своего влияния, а благодаря малости своего безрезультатного осуществления».
Российский философ М.М.Прохоров представляет «онтогносеологию» как «пространство взаимоопределения онтологии и гносеологии» и тесно связывает её с «основным вопросом философии» и субъект-объектным дуализмом, имеющим место как в онтологии, так и в гносеологии. Тем самым онтогносеологическая проблематика оказывается рецепцией классической научной и философской традиции в отношении круговращения. По Ясперсу, субъект-объектный дуализм можно представить, как теоретическое следствие невозможности полного самоопредмечивания субъекта в своем движении. Способ рационального опредмечивания может меняться, так что метафизика может создавать разные воплощения идей. Именно так, если следовать теории антропосоциогенеза «Канта – Фрейда – Бородая», возникает культура, которая также подвержена цикличности. Речь идет о личностной субстанции онтогносеологии. Личность – это преодоление человеком своей наличной обусловленности, выход «за пределы собственной индивидуальности» (Ф. Гегель). Рассматривая онтогносеологический аспект знания о сущности окружающего и внутреннего мира субъекта познания, затрагивающий вопросы бытия и призвания человека с участием нравственно-онтологических начал, можно отметить, что в процессе познавательной деятельности установка познания внутренне трансформируется, изменяется ее содержание, что отражается на восприятии человеком смысла своего существования. По мнению И.В.Рынкового, деятельность человека может быть, как предметной, выраженной вовне, так и духовно-душевной, обусловленной работой сознания, воли и внутренних импульсов.
Ценностное сознание связано с онтологией автономного бытия, то есть важное и значимое является для человека основой его духовности: разума, совести, нравственности, свободы, ответственности, веры, совершенства, творчества. Онтогносеологический анализ проблемы нравственного становления личности неразрывно связан с практической деятельностью, поскольку выбор приходит с началом сознательной деятельности, в частности, в процессе общения с другими людьми. Глубинное чувство утраты смысла своего существования ведет к ощущению пустоты, к непониманию значимости своего существования, поэтому человек начинает желать и делать то, что от него хотят другие, то есть становится конформистом, либо, наоборот, находит собственный нонконформистский подход к достижению цели. Фрустрация стремления к смыслу жизни может привести человека к достижению счастья, не задумываясь о смысле своего бытия. Экзистенциальная фрустрация опасна тем, что она может отразится на психофизиологической, социально-психологической, профессиональной, организационной адаптации. Упадок нравственности, наблюдающийся в личной, семейной, культурной, трудовой, общественной, экономической, духовной сферах жизни, приводит к деформации когнитивного, мотивационно-ценностного, практического компонентов нравственного поведения. Низкий уровень нравственного развития, бездуховность разрушают как самого индивида, так и человеческое общество в целом.
Итак, экзистенциальная онтогносеологическая проблема нравственного развития личности представляет собой важную область исследований, находящуюся на стыке различных отраслей знания о человеке. Смысл жизни утверждается не в обладании, не в пустоте, а в становлении как онтологическо-нравственной ценности и зависит от направленности субъективных установок, позиций личности и общих нравственных тенденций развития общества. Смысл жизни человек открывает для себя самостоятельно. Нравственный смысл жизни, являясь абсолютной точкой опоры существования человека, позволяет понять подлинное чувство реальности и сознания жизни, привести к достойным формам человеческого существования. Нахождение смысла жизни позволяет упорядочить хаос бытия, определить свою самость, удерживать Я-концепцию в уравновешенном состоянии, особенно в стрессовых ситуациях, не изменяя своим моральным принципам. Установки онтогносеологической концепции, согласно которой акт цельного и живого знания тождественен акту переживания потенциального, возможностного бытия, по сути близки позиции представителей культурологии как науки (Г.П.Федотов, С.С.Аверинцев, Д.С.Лихачев, Г.Д.Гачев и др.). Следует заметить, постмодерн рубежа XX—XXI веков провозглашает установку тотальной деконструкции, децентрации, симуляции бытия и познания. В такой ситуации, естественно, детерминируется процесс дезонтологизации. По А. Дугину, в настоящее время дезонтологизация реальности становится слишком явной с появлением тенденции постепенного перехода к постонтологии, когда мир открещивается от сакрального, сказок и мифов и утверждается, что «в этом мире возможно все». Реальное бытие чем дальше, тем больше будет вытесняться виртуальностью – новые иррациональные образы и объекты. Аналогичную метаморфозу переживает и гносеология. Для человека познание, новые знания с новыми смыслами – это всегда сакрально. Еще И. Кант (1724—1804) в книге «Критика чистого разума», во-первых, подверг сомнению субъект и объект познания, определив их как ноумены (то есть недоступные нашему познанию), а, во-вторых, подверг сомнению критерии научности мышления и тем самым еще более сузил гносеологическую парадигму модерна, бросил вызов духу Просвещения.
Известно, что начало ХХ века ознаменовалось борьбой между классической гносеологией Р. Декарта (позитивисты) и революционной гносеологией (неокантианцы). Позитивисты исключили все трансцендентное, воспели гимн науке и стремились во что бы то ни стало сохранить внятные, хоть и простые, субъект и объект познания: «объект – атомарный факт, субъект – атомарные мысли в структурах сознания». В настоящее время актуальна новая гносеологическая парадигма: «субъект и объект – это тоталитарные категории, угнетающие познание», когда классический научный метод, научная картина мира, научные дисциплины игнорируются в пользу «шизоанализа» (Ж. Делёз). Тем не менее актуальность поиска соотношения онтологии и гносеологии в пользу единой гносеонтологии не теряет своей актуальности. Вопросы корреляции онтологии и гносеологии ставились в рамках феноменологического движения Э. Гуссерля (1859—1938). Как известно, является сторонником региональной онтологии (природа – сознание – общество), утверждающим то, что значения и смыслы конструируются в сознании посредством перцептивных и интенциональных актов. Р. Ингарден (1893—1970) понимает онтологию как теорию необходимых априорных истин, в область которых входит сущность чистого сознания. Автор представлял, что ясное понятие о вещах предваряет процесс конституирования, что означает его уход от субъективно ориентированной философии к онтологии и гносиологии. Он на материалах литературных произведений показывает онтологическое разнообразие и существующее в зазоре между миром и сознанием. По его мнению, сущность произведения зависит от идеальных значений, которые вызывает звучание текста.
В.Н.Сагатовский рассматривает онтогносеологию как способ самопознания и условие подлинного философствования. В этом плане, автор в своих тезисах решает две задачи онтогносеологической парадигмы: 1) Рассмотреть онтогносеологию как инструмент самопознания субъекта; 2) Проанализировать состояние единства мыслящего субъекта и мыслимого им бытия. По мнению М. Фуко (1926—1984), подлинное познание не является статическим упорядочиванием и переработкой фактов, событий, явлений окружающей действительности, при котором субъект пассивно воспринимает информацию. Он считает, что информация изменяет познающего субъекта, а потому актуален призыв «познай самого себя». С.Л.Франк (1877—1950) убежден в том, что познание должна в каждом случае преодолевать поверхностный рационализм в исследовании бытия: 1) Критерием и источником истинного философского знания становится целостный опыт и осмысление бытия; 2) Постижение абсолютного бытия как такового, так и бытия субъекта познания появляется лишь единством онтологии и гносеологии. В настоящее время философия познания делает акцент на взаимосвязь онтологии, гносеологии и праксиологии в структуре философского знания. Праксиологический аспект познания утверждает, что познающему субъекту не нужен посредник, ему нужен опыт личного познания, лишь когда он сам лично на своем опыте познает внушаемую ему истину, станет она для него достоверной и полной. С одной стороны, человек принимает воспринимаемое так, как его преподносит общество, то есть человек воспринимает предпосылки объективного характера, с другой стороны имеется суждение о том, что мир внешний есть продукт проекции мира внутреннего. По сути, в этих суждениях нет противоречия. Дело в том, что человек познает внешний окружающий мир и самого себя в общем потоке сознания цивилизации, накапливает опыт изучения и самого себя в этом потоке, признавая связь себя и цивилизации в целом.
Что же означает онтогносеология в методологическом аспекте? Нужно отметить, что философия всегда считалась научным мировоззрением, а потому ее разграничение от мифологического и религиозного мировоззрения воспринималась как само собой разумеющимся. Между тем, попытки конкретизации этих подходов обернулись борьбой «онтологистов» и «гносеологов». М. Прохоров ввёл исторический момент, представив мировоззренческие структуры как движение от созерцательного воззрения на мир к активистскому и затем к ко-эволюционному типу. Важным результатом его исследований была идея «раздвоения» понятия исторической формы мировоззрения на «содержание» как понимание отношения человека к миру и «форму» как специфический способ выражения этого понимания. В настоящее время сложилась и другая тенденция – тенденция перехода от онтогносеологии к гносеонтологии. Онтогносеология указывает на чистое познание и понимание бытия, принятия его законов и принципов, гармоничное сосуществование субъекта познания с бытием в качестве его части, ощущение встроенности в бытие. Чтобы субъект мог осознать себя как часть бытия, при условии, что бытие первично, а значит – задает параметры отношений между ним и человеком, само бытие должно быть открытым субъекту познания. А так как бытие открыто познающему сознанию, то оно обеспечивает возможность адекватного отражения сознанием самого себя.
Следует отметить, что существует онтогносеологический принцип, согласно которому онтологические категории отражают одновременно всеобщую структуру как взаимодействия сущих любой природы, так и человеческого познания. Однако, если сместить смысл, то логически возможна другая ситуация: познавательные структуры и способности будут задавать и определять формы и границы как познания бытия, так и самого бытия (М. Лившиц). В этом случае, связь бытия и мышления остаются, но меняются местами основание и следствие, а потому появляется понятие «гносеонтология». По И. Канту (1724—1804) (1724—1804) (1724—1804), происходит определенный разрыв познающего разума (мышления) и действительности как объекта познания (бытия), когда при контакте с бытием главным объектом разума становится он сам в процессе познания, а не сам мир как таковой. В настоящее время разрыв возник и в вопросах взаимосвязи философии и мироощущения. Нынешняя философия в экстазе плюрализма все чаще стал ставит под сомнение свою собственную общезначимость как науки о всеобщих законах бытия, познания, мышления, способствуя тем самым распредмечиванию самого себя. Так возник новый логический круг, двигаясь по которому философия распыляется в сторону обычной жизненной мудрости.
§2. Мировоззренческо-онтологический круг. Важно отметить, что всякое учение о познании, включая философское, обусловлено и координировано с определённой онтологией или иначе мы имеем дело с онтогносеологией. Прямо противоположный вариант их соотношения предложил И. Кант (1724—1804), рассматривая познание как деятельность, протекающую по своим собственным законам, указывая на специфику субъекта познания как главный фактор в теории познания, который определяет способ познания и конструирует его предмет. Данная проблема имеет важное практическое и теоретическое значение, в особенности в мифологии и философии. Именно взаимоотношения их позволяет обнаружить тренд к единству онтологии и гносеологии, которое становится основополагающим именно в философии как формы мировоззрения. В этом аспекте, с одной стороны, онтология как наука выстраивает категориальную структуру проблемы бытия / со-бытия, а с другой стороны, онтология, как вид литературы осмысливает уровень всеобщего посредством переживаний и воплощения их в символах (метафорах, концептах). В целом онтология, как наука и литература замыкается в круге полноценной философии, с одной стороны, обосновывая определенное мировоззрение, а с другой стороны, выбирая под себя определенную онтологию. Речь может идти о конструировании идеологического мифа, когда онтология как наука и онтология как литература создает своеобразный круг – мировоззренческо-онтологический круг.
Рассуждая в этом ключе, нужно отметить, что, согласно концепции «осевого времени» К. Ясперса (1883—1969), исторически исходной является мифологическое мировоззрение с его принципом «суперпозиции» противоположностей (фантазии / реализма): фантазийной реальности или реалистической фантазии (мифы, легенды, предания). Согласно мифологический теории, мифы, легенды, предания, будучи фантастическими, тем не менее не лишены реалистичности. Как подчеркивал Э.Я.Голосовкер (1890—1967), в мифологическом воображении и при помощи воображения «осуществимо и неосуществимое, достижимо все недостижимое, выполнимо все невыполнимое, ибо миром чудесного управляет абсолютная сила и свобода творческого желания как первое и последнее основание для любого следствия, как первоисточник, порождающий из себя причины всех действий, всех чудес». Первоначальной реальной базой является деятельность человека по преобразованию явлений природы, которые служат «материалом» для воплощения мифологических замыслов. И только в итоге познавательной деятельности, духовного развития и образования, высвечивается необходимость перехода к научному, философскому мировоззрению, способных прорвать сферу «суперпозиции» базисных противоположностей мифологии (фантазии / реализма).
Важно отметить, что взаимоопределения онтологии и гносеологии, как их «динамическая круговая структура», кончается там, где философия чрезмерно противопоставляется: 1) Онтология и гносеология; 2) Онтология и философская антропология; 3) Гносеология и философская антропология. Согласно Н. А.Бердяева (1874—1948), «Освобождение философии от всякого антропологизма есть умерщвление философии. Натуралистическая метафизика тоже видит мир через человека, но не хочет в этом признаться. И тайный антропологизм всякой онтологии должен быть разоблачен. Неверно сказать, что бытию, понятому объективно, принадлежит примат над человеком, наоборот, человеку принадлежит примат над бытием, ибо бытие раскрывается только в человеке, из человека, через человека». В аспекте философского круговращения В.Н.Сагатовский выделяет следующие круги: 1) Онтолого-мировоззренческий круг – это наличие взаимной обусловленности мировоззрения и онтологии. Определенные положения онтологии обосновывают определенные мировоззренческие установки и наоборот – под предпочитаемые установки подыскивается соответствующая онтология (чаще всего подсознательно); 2) Мировоззренческо-онтологический круг – это взаимная обусловленность определенного мировоззрения, как совокупности ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно места человека в мире и смысла человеческой жизни, и определенной онтологии как философского учения о мире. Онтология обосновывает мировоззрение, но мировоззренческие установки определяют предпочтение той или иной онтологии. По автору, мировоззрением – это совокупность ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно мира, человека и его отношений. Системообразующим началом мировоззрения является основной вопрос мировоззрения – о месте человека в мире и смысле человеческой жизни. Онтология – это философское учение о мире, т.е. о всеобщей структуре мира-универсума и любого сущего. Онтология как наука выстраивает категориальную структуру, онтология как вид литературы осмысляет уровень всеобщего посредством переживаний и воплощения их в символах (метафорах, концептах). Определенная онтология обосновывает определенное мировоззрение, но в то же время определенное мировоззрение выбирает под себя (чаще всего, разумеется, подсознательно, если речь не идет о конструировании идеологического мифа) определенную онтологию. Таким образом создается своеобразный круг.
Вообще, понятие «мировоззрение» употребляется в двояких смыслах: во-первых, как системное представление о мире в целом, а, во-вторых, как систему ценностей, идеалов и взглядов на пути и способы их реализации. Основным вопросом мировоззрения является проблема отношения человека к миру, его места в мире, смысла его жизни. Создание нового мировоззрения требует сравнительного анализа уже имеющихся мировоззрений и обоснования вновь возникающего. В своих мифах и научных изыскания в какой-то степени выступаем антропоцентристами в светском варианте: «человек – цель, мир – средство». Именно этот тезис является своеобразным аттрактором наших исследований и действий. Мировоззренческо-онтологический круг – взаимная обусловленность определенного мировоззрения, как совокупности ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно места человека в мире и смысла человеческой жизни, и определенной онтологии как философского учения о мире. Онтология обосновывает мировоззрение, но мировоззренческие установки определяют предпочтение той или иной онтологии. Так, стремление к абсолютному самовыражению и желание избегать ответственности определяют постмодернистское предпочтение ризомы как образа бытия, а ставка на сугубо рационалистическое управление миром – сведение бытия к материи (объективной реальности). В свою очередь, данные образы мира закрепляют соответствующие мировоззрения.
Поскольку специфика философии как формы мировоззренческого сознания заключается в рационально-рефлексивном подходе к своему предмету, анализ способности человека адекватно познавать мир и ориентироваться в нём, осознавать своё место и назначение в этом мире выступает как необходимая предпосылка достаточно развитой философской мысли. Осмысление онтологической, антропологической, этической и другой проблематики в философии по необходимости предполагает рефлексию над способами и возможностями такого осмысления, то есть движение мысли в предметном мировоззренческом содержании философии включает рефлексивное «измерение», анализ способов и возможностей постановки, рассмотрения и решения соответствующих философских проблем. Содержание учения о познании имманентно философско-мировоззренческому сознанию, концентрирующемуся на универсальных, «предельных» вопросах отношения человека и мира. Оно возникает внутри этой проблематики, в чём и заключается его специфика сравнительно со специально-научными когнитивными дисциплинами.
Итак, научно-философское мировоззрение обуславливает полноту решения вопроса о познаваемости мира, следовательно, обнаруживается взаимная связь и взаимовлияние онтологии и гносеологии, то есть в пользу онтогносеологической специфики философии. В свое время Ф. Энгельс (1820—1895) предложил анализ и решение основного вопроса философии, представив две его стороны, онтологическую и гносеологическую. Современные исследователи идут дальше, когда пишут, что вместе они образуют в философии «динамическую круговую структуру, которая прерывается и вновь восстанавливается в том или ином звене, в зависимости от цели и задач исследования». Между тем, в настоящее время, такая мысль оправдывает использование для обозначения такой структуры в составе философского познания предлагаемого термина «гносеоонтологического круга». Еще Х. Ортега (1883—1955), уточняя концепцию мировоззренческого развития, акцентировал внимание исследователей на усиление момента познания, характеризующего специфику философского знания, постигающего объективную реальность мироздания.
Если говорить о роли субъекта в различных типах мировоззрения и познавательных парадигмах, то нужно подчеркнуть, главное, что было сделано И. Кантом (1724—1804) в гносеологии, состоит в переходе от «онтогносеологии к гносеоонтологии», в доказательстве того, что познание имеет и объективные, и субъективные составляющие, и что оно во многом определяется субъектом познания, он есть главный фактор в теории познания. Хорошо известно о том, что мифология, религия и философия, как три взаимосвязанные мировоззренческие исторические культурные парадигмы, дифференцируются, прежде всего, степенью осознания субъектом своего места в структуре мироздания: 1) Мифологии индивидуальный субъект культуры еще не сформирован, он крайне расплывчат, доминирует коллективная идентификация человека, он является выразителем «мы-сознания»; 2) Важным шагом на пути субъективации и индивидуализации сознания выступает религиозный, особенно молитвенный, опыт человека, в котором появляются новые, неизвестные мифологической культуре, стороны личностной самоидентификации; 3) Полноценное превращение личности в ядро сознания происходит в рациональной культуре, в которой осуществляется ее поляризация на субъектно-объектные составляющие. Это время совпадает с возникновением философской культуры, в которой происходит окончательное освобождение сознания от пут коллективности и становление индивидуального субъекта.
Таким образом, хотя субъект присутствует в любом типе мировоззрения, но способ его идентификации существенно меняется, переходя от коллективистских форм к индивидуально-личностным. Еще более значимые изменения для субъектно-объектной парадигмы познания происходят в квантовой теории, которая показала, что субъект, наблюдатель вообще неустраним из познавательного процесса. Отмеченное выше разнообразие онтологических представлений о бытии еще более усложняется, когда речь заходит о мировоззренческом моделировании бытия всеми типами мировоззрения. Основным вопросом любого типа мировоззрения является многоаспектное отношение в системе «универсум – человек». В настоящее время выделяют, с одной стороны, три типа мировоззрений, основанных на реалистическом освоении универсума человеком: 1) Обыденное; 2) Научное; 3) Философское), а с другой стороны, три типа мировоззрений, основанных на сюрреалистическом освоении: 1) Мифологическое; 2) Религиозное; 3) Художественное. Итак, соответственно создаются шесть типов онтологических моделей универсума (А.Ф.Лосев, В.С.Степин и др.). Они комплиментарно или конфрантационно представлены в системе социума соответствующими социальными субъектами, а также во внутреннем духовном мире каждого человека в различных пропорциональных отношениях. В последнем случае их внутреннее сопряжение позволяет понять особенности диалога мировоззрений, конфронтации типов мировоззрения, явления суицида и «разорванного сознания» личности.
Нужно отметить, что каждый тип мировоззрения создает свой специфический онтологический портрет универсума. Специфика заключается в использовании имманентных каждому типу мировоззрения интеллектуальных средств: 1) В обыденном мировоззрении – традиции; 2) В мифологии – символы; 3) В религии – догматы; 4) В искусстве – образы; 5) В науке – законы, принципы; 6) В философии – идеи, концепции, теории. По Л. Н.Гумилеву (1912—1992) и А.Ф.Лосев (1893—1988) и других, обыденное мировоззрение этносов формирует традиционную модель универсума, в которой в менталитете этносов константно застывают, сохраняются и межпоколенно транслируются специфические обычаи и обряды, которые совместно с традициями создают особую национальную культуру, тогда как мифологическое мировоззрение народов мира формирует символическую модель универсума, в которой сюрреальные символ-мифы представляют этно-специфические портреты универсума, исторически наследуемые этносами. Характерна в этом отношении мифология древних греков, представленная символикой более чем 3000 богов как носителей онтологических смыслов. По Ф. Гегелю (1770—1831) и Ф. Энгельсу (1820—1895) и других религиозное мировоззрение своими четырьмя основными видами (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) и множеством конфессий моделирует свое сюрреалистическое представление об универсуме системой взаимосвязанных верой догматов, фиксированных религиозными текстами («Коран», «Библия», «Тора», «Махабхарата» и др.) выполняют функцию критерия оценки догматов, поскольку данные догматы не подлежат логической или практической верификации.
По Ч. Т.Айтматову, Н.А.Гуляеву, Р. Рахманалиеву и других, художественное мировоззрение, представленное всеми видами искусства, формирует онтологическую модель универсума системой своих литературных, музыкальных, живописных, скульптурных, театральных, кинематографических и т. д. образов. Жесткий правдоподобный натурализм отвергается искусством, как и беспредметный формализм. Реалистическая образность искусства хорошо выражена Н.Г.Чернышевским (1828—1889) в определении образа как «отражения жизни в формах самой жизни». По П. Капица (1894—1984), В.С.Степина и других, научное мировоззрение, представленное более чем 1600 наук, обладает номологической спецификой и моделирует универсум системой объективных законов, которые создают «научную картину мира», в которой представлены абиотическая, биотическая и социальная системы универсума. По И. Ньютону (1643—1727), И. Канту (1724—1804) (1724—1804) (1724—1804), М.М.Мамардашвили (1930—1990) и других, философское мировоззрение является уникальным способом моделирования универсума системой концепций, которые могут быть своеобразны у каждого философа. Концепции как виртуальные формы знания представляют собой системную композицию концептов. Универсальный характер концепций объясняет их представленность в каждом целостном типе мировоззрения, что отражено во всепроникающем статусе философии, которая делает объектом своего изучения любое явление универсума. Отсюда и всеобщее значение онтологических моделей универсума, которые генерируются выдающимися философами мира.
Объективная картина онтологической реальности все время искажается в процессе ее гносеологического построения человеком, поэтому проблемы онтогносеологии, взаимосвязи онтологического и гносеологического всегда актуализируются. Особенно это чувствуют и осознают представители форм и видов социального познания (историки, археологи, социологи, палеонтологи, экономисты, политологи и т.д.). В меньшей мере это относится к представителям естественных и технических наук, но и там возникают дискуссии относительно достоверности отражения природной реальности («приборный идеализм», «принцип дополнительности», «аннигиляция материи», «генетические коды», «теория резонанса и мезомерии» и др.). В общефилософском и даже сугубо гносеологическом отношении это несоответствие «модели и натуры», неадекватность субъективного отражения объективной реальности связана с этапностью процесса диалектического разрешения противоречия объекта и субъекта в ходе познания. Ф. Энгельс (1820—1895) в «Анти-Дюринге» эту закономерность определил, как ассимптотическое приближение субъективного образа к познаваемому объекту. Специфика гносеологического (познавательного) процесса выражается диалектически противоречивым отношением объекта и субъекта познания, что отличает его от объективной диалектики и диалектической логики. В то же время В.И.Ленин (1870—1924) в «Философских тетрадях» констатирует не только единство, но и тождество «диалектики объекта, диалектики познания и диалектики мышления», говоря, что «не надо трех слов: это одно и то же». Но наличие субъективного фактора характеризует не только гносеологическое, но и все иные отношения человека к отражаемой онтологической данности, объективной реальности: аксиологическое, методологическое и праксиологическое.
Как и в гносеологическом процессе, так и во всех иных функционирует субъект: исследователь, ценитель, методолог, деятель. Субъект общефилософского отношения к объективной реальности, к бытию обладает социально-исторически сформированными установками (знаниями, традициями, методами, шкалой ценностей, принципами деятельности), которые определяют возможность и даже социально-идеологическую необходимость специфической субъективной трактовки, интерпретации, оценки отражаемых объектов. Это неизбежно приводит к искажениям, деформациям объективного состояния отражаемой реальности, что выражается в разнообразии и смене альтернативных парадигм, концепций, методов, моделей и других субъективных отражений объективной реальности. Эти деформации, искажения, фальсификации могут быть всех четырех типов философского освоения бытия, отражения объективной реальности, что находит выражение и в частно-научных моделях реальности: 1) Гносеологические деформации проявляются в непреднамеренных заблуждениях и ошибках и преднамеренных искажениях и ложных выводах; 2) Аксиологические деформации проявляются в ошибочной или заведомо ложной оценке даже достоверно-познанных факторов; 3) Методологические деформации ярко проявляются в ошибках позитивной интерпретации методологии догматизма, релятивизм, эклектики и постмодернизма и игнорировании диалектической методологии; 4) Праксиологические деформации характеризуют ошибочные и неэффективные установки на практическую деятельность по изменению природной и социальной реальности.
Онтоантропологический принцип – одно из основных положений философии развивающейся гармонии, исходящее из органического единства и взаимной дополнительности онтологии (философского учения о мире) и антропологии (философского учения о человеке). Данный принцип ориентирует на такую онтологию, которая является общим основанием антропологии, поскольку все атрибуты человека укоренены в атрибутах мирового бытия, и на такую антропологию, которая учитывает специфическое основание человеческого бытия, позволяющее человеку доопределять мир. Из гносеонтологического принципа как идеи о первичности мышления (познающего субъекта) могут следовать разрыв тождества между мышлением (субъектом) и бытием и гносеологический пессимизм, как это можно увидеть из примера с философией И. Канта (1724—1804). Данный тип отношений между субъектом и объектом познания (между мышлением и бытием), в котором именно субъект и его познавательные способности определяют бытие, характерен для нововременного неклассического мышления. Можно попытаться возразить, что скептики как философы, исходившие из границ познания, были и в древней Греции, но они предпочитали замолчать перед непостижимостью бытия, т.е. преклонение перед бытием (его первичность) сохранялась, даже при условии его принципиальной непознаваемости. Но именно в Новое время И. Кант (1724—1804) сосредотачивается на изучения субъекта и его мышления, отводя самому бытию второе место в силу непознаваемости, т.е. в силу того, что задано человеческим мышлением.
В контексте сказанного М. Лившицем (1905—1983) о правильной активности субъекта (понимаемой как результат гармоничных отношений с бытием и «слияния» с ним), а также в контексте гносеонтологической ситуации Нового времени, стоит указать на существование серьезной угрозы. Данная угроза заключается в отдалении человека от бытия уже не только в сфере познания, но и в сфере его бытийствования, когда агрессивный, завоевательный, на вид – активный, тип отношения к бытию приведет к его пассивности или разрушительной деятельности, на что последуют, в трактовке М. Лившица (1905—1983), очередные этапы мести бытия (природы) человеку за непонимание законов и принципов естественного «хода жизни». В аспекте субьект-объектного дуализма цикличность и время являются одним из важнейших объектов философского познания, а их характеристика и измерение представляет собой одновременно гносеологическую и онтологическую проблему.
Нужно отметить, что до сих пор неясны онтологические основания измерения цикла и времени, все еще остается открытым «тривиальный» вопрос: что измеряется при измерении цикла и времени. Длительность – далеко не проясненное онтологическое свойство, с ней связана проблема ее принадлежности. Не ясным представляется, что именно длится: 1) Если длится цикл и время как таковые, то длительность оказывается и собственными онтологическими свойствами; 2) Явления и процессы не длятся, их протекание лишь фиксируются циклом и временем; 3) Если же длятся сами вещи и процессы, то длительность «принадлежит» им; 4) Длится цикл и само время, длятся и процессы в нем, своим течением цикл и время обуславливают «дление» вещей и явлений; 5) Любая конкретная длительность воспринимается как длительность лишь в том случае, если она фиксируется познающим субъектом. Однако независимо от того, чему именно принадлежит длительность, с самого начала представлений о ней речь идет о том, что измерять ее можно только с помощью свойства равномерности.
Онтолого-мировоззренческий круг – это наличие взаимной обусловленности мировоззрения и онтологии. Определенные положения онтологии обосновывают определенные мировззренческие установки и наоборот – под предпочитаемые установки подыскивается соответствующая онтология (чаще всего подсознательно). Например, ранний К. Маркс (1818—1883) с еще неопределившимися четко революционными установками видел в Эпикуровском «отклонении атома» онтологическое основание свободы, а затем, когда он поставил перед собой цель руководство революцией на научной основе, предпочел понимание свободы как осознанной необходимости. Деятелей, стремящихся к управлению теми процессами, с которыми они имеют дело, вдохновляет системная онтология, а постмодернистов, ставящих превыше всего самовыражение, – образ ризомы. Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место в нём человека в духовной системе «универсум ↔ человек». Мировоззрение представляет совокупность принципов, взглядов, убеждений, представлений, оценок, идеалов человека по отношению к окружающей действительности. В соответствии с ним люди осуществляют различные виды деятельности, живут, воспитывают детей, решают практические задачи.
Мир и человек находятся в диалектическом единстве, порождая многообразие связей. Можно изучать мир, можно изучать человека, но целесообразно изучать три предмета одновременно: мир, человека и их отношение. Это и будет представлять совокупный предмет любого типа мировоззрения. Типологическая оценка мировоззрения – это определённый уровень философского мышления, отражающий духовную меру мира, человека и процесса их взаимодействия. В теоретических источниках обычно выделяются четыре типа мировоззрения – мифологическое, религиозное, обыденное и философское. Однако действительность гораздо многообразнее и такая её мировоззренческая оценка сегодня уже недостаточна. В соответствии с этим подходом представим типологическую оценку мировоззрения: 1) Мифологическое мировоззрение – символический онтогносеологический подход; 2) Религиозное мировоззрение – догматический онтогносеологический подход; 3) Народный опыт – традиционалистское мировоззрение – традиционалистский онтогносеологический подход; 4) Художественное (искусство) мировоззрение – образный онтогносеологический подход; 5) Виртуальное мировоззрение – конструктный онтогносеологический подход; 6) Научное мировоззрение – номологический онтогносеологический подход; 7) Философское мировоззрение – концептуальный онтогносеологический подход. Общее основание у всех типов мировоззрения – единая система: «мир ↔ человек», «космос ↔ человек», «среда ↔ человек», «техника ↔ человек», «Бог ↔ Человек», «внеземные цивилизации ↔ человек». Это методология. Для упрощения отметим, что существует внечеловеческое (природа, космос, мир) и существует человеческое (социальное). Их отношение и есть основной вопрос любого типа мировоззрения. Дело заключается в том, с учётом каких позиций, принципов, взглядов, убеждений, идеалов подходить к действительности, какой предметный аспект или ракурс избрать. Общий мировоззренческий предмет при этом один – система отношений «мир ↔ человек», «не Я ↔ Я». Но в этом предмете есть свои особенности, присущие каждой из форм мироощущения.
Теоретическое отражение мифологического материала достаточно богатое – мифы, легенды, сказки, сказания, былины, пословицы, поговорки, то есть символические формы освоения внечеловеческой реальности человеком. Специфика мифологического мировоззрения в том, что природное представляется как человеческое, а человеческое как природное. С точки зрения антропоцентризма материалистическая и идеалистическая интерпретация бытия представляет собою выражение на философском языке деятельного существования самого человека. Ведь его разнообразные отношения к миру вещей сопровождаются и размышлениями о них, то есть мыслями, которые могут либо следовать, либо опережать действия человека по отношению к этим вещам. Знание как бы «выкристаллизовывается» в содержании духовной культуры независимо от воли и сознания отдельных людей и в тоже время благодаря их совместной деятельности. Оно становится достоянием общественного человека, который является носителем этого знания в единстве с тем предметным миром, при помощи которого он осуществляет свою жизнедеятельность.
Мыслительные образы осознаются индивидом как знания вещей, созданных человеком из природного материала, как своеобразные «печати», налагаемые на этот естественно-природный материал, превращаясь в фактор целенаправленной воли каждого индивида. Такое понимание познавательной деятельности, в которой онтологический и гносеологический аспекты жизнедеятельности человека становятся едиными дает основание, на наш взгляд, говорить об онтогносеологии. Поэтому с точки зрения онтогносеологии, закономерности «бытийного» мира проступают, а потому и познаются в той мере, в какой этот мир превращается в «строительный» материал «предметного тела» человеческой цивилизации. Поэтому всеобщие формы «вещей в себе», то есть естественные законы, становятся для человека формами функционирования и его «неорганического тела» – культуры. Поэтому онтогносеологический подход к проблематике бытия и знания ведет к социально обусловленному характеру личностного содержания человека. Иначе, нет, и не может быть разумности вне человеческих отношений, вне освоения интеллектуальной культуры, выработанной многими поколениями. Более того, все формы деятельности человека, его способности, передаются только через формы предметов, созданных человеком и для человека. А индивидуальное усвоение этих форм превращается в особый процесс, особую деятельность – образование, которое, вообще говоря, не совпадает с предметным формированием природного материала. Поэтому содержанием онтогносеологии становится, на наш взгляд, «переведенный» на язык философии процесс деятельного практического отношения человека к окружающему миру, к другим людям, к самому себе.
Современные информационные технологии встраиваются в общественную систему и способны коррелировать социальные отношения. Человек, регулярно находясь в виртуальном пространстве, наполненном близкими к действительности киберконструктами, начинает переносить их в реальное время. Система «мир ↔ человек» посредством информационно-технологического воздействия как бы расширяется, предоставляя человеку свободу действий в Сети, технично перенося её возможности в подсознание. Индивид виртуального мира сам становится элементом этой киберсистемы и начинает выстраивать отношения, удобные для него в любой моделируемой ситуации. Мир информационно- технических конструктов приобретает номинальные черты реального мира. Предметом его является искусственно созданная среда, система конструктов, которые обладают свойством оказывать влияние на личность, формируя её мироощущение. Человек, погружаясь в кибермир, вступает с ним в киберотношение и мнимо уподобляет себя главному конструкту всемирной Сети. Не вникая в суть происходящих изменений, он приобретает кажущуюся значимость и начинает мыслить в соответствии с заданными Сетью программными установками, воплощающими их конструктами и, что важно, получать от этой виртуальной самореализации удовлетворение. Посредством этого преображения в коммуникационной киберсистеме через систему искусственных конструктов происходит уже не формирование виртуальной реальности, а создаётся реальная виртуальность. Уже сегодня в лексикон прочно вошли многочисленные компьютерные понятия, такие как «браузер», «сайт», «файл», «апгрейт», «чат», «скачивание», «кэширование», «перезагрузка» и пр. Они воспринимаются в социальном смысле, а изменённая речь способствует размыванию чувства реальности, виртуализации сознания, мышления, мировоззрения.
В настоящее время, социальный конструкционизм рассматривается как альтернативная гносеологическая парадигма. Каковы же истоки и возможности в социально-гуманитарном дискурсе? Постнеклассическая философия, как квинтэссенция постсовременного мира, предпринимает активные попытки переосмысления познания, его сущности, назначения, подходов и методов. Зарождающаяся традиция стремится осознать познание не столько как выявляющее онтологический смысл, сколько пытается определиться с тем, как, по каким законам, при воздействии каких факторов происходит само познание. Смещение исследовательского интереса с онтологии на гносеологию неизбежно приводит к переформулированию категории субъекта познания, задает новые смыслы субъект-объектным отношениям, разворачивающимся в широком контексте внутри- и межкультурного взаимодействия. Иными словами, современная философская мысль ведет активную работу в области теории познания, пытаясь воссоздать ее понятийный аппарат и проблемное поле в соответствие с новыми актуальными вызовами и запросами. Подобные преобразования неизбежно сопряжены со стремлением трансформировать классическую гносеологию, ориентированную на сциентистские каноны, в сторону социально-гуманитарного синтетического видения, предполагающего учет культурно-исторических особенностей конкретного общества, задающих специфику познающего субъекта и возможных результатов его деятельности, которые, естественно, будут нести на себе ценностно-смысловой отпечаток, а потому, должны трактоваться в качестве многообразных, вариативных и изменчивых.
Очевидно, альтернативная философия познания проблематизировала такие термины классической гносеологии как «объективная действительность / реальность» и «истина», настаивая на необходимости их пересмотра и замены на учитывающие многоголосие позиций и потребностей разнообразных субъектов познания – «жизненное пространство / мир» и проникнутую плюрализмом «множественность истины». Как гносеологическая парадигма конструктивизм занял скептическую позицию применительно к классической онтологии философии и науки, поскольку он рьяно противостоит реализму, ставя под сомнение сам факт существования независимой от субъекта познания реальности, обозначая ее в качестве продукта / конструкта его собственной познавательной деятельности. Особый интерес к социальному конструированию реальности обусловливает и основную задачу рассматриваемой гносеологической парадигмы – исследование процессов, с помощью которых люди воспринимают, формируют и интегрируют в социальные нормы и ценности культурные феномены.
Современная философская ситуация открывает перед исследователем и мыслителем перспективы множественных логик и онтологий, которые в своем корневом переплетении создают полиморфные учения и методы идентификации понятий, схем, мыслительных конструкций. Традиционно с онтологии начинается философствование, универсальность и единство бытия становится своеобразной гарантией логических и познавательных построений человека. Однако подобная презумпция онтологии не сохраняется на протяжении всей истории философии. Философы до сих пор спорят о том, с кого необходимо начинать отсчет «философского переворота», в котором гносеология начинает диктовать условия проявленности бытия. Однако почти все сходятся в том, что основные события в слиянии онтологии и гносеологии происходят в традиции эпохи Нового времени. Особенно интересным становится событие появления на арене философской мысли феномена «Я», как возможности слияния и взаимодействия онтологических и гносеологических принципов. Феномен Я стал тем горизонтом, в котором обнаружилось проблемное поле онтогносеологии. Мною издана монография «Моя тень» (Я-концепция) (2024), а также ряд электронных книг: «Я – это Я», «Я – есть Я» (2024). Смысловой и понятийный ряд проявления проблемы «Я» можно обогащать многообразными концептами гуманитарных и естественных наук, общей сутью которых, в любом случае, остается обнаружение единичных, уникальных, частных характеристик. Однако такое определение «Я» в терминах единичности и особенности возникает не в качестве философского понимания этого феномена. Однако сегодня мы можем наблюдать и обратную ситуацию, когда феномен, описанный онтогносеологически, являющийся метафизическим принципом, входит в структуры обыденного сознания. Речь идет о феномене «Я», который долгое время был объектом пристального философского внимания и выявления его онтологических и познавательных структур. Понятие «Я» оказалось одним из немногих понятий, которые обрели чувственный образ в недрах обыденного мышления. Это впервые и позволяет раскрыть взаимосвязь онтологии и гносеологии для обыденного сознания. Онтологическая и гносеологическая проблематика не проявляется в обыденном мышлении в своей философской специфики, не идет в интерпретациях дальше удостоверения эмпирической реальности в прямом смысле понятия очевидности. Ситуация, когда здравый смысл перестает быть связан жестко логическими характеристиками и правилами понятийно-логического мышления, а, скорее даже встает в оппозицию к ним, начинает проявляться в новоевропейской философии с ее доминированием гносеологической проблематики. И не последнюю роль в этом процессе трансформации здравого смысла играет выделение феномена «Я». Чем был обусловлен процесс, в котором чисто философская, онтолого-гносеологическая категория «Я» была вывернута в эмпирическую структуру обыденного мышления? Особенно интересным для ответа на этот вопрос становится небольшое произведение Р. Декарта (1596—1650) «Разыскание истины посредством естественного света». Здесь у автора можно обнаружить столкновение обыденного сознания, понимающего «Я» в его телесности и эмпирическом восприятии, с универсальностью и взаимосвязью логических знаний.
Э.А.Тайсин, как автор концепции «экзистенциальный материализм» провел анализ подходов к основной проблеме онтогносеологии путем сравнения «классического» (кантианство, гегельянство) и «постнеклассического» (экзистенциальный реализм, экзистенциальный материализм) принципов. «Спираль» сквозных парадигм подтверждает истинность гегелевского закона: «отрицание отрицания». Онтогносеологические проблемы лежат глубже и являются более существенными, нежели раздельные полагания бытия как единого и бытия как наблюдаемого. Постнеклассический спекулятивный материализм – есть возврат философского внимания к объектам самим по себе. Гегель пишет: «Лишь в абсолютном знании, полностью преодолевается разрыв между предметом и достоверностью самого себя, и истина стала равна этой достоверности, так же как и эта достоверность стала равна истине». «Противоречащее себе не переходит в нуль, в абстрактное ничто… Так как то, что получается в качестве результата, отрицание, есть определенное отрицание, то оно имеет некоторое содержание. Оно новое понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, оно содержит больше, чем только его, и есть единство его и его противоположности». Постнеклассический материализм не рассматривает мир как текст, а герменевтику как универсальный метод его постижения, но все же сохраняет многие исходные определяющие характеристики: дилемма, коллаж, пастиш, комментарии, фантазийность, риторика, художественная семантика.
Позитивизм и структурализм изымает мировоззренческую функцию из философского поля, а на передний план выдвигается методологическая со всеми известными последствиями: теория познания становится эпистемологией, эпистемология методологией, та, в свою очередь, трансформируется в философию науки, в семантическом поле которой происходит дозревание позитивизма до постпозитивизма, а самые современные ученые говорят и пишут уже и о посттеоретической философии (В.И.Пржиленский). Современная философия так же легко объединяет субъект и объект в некое единое «здесь-и-теперь-бытие-сознание» как существенное единство онтологии и гносеологии, которую по мнению Э.А.Тайсина можно называть экзистенциальным материализмом или экзистенциальным реализмом. Философ А. Н.Фатенков считает, что всякое учение о познании, философское в частности, всегда детерминировано или координировано определённой онтологией. Причем, первым союзником экзистенциальной онтологии выступают стратегии индивидуации, то есть возвращение человека к себе.
Принцип целостности в исследовании субъекта: онтогносеоантропологический аспект. Принцип целостности – это фундаментальная исследовательская установка, направленная на всестороннее раскрытие предмета исследования. Принцип целостности неизбежно привлекает исследователя своими методологическими особенностями: всесторонний характер, полнота, связанность, логичность. Б.Г.Юдин (1943—2017) уточняет методологические функции понятия целостности. Определяя целостность как представление об объекте, выступающее в качестве основы для упорядочивания понятийного аппарата и систематизации знаний об объекте, исследователь понимает её в качестве универсальной исследовательской посылки. Подход целостности – особого рода инвариант, упорядочивающий как структурное измерение систем, так и их временное развёртывание. Именно здесь раскрывается единство онтологии и гносеологии: целостностное познание предполагает возможность открытия измерения возможного относительно предмета исследования (А.Ф.Лосев (1893—1988), Б.Г.Соколов и др.). Специфика инвариативной трактовки целостности заключается в сохранении пространственно-временного единства исследуемой системы, а также раскрытии свойства целостности, как избыточность. Такая постановка вопроса неизбежно ведёт исследователя к онтогносеологической проблематике. Игнорирование целостности как основы взаимодействия онтологического и гносеологического серьёзно ослабляет оба направления: онтология без её связи с познанием на основе выделенного инварианта остаётся замкнутой спекулятивной сферой и не получает должного применения, в то время как гносеология без выделения её бытийных оснований теряет своё обоснование. Таким образом, единство онтологии, гносеологии и философской антропологии – важнейший аспект принципа целостности.
Глава III
Итератизм: методологический и панятийный аппарат
§1. Круг как гносеонтологический символ. Мотив круга нами выбран потому, что круг, олицетворяющий круговращение является универсальным символом, означающий целостность, непрерывность, совершенство. Данный символ прошел долгий путь своеобразной эволюции, став в сознании людей как психообраз круговращения. До сих пор в философских, мифологических, литературных произведениях круг подвержен разным интерпретациям (круг, окружность, полукруг, кругообразность, дугообразность, сфера и пр.). Осмысливая значения указанного символа в своих философских, мифологических, литературно-художественных произведениях, мы приходим к пониманию его как своеобразного понятия-кода. По сути, этот код (круг, круговращение, кругооборот) постепенно стал одной из основ «движения» и нашей мыследеятельности. В этом аспекте, данная работе посвящена не только и не столько анализу значений слов круг- круговращение, цикл-циклизация, сколько обоснованию сравнительно нового учения – итератизма, исходящая из понятия «итерация», подчеркивая значения новых понятий как в прямом, так и в переносном смысле. Между тем, на наш взгляд, такая эволюция круга, как кодового символа также способствует процессу осмысления природы, общества и человека, способствует совершенствованию человека, его интеллектуальных и каждодневных жизненных знаний, умений и навыков.
Как известно, код – это система условных обозначений или сигналов для передачи, обработки и хранения различной информации. Мое обращение к коду «Круг» как своеобразному генетическому коду, обусловлено тем, что тотемом нашего рода «кара-кулов» является гора «Тегерек», что в переводе с кыргызского означает «Круг». В этой связи, мне, с позиции философии, мифологии, литературы всегда представлял интерес все три значения слова «код», которые тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы: 1) Код как система условных знаков; 2) Код как единая система передачи генетической информации; 3) Код как символ для раскрытия новых смыслов и новых знаний. Нужно отметить, что в национальной литературе, философии, лингвистике центральноазиатских стран символ «Круг» выражает, прежде всего, солнце и луну. По сути, рассматривая кругообразность казахский мыслитель О.О.Сулейменов считает, что такой символико-графический знак характерно для народов этой территории и отражает как некий код психообразов в их сознании. Действительно, в сознании людей доминирует понятие круг, круговращение, округлость, круговорот. В Кыргызстане, Казахстане в государственных символах (герб, флаг) изображено солнце от которого расходятся солнечные лучи. Но главное в символах – круг, круговращение, то есть движения, как форма жизни, а потому уже свет, тепло. Вот-так, еще в древности движение солнца и луны, их круглость, круговращение привели человека к осознанию того, что круг – это всегда двигающееся по своей орбите объект и явление.
Нужно отметить, сакральность круга обусловлена тем, что круговращение, с одной стороны, есть наиболее естественное состояние, содержащее самость, неявленное, бесконечное, по сути, саму вечность, есть, а с другой стороны, есть время, заключающее в себе пространство и отсутствие времени, как отсутствие начала и конца, пространства, верха и низа. Также следует отметить, что круг – один из наиболее распространённых элементов мифопоэтической символики гетерогенного происхождения и значения, но чаще всего выражающий идею единства, бесконечности, законченности и высшего совершенства. В этом аспекте, не зря круг признан божественным символом во многих конфессиях: колесо cансары, инь-ян, солярные знаки, диск Атона, корона Ра, нимбы святых, «крестообразно пересеченный или Совершенный Круг» Платона, «круговой танец» амазонок, змея, кусающая свой хвост и пр. Все эти символы и знаки так или иначе олицетворяют бесконечность, цикличность, вечность, святость и магию. Практически во всех религиях существуют те или иные магические круги, охраняющий от злых духов или же, наоборот, магические круги, не выпускающие за свои окружности злых духов. Круг также ассоциируется с полудугой, полуокружностью или иначе со сферой, а между тем, сфера, в свою очередь, олицетворяет многовариативность структур, четкую строгость, красоту и гармонию, архитектурные, скульптурные и иные изящества.
Уже давно подмечено, круг является одним из наиболее значимых мировых мифопоэтических символов, отражающий представления о циклическом времени («круг жизни», «годовой круг») и об основных формах структурирования пространства (деление на «своё – чужое», где круг – граница охраняемого пространства). В древних культурах пространственно-временная модель мира, основанная на идее круга, получила воплощение в универсальном образе Мирового дерева, которое выражает закономерности структурирования представлений человека о себе, социуме, природе и космосе, символизируя мировоззрение как целостную систему. В целом, идея круга лежит в основе различных поверий и охранительных ритуалов, символику круга и движения объединяет колесо и эта солярная символика (колесо-круг) присутствует в орнаментах, построениях, вышиваниях. На сегодня существует множество капитальных научных и литературных трудов, посвященных символике круга, в которых доказано, что многое в нашем восприятии мира и укладе жизни несет в себе идею круга, находя воплощение в языке: «округ», «область», «община», «интеллектуальный круг», «круг ученых», «кружки по интересам» и пр. Идея круга отражается в научной фразеологии (герменевтический круг, гештальт-круг и др.), присутствует в композиционных приемах, поэтических образах и названиях художественных произведений (Л.С.Петрушевская «Свой круг», А.И.Солженицын «В круге первом», Л.Н.Толстой «Круг чтения» и др.). В произведениях многих ученых, философов, мыслителей, писателей и поэтов рассмотрена символика круга в различных аспектах. К примеру, в философии круг служит символом внимания, изучения, познания, а круглая спираль символизирует диалектику, перспективу, прогресс. Круг, окружность с точкой в центре, как символ включения, понимания, озарения, виденья, осознанности. Следует подчеркнуть работу Джусупова М. Д. «Эволюция круга как философская и педагогическая проблема», которая отражает лингвографические памятники и лингвоисторические речевые материалы, на основе которого исследователь раскрывает определенные особенности этимологии слова «круг», особенности использования в графике понятий, выражающихся в прошлом и настоящем в соответствующих языковых единицах или уже в интерпретированных, или в иных (новых) языковых единицах. Автор обращает внимание на «кодовость» круга в культурах и это важно, в особенности для понимания значение символа в лингвистике, национальной истории, мифологии и повседневной жизни людей.
Есть феномен круга понимания, называемый герменевтическим кругом, описывающий циклическую взаимообусловленность, с одной стороны, объяснения и интерпретация, а с другой – понимания. Ф. Шлейермахер (1768—1834) считает, что процесс понимания принципиально не может быть завершён, и мысль бесконечно движется по расширяющемуся кругу. Повторное возвращение от целого к части и от частей к целому меняет и углубляет понимание смысла части, подчиняя целое постоянному развитию. М. Хайдеггер (1889—1976) считал, что в герменевтическом круге заключена позитивная возможность постижения изначального, не допуская привнесения того, что проистекает из предвидения или случайного. Г. Гадамер (1900- 2002) считал, что постигая традицию, интерпретатор сам находится внутри неё и задача состоит не в том, как выйти из герменевтического круга, а в том, как в него «правильно» войти. В. Дильтей (1833—1911) развил понятие герменевтического круга, включив в него философскую позицию автора, его психологию, а также контекст социально-культурных условий создания произведения. По автору, познающий субъект познает себя через других, но других он понимает через себя. В диалектическом понимании научный метод «анализ-синтез», как целостный метод являет собой гарантом преодоления идей герменевтического круга. Итак, для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о смысле целого.
В целом, круг и окружность – одни из самых древнейших геометрических фигур, философы древности придавали им большое значение. Круг – воплощение нескончаемого Времени и Пространства, символ всего сущего, Вселенной. Еще Пифагор (570 – 490 гг. до н. э.) считал, что «из всех фигур прекраснейшая – круг». Таким образом, круг в жизни человека имеет очень важную практическую, ментальную и духовную роль. Большое значение имеет круг, прежде всего, как универсальный символ, означающий целостность, непрерывность, первоначальное совершенство, бесконечность, отсутствие начала и конца, верха и низа, цикличность, повторяемость, завершенность. Концентрические круги в круге символизируют: 1) Небо, Вселенную и Вечность; 2) Прошлое, настоящее и будущее; 3) Землю, воздух и воду; 4) Небесные миры, землю и преисподнюю. Многие народы используют круг как символ: 1) Связи и зависимость земного и Космоса; 2) Движения вперед, к прогрессу; 3) Цикличности, повторяемости всего сущего. В целом, круг – это первичный символ единства и бесконечности, цельности, круговорота, непрерывности и цикличности, знак Абсолюта и совершенства, олицетворение вечной жизни, долголетия, изображаемый в виде Уробороса – змеи, кусающего собственный хвост (см. приложения). В Египте круг с точкой в центре был символом человека, а «квадратура круга» – это символ равнозначности: 1) Земли и Неба; 2) Пространства и Времени; 3) Человека и Вселенной. В целом, круг – сложный символ, соединяющий идею совершенства и вечности, круг превосходит все другие геометрические формы. Нужно помнить, линия круга – это единственная линия, которая не имеет ни начала, ни конца и все точки которой эквивалентны, а центр круга – источник бесконечного вращения времени и пространства. В этом аспекте, круг – одна из наиболее широко употребляемых фигур для выражения идеи вечности, так как движение по кругу символически означает постоянное возвращение к самому себе.
В буддизме единство внутреннего и внешнего миров символизируется тремя кругами: 1) Первый круг – демон, держащий в своей пасти двенадцать изначальных первопричин; 2) Второй круг – курица (сладострастие), змея (гнев) и свинья (омраченность); 3) Третий круг – люди, боги, джины, животные, ад и страдающие духи. В дзен-буддизме концентрические круги «инь» и «ян» изображаются заключенными в круге, символизируют высшие степени просветления и совершенство в единстве. Во всех религиях круг и сферу считали совершенной формой, согласующейся с ренессансной концепцией Бога, согласно которой он был космическим разумом, принявшим форму сферы, заключающей в себе весь космос – дух, ум и материю – в нисходящих концентрических сферах. В христианстве концентрические круги представляют духовные иерархии или разные стадии творения. Совершенная геометрия круга объемлет несовершенства во временном мире, возникающие с течением времени. Круг в квадрате является распространенным каббалистическим знаком, означающим божественную искру, скрытую в материи.
Следует подчеркнуть, что магический круг состоит из трех окружностей – двух лимбов и центрального круга, внутри которого располагается маг, совершающий ритуал. Круг обладает защитной функцией, останавливая злых духов. Практически во многих религиях представляет собой мифопоэтическую символику гетерогенного происхождения и значения, но чаще всего выражающий идею единства, бесконечности и законченности, то есть высшего совершенства. Кроме того, этот символ выступает как универсальная проекция шара, признаваемого идеальным телом как в мифопоэтической, так и в научно-философской традиции. Нужно подчеркнуть, что круг ограничивает внутреннее конечное пространство, но круговое движение, образующее это пространство, потенциально бесконечно. В буддизме круг – это колесо сансары, включающее в себя все в мире феноменов: три круга, образующих треугольную конструкцию, – это три драгоценности. В системе Дзен пустой круг означает просветление, у китайцев круг – это Небеса, а квадрат в них – Земля, ее союз с Небом, инь и янь совершенного человека. В христианстве круг символизирует Вселенскую Церковь, а три связанных круга – интеллект и волю. В исламе круг олицетворяет купол, свод Небес, а в даосизме круг с точкой в центре представляет Дао, высшую власть, а круг, в который вписан крест, означает рай и четыре реки, текущие в четырех основных направлениях, четыре стороны света, четыре космических цикла; четыре времени года и четыре периода жизни человека. В Кабалле центр круга – источник бесконечного вращения времени и пространства, в понимании масонов круг – конец всех фигур, так как в нем заключена тайна творения.
В свое время Я. Икскюлем (1864—1944) была предложена теория функционального круга, согласно которой окружающий мир существует для живого организма лишь в тех аспектах, что соответствуют его потребностным состояниям. Реализация этих потребностных состояний предполагает согласование, с одной стороны, «перцептуальный» мир, когда «все, что замечает субъект, превращается в его мир, в мир, меченный им», а с другой стороны, «операциональный» мир, когда «все, на что воздействует субъект, превращается в его мир действий». Эти миры существуют во взаимном соответствии, образуя «функциональный круг». На базе этих представлений делается заключение, что каждое животное оптимально приспособлено к той среде, где традиционно живет, и что по степени сложности организации животного можно судить о сложности среды его обитания. Есть теория круга Вин Чунь, предполагающий: 1) Вертикальный круг; 2) Горизонтальный круг; 3) Диагональный круг. Согласно теории круг силен по своей окружности, и слаб своей поверхностью. Причем, вертикальный круг должен быть наиболее сильным, будучи противопоставленным силе, идущей четко в центр (внешняя линия круга), или силе, направленной вниз (внутренняя часть линии круга). Соответственно, горизонтальный круг значительно слабее против силы, идущей поперек (через плоскость круга), и поворотом должен быть трансформирован в диагональный круг. Существует теорема Гаусса-Ванцеля, согласно которой идеального математического круга не существует, что круг состоит из множества многоугольников, углы которых соприкасаются с плоской поверхностью или такой же окружностью. Идеальный круг вообще бесконечен, именно потому, что имеет бесконечное количество углов. Отсюда, важно то, что мельчайшие детали (углы) образуют каскадные лавинообразные эффекты которые дают разные результаты, но конечным в идеале результатом является круг. В мире предложены несколько теорий культурных кругов. Одна из них теория, которая, развиваясь в рамках диффузионизма – концепция немецкой этнологии Ф. Ритцеля (1844—1904), внесшим понятие «культурной провинции» как территории, на которой существует специфичная для неё совокупность «этнографических предметов», в противовес эволюционизма линейной схемы исторического процесса. Л. Фробениус (1873—1938) понятие «культурный круг», использовал для систематизации африканских культур. Развитие, изменения в культурных кругах автор связывал с проникновением новых элементов в культуры в результате контактов. Если Ф. Гребнер (1877—1934) пытался найти универсальные культурные круги, которыми было бы возможно описать все культуры традиционного общества, то В. Шмидт (1868—1954) пытался придать стадиальный характер теории Ф. Гребнера, выделив первобытные, первичные, вторичные и третичные культурные круги.
По Сократу, знание являются главным благом: чем сильнее раздвигаются границы человеческого знания, тем яснее для человека становятся границы его бесконечного незнания и тем больше осмысливается безграничность поиска дальнейшего познания. «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают и этого» – так звучит пафос круга знаний, наглядно демонстрирующий обратно пропорциональную зависимость между категориями «знания» и «незнания». Таким образом, каждый внешний круг всецело включает внутренний круг, расширение круга «я не знаю» приводит к расширению круга «я знаю, что не знаю», а его расширение неизбежно приближает человека к границе круга «я не знаю», которая одинакова для всех. Чтобы достичь абсолютного блага, истинного знания, Сократ разработал диалектический метод, который основывался на трех основных компонентах: 1) Ирония обращает человека против самого себя, способствуя «очищению разума» для того, чтобы он всегда был в состоянии, необходимом для постижения истины; 2) Маевтика (преподавание) способствует осознанию человеком ограниченность своих познавательных возможностей, пробуждая в нем интерес к познанию истины; 3) Наведение (индукция), когда каждое новое знание рождает еще большее незнание, осознание того, что абсолютной истины достичь невозможно, нужна техника задавания «наводящих» вопросов, чтобы человек смог бы самостоятельно прийти к истинному знанию. Ряд зарубежных исследователей (Г. Властос, М. Стронг, М. Копелэнд, А. Адамс, В. Моеллер, М. Моеллер, П. Богоссян и др.) на основе диалектического метода Сократа основали сократическую педагогику – современный подход к обучению, позволяющий ученикам выражать свои мысли в открытом виде и развить свои способности в полной мере, а не ограничивает их потенциал с помощью унификации и стандартизации, что характерно для традиционных подходов.
«Круги в круге» – абстрактная картина русского художника В. Кандинского (1923). Внешний чёрный круг, словно вторая рамка для картины, побуждает нас сосредоточиться на взаимодействии внутренних кругов. Круг есть синтез величайших противоположностей. Он сочетает в себе концентрическое и эксцентрическое в одной и той же форме и в равновесии. Точка в круге (см. приложение) – знак первоисточника любого проявления. Метафизический смысл этого символа – сознательное начало посреди бесконечного пространства. Как только в круге появляется точка, этот символ изменит свое значение. Точка, с геометрической точки зрения – это абстрактный объект, не имеющий измерительных характеристик, она как бы есть, но показать она может лишь место расположения, начальность или конечность чего либо. Точка – это основа геометрии, линия состоит из точек, а в нашем исследовании круг как раз и является линией, замкнутой, завершенной в форме окружности. То есть у нас появился центр, и пустое пространство круга наполнилось смыслом нахождения там точки. Этот символ, например, обозначает зачатие, в котором точка это сперматозоид, а круг яйцеклетка, в момент их объединения появляется новая жизнь. Если мы посмотрим на этот символ, как если бы точка была поднята вверх над кругом, мы увидим конус, который может символизировать гору, возвышенность, будущую цель, поднятие вверх, а значит устремленность к переменам и достижению новых высот. Также мы можем наделить это значением устремленности к будущему и личностным ростом. Помимо этих, довольно положительных аспектов, мы можем найти и теневую сторону расположения точки вверху. Если же мы напротив, переместим точку вниз, то у нас получится конус, уходящий в глубину. И тут мы также можем обнаружить противоположные аспекты. Это может быть глубиной познания сути и одновременно опусканием вниз, то есть деградацией, это недостижимость цели, ресурсов для ее достижения, пиком эмоций, переживаний, накала страстей при стрессе, это может символизировать взгляд, перемещенный внутрь себя, но в тоже время это может быть закрытость и замкнутость в себе.
Если обратить внимание на квадратуру круга (см приложения), то она символизирует соответствие Небесного и Земного мира. Аналогии работают как минимум на трех уровнях: 1) Символика круга – мифологема Образа Единобожия Мира; 2) Символика квадрата – числа в математике, астрономии, музыке, физике и метафизике; 3) Символика геометрических соответствий, благодаря которой становится очевидным, что универсалии микрокосма и макрокосма красноречивы и в языке графических подобий, и в языке предметных подобий. Все это говорит о «вневременности» символа квадратуры круга. В нашем случае, символ квадратуры круга является фигуративным изображением идеи творческого единства, лежащего в основе Мира. Геометрический символ «Круг» представляет своеобразный код графических способов выражения, «язык» антропоморфизма как основное правило считывания аналогии, а мифологема определяет диапазон преданий и описаний, словесно раскрывающих главную идею. В этом осуществляется сам принцип символики, которая, по утверждению Р. Генона (1886—1951), может существовать во множестве различных форм, поскольку она «основана на отношениях аналогии или соответствия между идеей, которую надо выразить, и образом графическим, словесным или иным, посредством которого его выражают. Квадратура круга – это модель сотворенной вселенной, таинство союза Земли и Неба, когда квадратное основание – это земля, а круг – это небо. Квадратура круга – это принцип соединения двух противоположностей, и весь мир является производной от этих принципов.
Р. Генон (1886—1951) в своей книге «Символика креста» (2004) приведен к соответствию круга, когда небесная сфера приведена в соответствие земному квадрату через условность схемы квадратуры круга. Задача круга – это необходимость отобразить законы времени, сроков и абсолютной вечности. Строение земного мира понимается соответствующим строению человека, который в теории закона аналогий принят «мерой всех вещей». Сторона квадрата представляет отрезок с началом и концом жизни. Это – аллегория пути от рождения до смерти. Поэтому образ земной жизни человека представляет аналогию квадрату. В античности совершенным считался человек «квадратный». Таким образом, можно утверждать, что загадка квадратуры круга состоит в аналогии круга и квадрата, понимаемой как аналогия Небесного и Земного, макрокосма и микрокосма. Мир или Вселенная, уподоблялись человеку. Поэтому Пифагор называл человека микрокосмом.
Квадрату́ра кру́га Та́рского – это головоломка о равносоставленности круга и равновеликого квадрата (см. приложения). Возможно ли разрезать круг на конечное количество частей и собрать из них квадрат такой же площадь? Или, более формально, возможно или невозможно разбить круг на конечное количество попарно непересекающихся подмножеств и передвинуть их так, чтобы получить разбиение квадрата такой же площади на попарно непересекающиеся подмножества? Общеизвестно, четыре состояния сознания, а именно бодрствование, сновидения, глубокий сон без сновидений, трансцендентальное, вовсе не отделены друг от друга, а находятся в тесном взаимоотношении и составляют единое целое. Небольшое размышление вызывает то, что эти четыре состояния дадут шесть состояний, а их синтез будет седьмым. Если представить эти состояния четырьмя точками квадрата, а комбинации – его сторонами и диагоналями, то этих комбинаций будет всего шесть, а сама фигура целиком будет седьмым. Результат комбинации, рассматриваемый отдельно от составляющих, можно представить кругом, описывающим квадрат. В этом символе, происходящем из глубокой древности, круг означает бесконечное Всё, из которого происходит всё проявленное существование, представленное здесь квадратом и его диагоналями. Потому нахождение квадратуры круга иногда используется как символ процесса эволюции.
Есть выражение: «если человеческое сознание в состоянии хоть как-то приобщиться к тайнам жизни и тайнам Вселенной, то сакральная геометрия – наилучшее средство для этого». В сакральной геометрии все начинается с круга. Круг представляет духовный мир до его схождения в материю. Окружность имеет одну-единственную сторону, все точки которой находятся в одинаковом положении относительно центра. Окружность или сфера содержит все возможные формы и все возможные соотношения. Это Яйцеклетка Творения или человеческая яйцеклетка – неважно. А что такое яйцеклетка? – только возможность жизни… Но еще не жизнь. Единый Дух никогда не выйдет в проявление, просто бесконечно расширяясь. Яйцеклетка никогда не станет полноценной жизнью, просто увеличиваясь в размерах. Чтобы начать жить, и то, и другое должны разделиться, дифференцироваться. И Дух, и яйцеклетка начинают делиться: вначале надвое, затем еще надвое, еще… пока не образуется восемь маленьких сфер – первичных клеток (см. приложения). Итак, входя в проявление, сфера становится кубом, или круг переходит в квадра. Этот момент – поворотный, он запускает процесс движения Духа вовне, в проявление, и размыкает оболочку яйцеклетки. Только если круг станет квадратом, сможет яйцеклетка расти и превратиться в маленького человека. Вот почему, в то время как круг представляет духовный мир, квадрат является выражением материального. По выражению специалиста по сакральной геометрии Роберта Лолора: 1) Жизнь становится возможна там и тогда, где и когда возникает равенство между кругом и квадратом; 2) Смычка между материей и духом становится возможной там и тогда, где и когда периметр квадрата становится равным длине окружности. Речь действительно идет не о нахождении круга и квадрата с равными площадями, что обычно понимается под квадратурой круга. Однако, выражение «квадратура круга» используется в расширенном смысле – как метафора. Одним из демонстративных форм круга является мандала, которая, в свою очередь, представляет идеальную геометрическую комбинацию. Мандала (санскритское «круг») – это художественное представление высшей мысли и более глубокого смысла, представленное в виде геометрического символа, используемого в духовной, эмоциональной или психологической работе для концентрации внимания (см. приложения). Вглядываясь на идеальные сочетания линий и точек, такие правильные и такие гармоничные, невольно сам человек наполняется правильностью и гармоничностью.
По И. Канту (1724—1804) (1724—1804), это способность абстрагироваться и высокая проницательность духа. Секрет гениальности в естественности, воплощенного в коде мандалы. Здесь хотелось бы обратить внимание на проблему родового круга на примере моего рода, тотемом которого является гора «Тегерек», имеющую форму сферы. Вообще, следует отметить, что в настоящее время тема рода, родовой наследственности и памяти сейчас особенно актуальна. Род даёт каждому из нас очень многое – силу, генетику, здоровье, качества, таланты и способности. Как известно, предки по роду на генетическом уровне, то есть на самом первичном уровне, передают нам определенные программы и модели, с которыми сами они родились, развивались, жили. Квинтэссенцией моих тематических художественно-философских сочинений (см. предисловие и введение) является тема обращения к своим сородичам – «не пренебрегайте опытом мироощущения своего рода-племени».
Есть такая фраза: «Крутить круги». «Крутить круги» – это метафора осознанной цикличности, которая помогает стабилизировать внимание и вернуть его во внутрь. Эта метафора сыграло мне мотивом для разработки не только теории кругов, но и формирования научных основ своего учения о философии кругов в круге. Итак, в рамах «крути круги», представьте круг: у него нет начала и конца, он всегда возвращает нас к исходной точке. Но с каждым новым кругом мы смотрим на эту точку иначе, углубляя своё понимание и воспринимая её по-новому. Эта практика отражает ритуалы или действия, которые повторяются, позволяя успокоить ум и укрепить внутренний стержень. Основная цель такой практики – направить фокус внутрь, найти зону покоя и устойчивости, даже если внешний мир полон хаоса. Практика «крутить круги» – это способ выйти за пределы беспорядка, возвращаясь к осознанности через повторяемые действия, которые успокаивают и стабилизируют.
Ниже будут представлены основные идеи теории кругов. Внутреннее следует воспринимать как источник отпада от центробежной силы. Наш интерес «перекинуть» себя на более большой либо высокий круг вращения – драгоценный ресурс. Центростремительные силы стараются отвлечь человека от внешней цели к внутреннему состоянию. В такой ситуации центростремительные силы не только могут предотвратить человека от попыток «перекинуть» себя в перспективу, но и даже «выпасть» из своего круга в более узкий и низкий круг вращения. Тем не менее, внешний – более обширный и высокий мир, чем настоящий, воспринимается всегда как важный и желанный для человека. Однако, в попытке угнаться за его ритмом и орбитой круга человек забывает о своих ресурсах и потенциале. Это приводит к тому, что человек становится заложником обстоятельств, вновь и вновь пытаясь «перепрыгнуть самого себя». Итог – перманентная усталость, раздражение и чувство опустошённости. В такой ситуации человеку нужно осознать свой ритм и свою орбиту «крутить круги». Вместо автоматических реакций приходит осознанность, позволяющая оставаться спокойным и собранным даже в условиях стресса и перегрузки. В этом аспекте, важно осмыслить внутреннее как точку устойчивости, когда нужно найти место внутри себя, где царят покой и ясность. Это «центр круга» – та точка, вокруг которой выстраиваются цикличные действия. Она остаётся неподвижной даже тогда, когда внешние обстоятельства меняются. Эту внутреннюю точку можно сравнить с наблюдателем, который не вовлекается в суету, но осознаёт происходящее. Когда мы соединяемся с этим центром, мы перестаём быть жертвами обстоятельств, становясь хозяевами своего состояния. Однако, чтобы найти и укрепить эту точку, требуется регулярная дозированная работа «крути круги». Повторяемость действий позволяет осознать её существование и развить с ней глубокую связь, чтобы не «выпасть» из своего круга (см. приложения). В этом аспекте, интеграция цикличности в повседневность помогает: 1) Стабилизировать ум, когда мозг перестаёт выдавать хаотичные команды, искать новые стимулы; 2) Углублять осознание связи с настоящим, прошлым и будущим. Так наступает возвращение к себе через круги, а потому «крутить круги» – это не просто метафора, а эффективный способ обрести внутреннюю устойчивость.
В своей концепции о кругах в круге представлены и другие концепции, связанные с кругами, трансцендентыми кривыми. К трансцендентым кривым относятся графики ряда функций: 1) Трактриса (линия влечения) – плоская трансцендентная кривая, для которой длина отрезка касательной от точки касания до точки пересечения с фиксированной прямой является постоянной величиной; 2) Циклоида (в пер с греч. – круглый) – плоская трансцендентная кривая, определяемая кинематически как траектория фиксированной точки производящей окружности радиуса, катящейся без скольжения по прямой; 3) Трохоида (в пер. с греч. – колесообразный) – плоская трансцендентная кривая, описываемая параметрическими уравнениями; 4) Гипоциклоида (в пер. с греч. – круг) – плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по внутренней стороне другой окружности без скольжения; 5) Эпициклоида (в пер. с греч. – окружность) – плоская кривая, образуемая фиксированной точкой окружности, катящейся по другой окружности. В рамках трансцендентых кривых интерес представляют ряд круглых фигур: 1) Архимедова спираль – плоская кривая, траектория точки равномерно движется вдоль луча; 2) Логарифмическая спираль – плоская трансцендентная кривая, пересекающая все радиусы-векторы под одним и тем же углом. Если говорить о кругах познания, то есть круги Анаксимена – большой и малый. Вокруг этих кругов – неизвестность (см. приложения). Большой круг познания ограничен большим периметром неизвестного, чем меньший. Отсюда следует, чем большим количеством знаний обладает человек, тем всё больше и больше у него возникает вопросов. Есть и известная аллегория «Круг Сократа»: «Я знаю, что ничего не знаю». В том и другом случаях речь идет о специфике познавательного процесса. Каждое познание сопровождается возникновением еще большего количества вопросов. Существует так называемый неразрывный круг Зертимона: 1) Суть первого круга такова, что сила в знании, те, кто не может познать себя, потеряны и служат манипуляциям других; 2) Суть второго круга в том, что готовность к познанию признак подлинной силы; 3) Суть третьего круга в том, что нужно проявить терпение, и через него стать сильным и свободным; 4) Суть четвертого круга в том, что следует учиться видеть всю полноту картины событий, иначе открывшаяся правда ослепит человека; 5) Суть пятого круга в том, что многие, собравшись вместе, могут достичь гораздо большего, чем по отдельности; 6) Суть шестого круга в том, что во всем следует искать баланс, иначе можно потерять цель; 7) Суть седьмого круга в том, что в познании следует запастись терпением, как главным достоинством познающего; 8) Суть восьмого круга в том, что сила черпается в самопознании.
Есть теория Шри Ауробиндо, согласно которой существует граница раздела (см. приложения) между мирами Материи (нижней материальной полусферы) и мирами Духа (верхней духовной полусферы). Это учение позволяет нам переходить из мира Верховного разума в мир Сверхразума, а между тем, это новый эволюционный уровень. Мы имеем современного человека-ума, но вопрос о том, что материя проявила жизнь, а жизнь – разум, но что проявит разум остается пока неизвестным. Однако, есть идеи, которые считают, что если сам человек очень внимательно проследить современное развитие своего разума, то он сможет найти его конечную цель. Возможно, она заключается в обретении разумом истинного Знания. Мир Разума должен проявит через себя мир Знания. Человек-ума станет человеком-знания. Наступить могущество Света Сверхразума, исчезнут тени. Будущий мир – это мир без Тьмы. Такова схема становления человека-знания из человека-ума: «Материя – Жизнь – Разум – Знание».
Согласно Единого учения имеется три сферы Вселенной: 1) Духовная (ментальная); 2) Душевная (астральная); 3) Физическая. Аналогично им в человеческом обществе существуют три круга людей: 1) Первый круг – люди, осознавшие свою принадлежность к духовному миру и созидающие свою жизнь в служении его законам; 2) Второй круг – люди так называемого Мира Души, не свободные от личностных иллюзий и заблуждений, но, тем не менее, творчески стремящиеся к нравственному самосовершенствованию и значительно более открытые для духовного знания; 3) Третий круг – люди, мыслящие материально, служащие своим телам и высшей ценностью признающие блага и удовольствия физического мира. В этом круге действует Сансара – порочный круг страстей, страданий и перерождений (Адорно Т.). Православному святому Феофану Затворнику принадлежат слова: «Когда сознание и свобода на стороне духа, человек духовен; когда на стороне души, он душевен; когда на стороне плоти, он плотян». Между тем, три названных круга людей способны к взаимопроникновению. Все зависит от уровня познания вовне и внутри себя. В этом плане, подлинное Духовное Учение призвано проникнуть на разных уровнях во все три круга человеческого общества и изменить его сознание в целом, то есть одухотворить и усовершенствовать жизнь человечества. Выделяются три нравственно-психологических процесса, которые измеряют качество и объем проделанной Человеком духовной работы: 1) Очищение; 2) Трансформация; 3) Расширение. Очищение личности и общества в целом невозможно без повсеместного изучения законов души и Вселенной в их взаимосвязи. Трансформация предвидит интеграцию изученных законов в жизнь и постоянное следование принципу Единства. Следовать Единству – значит осознать иллюзорность и бессмысленность противоречий и противопоставлений. Принять Единство – значит служить воссоединению всех трех кругов общества в один Великий Человеческий круг. Расширение сознания – энергетический процесс, тесно связанный с пробуждением Истинного «Я» Человека (Шри Ауробиндо).
А.М.Белосельскому принадлежит дианология (круговая схема) познавательных способностей (см. приложения): 1) Первый круг – «инертная неопределенность», представляющая собой лишь потенцию познания. Это самая низшая сфера познания, называемая иначе животной «тупостью», где доминирует чувства и инстинкт; 2) Второй круг – «сфера простоты или суждения» здесь доминирует здравый смысл и интуиция; 3) Третий круг – «сфера рассудка», отличительные черты которой – ясность, последовательность, упорядоченность; 4) Четвертый круг – «сфера прозорливости или трансценденции», особенностью которой является познание предмета как целого. Это и есть сфера философии; 5) Пятый круг – «сфера духа» – область творческого воображения, гения. Дух – вершина познания, он «показывает больше, чем ожидают увидеть», он – враг «застоя и пределов», единственный предел для него – сама жизнь. Автором подчеркивается, что воображение должно оперировать только реальным материалом, иначе на своих крыльях оно может легко унестись в «пространства вымыслов». Между познавательными «сферами» расположены «пространства ошибок», как бы указывая на рубеж, за которым познание превращается в свою противоположность.
И. Кант (1724—1804), комментируя указанные круги познавательных способностей человека пишет: «Страна рассудка в широком значении этого слова есть способность мыслить, страна созерцания есть простая способность чувствовать, воспринимать и состоит из трех сфер». По И. Канту (1724—1804), страна рассудков состоит из следующих сфер: 1) Первая – сфера способности понимать, создавать понятия, объединять созерцания; 2) Вторая – сфера ума, суждения или способности применять понятия к частным случаям; 3) Третья – сфера разума или способности выводить частное из всеобщего, то есть мыслить по основоположениям“. И. Кант пишет: „Если эти три умственные способности первой страны будут употреблены по аналогии с высшим законодательством разума, направленным на истинное завершение человека, и создадут систему, целью которой является мудрость, то они составят сферу философии. А если приведут себя в соответствие с низшей способностью (простым созерцанием), а именно с самой существенной ее частью, которая представляет собой творчество и состоит в воображении (не порабощая себя при этом законами, а отдаваясь стремлению черпать из самих себя, как это имеет место в изящных искусствах), то они составят особую сферу гения, что равнозначно слову «дар», «творец». Итак, по И. Канту (1724—1804), рассудок, способность к суждениям, разум являются тремя китами, на которых держится мир философии, приведенный в систему: 1) Рассудок – основа науки, он формирует понятия; 2) Способность суждения пользуется ими в конкретных случаях жизни и деятельности; 3) Разум – контрольная инстанция, направляющая рассудок, ограждающая его от ошибок, это сфера нравственности, практического осуществления философских принципов. А что за сферой этих сфер? И. Кант отвечает: «Если, наконец, воображение уничтожает себя произвольным своим действием, оно вырождается в обычное помрачение или расстройство ума; когда оно не повинуется больше разуму, да еще силится поработить его, человек выпадает из сословия (сферы) человечества, низвергаясь в сферу безрассудства или безумия».
Ключевым критерием знания является не истинность знания, а его полнота и целостность. Путь к свободе и счастью отождествляться с путём познания. Познание и, вследствие этого, использование или изменение мира – вот, в общем-то, смысл существования каждого задумывающегося человека. На этом уровне осознания добро сливается со злом, свобода с необходимостью, истина с ложью – и всё объединяется в некоем Абсолюте. Единственное, что остаётся человеку – стремиться к возможно более полному познанию этого Абсолюта. И вот в этом, действительно, и свобода, и полнота. Зная множество возможных истин и концепций, мы способны не считать ни одну из них абсолютной истиной – и быть свободными в своём мировоззрении. Именно в знании – свобода (В.А.Лекторский, В.С.Стёпин и др.). Полное незнание, если бы оно было возможно, наверно, делало человека свободным от всех стереотипов и предубеждений. Абсолютное знание – тоже. Границы универсума каждого человека настолько широки, насколько он их знает. Поэтому узкое, ограниченное знание – это цепи, это границы нашего мира. Мы освещаем лучами своего знания несколько случайных фрагментов мира, и, не видя ничего более, полагаем, что это и есть мир. И что нужно жить именно в нем и именно так – потому, что это весь мир (Плеснер Х). Поэтому, однажды ступив на путь познания, не остаётся иного выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше.
Круг как потенциальная бесконечность времени, не имеющего ни начала, ни конца, тогда как круговращение допускает, что любое сущее ограничено во времени, но вечно по своим возможностям преодолевать временные границы, переходя в другие круги как по вертикали, так и по горизонтали или диагонали. Какие факторы определяют такой переход? Возможно ли аттракторы переход? Согласно нашей теории кругов, аттрактором перехода из одного круга в другой, точней из более «низкого» (узкого) круга в более «высокий» (широкого) круг является, некая «центробежная сила», олицетворивший потенциал субъекта, намеревающейся совершить такой переход, тогда как аттрактором перехода из более «высокого» (широкого) в низкий (узкий) круг является некая «центростремительная сила», олицетворивший потенциал субъекта, попавшего в соответствующие обстоятельства, вынуждающего его на такой обратимый, по сути, исход. Общеизвестно, в физическом мире движение тела по кругу определяют две силы: 1) Центростремительная; 2) Центробежная. Эти противоположные силы являются фундаментальными понятиями в физике, касающегося кругового движения физического тела. Центростремительная сила действует на объект, движущийся по криволинейной траектории, всегда направленной к центру окружности. Ее роль имеет решающее значение для поддержания равномерного кругового движения за счет постоянного изменения направления скорости объекта, не влияя на его скорость. С другой стороны, центробежная сила – это псевдосила, которая выталкивает тело наружу из центра вращения, противодействуя его центростремительной силе. Хотя центростремительная сила реальна и поддается наблюдению, центробежная сила – это кажущаяся сила, испытываемая объектами во вращающейся системе отсчета из-за их инерции. Вместе эти силы играют важную роль в объяснении различных явлений – от орбит планет до динамики аттракционов в парках развлечений, обогащая наше понимание кругового движения в физическом мире.
Из курса физики понятно, что центробежная сила возникает вследствие криволинейного движения тела. При криволинейном движении скорость тела постоянно изменяется по направлению, поэтому, даже если абсолютная величина скорости постоянна, производная от скорости по времени (ускорение) не равна нулю. В соответствии со вторым законом И. Ньютона: «Сила есть произведение массы на ускорение», возникает центробежная сила. Итак, центростремительная сила – это внешняя сила, которая уравновешивает центробежную силу и удерживает тело на определенной криволинейной траектории. Обе силы необходимы для кругового движения В то время как центростремительная сила по своей природе является реальной силой и действует в инерциальной системе отсчета, центробежная сила является псевдосилой и действует во внутренней системе отсчета. Обе эти силы равны по величине и противоположны по направлениям. Интуитивно понятно, что центробежная сила стремится удерживать объект, движущийся по прямой линии, и противодействует повороту, с другой стороны, центростремительная сила заставляет объект двигаться по кругу. Центростремительная сила направлена к центру вращения, а центробежная по касательной к орбите вращения. Для движущегося по орбите тела эти силы уравновешивают друг друга и не дают телу улететь от центра вращения или упасть на него. Центростремительная сила постоянно притягивает вращающееся тело и пытается сорвать его с орбиты, тогда как центробежная сила – это сила инерции равномерного прямолинейного движения, которая пытается направить тело по прямой траектории, то есть сорвать Землю с орбиты в нашем примере.
Наша концепция кругов в социальном применении. Исходным мотивом было то, что для исследователей, исключительно важное значение имеет тот факт, что круг – это символ двойственности, системности познания. Согласно нашей концепции, около каждого круга можно обвести другой и каждый из них это уже, с одной стороны, новое начало и конец, а с другой – всякое окончание и новое начало: 1) Этот факт, символизирующий нравственный факт усовершенствования, вечно привлекательного и никогда недосягаемого; 2) Этот факт, первый двигатель и всегда не удовлетворенный критик нашего развития; 3) Этот факт может послужить как собрание разных отличительных черт человеческих свойств и возможностей (положительны, отрицательных) во всех родах их упражнения. Как известно, в каждой траектории деятельности человека имеет место влияние аналогичных для физического тела двух противоположных сил – условных центробежных и условно центростремительных. Согласно нашей концепции кругов, человек в своем движении к совершенствованию пытается из одного социального круга перейти в другую, более высокую (широкую), чем тот круг (низкий, узкий), в котором он находится (см. приложения). Для этого человеку требуется развить фактор условной центробежной силы и «вырваться» из круга с целью «зацепиться» и найти свое место в движение в новом, более (высоком, широком) совершенном социальном круге. Если та условная центробежная сила этого человека уступит место центростремительной силе, то он не сможет «зацепиться» в этом круге и выпадет из него. Если же сила влияния некоего центростремительного движения и впредь будет превалировать, то человек может выпасть из своего социального круга, в более низкий (узкий) уровень круга, что означает для него упадок, регресс, так как более низкий круг повергнет его еще далее в пучину, которая будет поглощать все отжившее.
Итак, согласно нашей концепции кругов, круг за кругом, как ступень за ступенью человек в своем совершенстве должен восходить по таинственной лестнице (социальной, профессиональной, творческой, культурологической и пр.). Эти ступени – наши соответствующие знания, опыт, мировоззрения, действия, новые прогрессивные стремления, которых человек должен открывать перед собой в новых, более высоких (широких) по уровню кругах, дающих ему новые возможности и могущества, когда всякие прежние достижения должны быть отодвинуты назад последующими достижениями. Между тем, это означает прогресс в своем движении к совершенству, это означает новую перспективу будущего. Человек, стремящийся к совершенствованию самого себя на этом не остановится, разум скоро привыкает к новому положению вещей, тогда проявляется его безвредность и благотворность, которые вскоре истощив свою энергию, поблекнут и исчезнут пред новыми достижениями уже в следующем, еще более высоком (широком) социальном, профессиональном, творческом круге. Новый круг, новая степень совершенства в соответствующих сферах деятельности (работы, образования, творчества, культуры и пр.), скоро изменяет желания и все направление человека. В целом, каждый шаг, круг, мысль двигает такого человека вперед. Однако, когда человек перестает работать над собой может разразится обратный процесс в сторону упадка и регресса по тем же законам, что некогда толкали человека вперед к высотам. Таких примеров жизни людей множество, в том числе очень наглядных, когда человек оказывается между крайними кругами – от низкого (узкого) к высокому (широкому) и, наоборот, от высокого (широкого) к низкому (узкому).
Таким образом, сама жизнь и деятельность конкретного человека вращается в круге, который, образовавшись из незаметного средоточия, расширяется во все направления новыми, все увеличивающимися кругами, все далее и далее – до бесконечного человеческого совершенства. Если это касается сильного духом, познаниями и своими творческими способностями человека, который ниспровергает границы, то прогресс очевиден и он просто «чертит» все новые высокие круги, отличающийся свое беспредельностью. Однако, есть личности, которые в силу разных причин и факторов, в том числе свойственных лишь ему, так и не преодолеет свою «темность», «узость», то есть несовершенство, то вынужден ощутить всю закономерность нисходящего пути из более высокого (широкого) круга, постоянно «выпадать» в низкий (узкий) круг. По сути, редким считаются индивиды, которые в своем падении находят силы как-то остановится и сделать крайний предел своих достижений найти все же начало новой прогрессии.
Как известно, философия предстает как обширная по охвату и универсальная по глубине восприятию наука: 1) О бытие (Онтология); 2) О познании (Гносеология); 3) О человеке (Антропология); 4) О культуре (Культурология). Однако возникают обстоятельства, прежде всего, в виде расширения и усложнение проблемного поля и функций философии с возникновением новых направлений на пересечении компонентов исходной базовой структуры. То есть неких кентавр-направлений: гносеонтология, гносеоантропология, гносеонтоантропология и пр. Конечно же нельзя считать эти направления взаимно-однозначное соответствующими, когда каждый элемент одного множества соотносится с каким-либо элементом другого множества, и в обоих множествах не остается не соотнесенных друг с другом элементов – объекта, предмета изучения. Однако, нельзя отрицать факт взаимодополнительности, когда вклад каждого из взаимосоотносящихся элементов множества в образуемую ими целокупность. Речь идет о необходимость каждого из них по отношению к целостности и достаточности остальных элементов множества. Каждый из них представляет собой некий круг системы взглядов, идей и подходов (гносеонтологический круг, гносеонтоантропологический круг, онто-мировоззренческий круг). В этом аспекте, образно взаимосвязанные круги представляют собой определенной формы композицию – пространственную форму организации, представляющая собой упорядоченное соотношение элементов множества – кругов в круге либо их совместное вращение по орбите более широкого круга. В любом случае сыграет свою роль воздействие и перенесение воздействия, как категории, раскрывающие структуру взаимодействия. Воздействие – это изменения в одном из взаимодействующих элементов множества, являющиеся условием изменений в другом из взаимодействующих элементов множества. Привнесение воздействий трактуется как изменения или состояние одного из множеств, обусловленные изменениями в другом множестве. Лишь в этом случае предметное поле круга обретет новый диалектический смысл и новую циклическую конфигурацию. Диалектика движения такого уже более целостного круга представляют более целостную философию, «живущего» по всеобщим законам диалектики: 1) Единство и борьба противоположностей; 2) Отрицание отрицания; 3) Переход количества в качество.
Всегда было важно гносеологическое и онтологическое обоснование мировоззрения. Так в философии развивающейся гармонии как основе ноосферного мировоззрения прогресс понимается как развитие в направлении возрастания развивающейся гармонии, тогда как регресс как появление и возрастание дисгармонии. В этом аспекте, имеет значение соотношение онтологии, гносеологии, антропологии, культурологии и пр. в качестве необходимого элемента философии. Развитие есть смена качеств, но оно имеет определенную направленность. В бесконечном мире не существует какой-то единой и абсолютно доминирующей направленности. Однако имеют место всеобщие типы направленности, которых можно выразить в виде антиномий: добро / зло; порядок / хаос и пр., которые воспринимаются как нечто положительное / отрицательное, прогрессивное / регрессивное, новое / старое и пр. Любая направленность, независимо от её положительного или отрицательного значения, в процессе развития предстает как объективная тенденция или субъективная целеустремленность к определенной смене качеств в одновременных измерениях онтологии, гносеологии, философской антропологии, культурологии и пр. В этом аспекте, целесообразно воспринимать мир целостно, когда отдельные круги в отношении друг другу представляют собой в порядке субстанциональности – подхода «все во всем», то есть связь между собой именно через то целое, по отношению к которому они выступают как части, а целое как «все» понимается как открытая целостность.
Работу нашей концепции кругов можно проиллюстрировать в ракурсе научных достижений ученых и ученого сообщества (см. приложения). На основании многолетних исследований тот или иной ученый находит новый научный факт (Первый круг) и продолжает свою результативную исследовательскую деятельность. Есть ученые, которые находят и фиксируют в своем кругу новые научные идеи (Второй круг). Есть исследователи, которые уже находят и фиксируют в своем кругу уже научную концепцию и научную гипотезу (Третий круг), но есть ученые, которые строит научную теорию, совершает научное открытие (Четвертый круг), которого на тот момент научное общество признает как совершенный научный итог, а личность аттестует как выдающегося ученого, очерчивая его новый статус в кругу более высоких, чем в первой тройке кругов, достижений. Но вот является другой ученый и начертывает круг, обширнее четвертого круга, законченность которого научное сообщество недавно признавала, а тот самый пятый круг – это круг ученых, которые не только свершили прорывные научные теории и открытия, а научное сообщество признает в их лицах великих ученых, достойных Нобелевской премии мира, но и расширили свой горизонтальный круг за счет своих параллельных достижений в сфере искусства и философии (поэзия, литература, художества, философии). «Центробежными силами» для ученых каждого круга является исследовательский талант и настойчивость, исследовательское чутье и уникальность мышления, воображение и творческая проницательность.
Конечно же жаль, что люди проходят мимо своих возможностей, не верят в то, что они могут и должны «перескакивать» из одного круга в другую по вертикали, горизонтали, диагонали. Беспрерывное желание возвыситься над самим собой, идти выше по спиральному кругу должно стать правилом действия любого человека. Философия и литература есть внешняя точка круга в образе жизни многих творческих личностей новейших времен. Они служат площадкой, с высоты которой можно более обширно взглянуть на самого себя, на свою жизнь и деятельность. Из этого «высокого» круга естественный, социальный и человеческий мир можно изобразить целою системою концентрических кругов в разных сочетаниях, продленных как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали. Люди должны прийти к пониманию сути своих «кругов», ощутить всю их неустойчивость, зависящую от стремления, усердия, настойчивости, работоспособности, таланта. Само по себе система «кругов» не нова. Человеку прививают закономерности бытия (круговращение) уже в школьном возрасте. Однако, нужно понимать, что эти закономерности являются лишь приложениями к цели, но не сама цель, которую каждый человек ставит перед собой. Их следует понимать не как мотив, причину и следствие, а как закон безграничного самосовершенствования. Человек, который идет вперед, развиваясь и совершенствуясь, «перескакивая» из одного круга в другую, сохраняет, при своем новом повышении все приобретения прошлого, с той только разницею, что они представляются ему в другом, более совершенном виде. Речь идет о более высоких мыслях, суждениях, более достойных поступках, поведениях. Именно поэтому выдающиеся личности и их деяния сравниваются с солнцем, светящимся, дающим тепло, свет своей яркостью. Каждая выдающаяся личность совершает движение вперед, давая людям свет, знания, заряжая жизненной деятельностью.
§2. Круговращение как фундаментальное свойство развития природных и общественных систем. Как известно, круговращение (цикличность) многогранный термин, обозначающий бесконечность, повторяемость, невозможность прекратить, постоянное возвращение к первоначалу, используется для описания вещей, которые регулярно повторяются или происходят через регулярные интервалы. Корень циклического – «цикл», что означает движение по кругу или сам круг. Согласно определения, цикл следует осмысливать как законченный, так и незаконченный, то есть прерванный процесс, элементы которого (фазы, стадии, этапы), следуя друг за другом или чередуясь, составляют единый ряд, единое целое, тогда как цикличность – это наличие, существование цикла или циклов в структуре или развитии чего-либо. Так или иначе цикличность (или вечное возвращение) – концепция восприятия мира как вечно повторяющихся событий. Значение совершаясь циклами, в совокупности взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени.
Цикличность относится к повторяющимся и предсказуемым закономерностям или циклам, которые наблюдаются в определенном явлении. Существует теория цикличности, согласно которой развитие природных и социальных систем и подсистем следует рассматривать как последовательность повторяющихся циклов. При этом под циклом понимается совокупность процессов и явлений, составляющих кругооборот в течение определенного промежутка времени и приводящих природную или социальную систему, а также их подсистем в исходное или подобное исходному состояние. Безусловно, циклический процесс – это поступательный, эволюционный процесс, которого следует воспринимать как спираль, а цикл как виток в ней, а потому всякое развитие совершается противоречиво, постольку его поступательность находится в единстве с элементами цикличности. Признак повторяемости, цикличности процессов и явлений в свете современных представлений естественных наук принимается за объективный критерий наличия у них внутренней закономерности. Из истории известно, что представления о циклическом развитии природы и общества характерны не только для индийской, но и для греческой философии, яркими представителями которых являются великие личности – Гераклит,Эмпедокл,Платон,Аристотель,Марк Аврелий и др. Так, согласно Платону (427 – 347 гг. до н. э.), Космос существует как вечное чередование катастроф и рождений, свои циклы присущи развитию любого общества, напр. истории эллинов. Такие представления о цикличности и закономерной повторяемости исторического развития легли в основу философских и общеисторических концепций общественного развития Дж. Вико, Г. Рюккерта, Н.Я.Данилевского, О. Шпленгера, А. Тойнби, К. Кунгли, Л.Н.Гумилева, М. Одеонома и др. В этих концепциях циклы развития общества, как правило, представляют собой «жизненные циклы» тех или иных социальных систем: 1) «Век варварства»; «Век героев»; «Век городов; «Век законов», «Век разума» (Дж. Вико); 2) «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» культур (О. Шпенглер); 3) «Генезис», «Рост», «Надлом», «Распад» цивилизаций (А. Тойнби); 4) «Фазы этногенеза и развития этносов (Л.Н.Гумилев). Общая черта этих теорий состоит в том, что «жизненные циклы» являются более или менее универсальными схемами, которые, по замыслу их авторов, описывают развитие любой культуры, цивилизации или этноса. Наряду с «жизненными циклами» большой протяженности (от нескольких сотен до нескольких тысяч лет) в ряде теорий цикличности используются циклы «смены поколений», имеющие протяженность от нескольких десятков (25—35 лет) до сотни лет. Проблемы социальных поколений и их смены как механизма общественного развития представлены в трудах видных философов разных эпох: Н. Макиавелии, Ж. Бодена, Т. Компанелли, Б. Паскаля Д. Юма, Ж.-Ж.Руссо, Ф.М.Фурье, О. Конта, А. Фергюсона, К.А.Сен-Симона, Дж. С. Милля, Г. Спенсера, В. Дилтея, Л. Ранке, В. Парето, К. Мангейма, X. Ортега-и-Гассета, А. Шлезингера и др. Проблемы природных циклов отражены в философских трудах У. Джевонса, Н.А.Морозова, К.Э.Циалковского, А.Л.Чижевского, В.И.Вернадского и др.
Нужно отметить, теории цикличности раскрывают те стороны развития общества, на которые не обращают внимания теоретики социальной эволюции как чисто поступательного процесса. Однако представления о цикле исторического развития как о замкнутом круге, присущее многим теориям цикличности, в целом не являются адекватными и подвергаются справедливой критике. Социум, проходя цикл или период в своем развитии, не может вернуться в исходную точку. Поэтому более плодотворными и в настоящее время распространенными являются теории, рассматривающие исторические циклы как открытые, т.е. приводящие социальную систему не в исходное, а в новое состояние, хотя частично подобное исходному. На наш взгляд, это касается и теорий научно-мировоззренческой культуры, предложенную нами (Ашимов И. А., Сагымбаев М. А. Научное открытие «Закономерность формирования и изменение состояния современной научно-мировоззренческой культуры» (М., 2018). Наличие незамкнутых циклов (длинных волн) исторического развития показано в работах Й. Шумпетера, Ф. Симиана, Э. Лабрусса, Ф. Броделя, И. Уоллерстайна, Э. Манделя, Дж. Голдстайна, Д. Кондратьева и др. Исследованиями указанных авторов, фактически волновой подход оценки развития общества в настоящее время представляет собой самостоятельное направление научной и философской мысли, отличающееся от классических теорий цикличности. Кстати, классическим примером качественной (эволюционной) закономерности служит ряд хроник массовых размножений или снижений численности животных за длительный исторический период. Эти многолетние временные ряды уже заключают в себе информацию об интегральном влиянии на динамику популяций животных всех средовых факторов, в том числе космических, особенно экстремальных (резких изменений солнечной и геомагнитной активности) на конечную численность популяций в пределах обширных территорий. Примечательно то, что именно временные ряды являются основным информационным обеспечением для разработки алгоритмов многолетних прогнозов с учетом прогнозного космического и геофизического фона.
Теория «цикличности природной среды» А.Л.Чижевского (1897—1964) уже давно применяются в прогнозных мерах в сельскохозяйственной сфере, сфере природопользования, биотехнологии. Циклы с соответствующими периодами выявлены астрофизиками, геофизиками, гидрологами, дендрологами, климатологами в многолетней динамике солнечной активности, геомагнитной возмущенности, климатообразующих факторов, метеорологических элементов, регулировании воспроизводства сельскохозяйственных культур. Анализ хроник массовых размножений за указанный исторический период свидетельствует о полном совпадении их начал с годами резких изменений солнечной активности. Ведь не зря В.И.Вернадский (1863—1945) неоднократно повторял: «корни всякого открытия лежат далеко в глубине, и, как волны бьются с разбегу о берег, так и человеческая мысль постоянно находится в напряжении, пока не настанет «девятый вал». Действительно, развитие науки, как, впрочем, и большинства процессов исторического развития в человеческом обществе, имеет циклический характер во времени, что, как известно, выражается в смене парадигм и постулатов. Как указывалось в §1, на первых стадиях цикла совершается накопление данных о фактах и принципах развития процессов и явлений материального мира, с установлением научных фактов (Первый круг), тогда как на втором – выдвижение научных идей и их обоснование (Второй круг). На следующем эмпирическая проверка выдвигаемой гипотезы и их аргументационная верификация (Третий круг), затем следующий этап – стадия формирования синтетических теорий целостного характера на уровне научного открытия (Четвертый круг). Лишь потом соответствующее оформление новой парадигмы (Пятый круг). Есть интересные факты цикличности творческой активности выдающихся деятелей науки, отражаемая историей всплеска научных открытий (1905, 1907—1916, 1917, 1933) А. Эйнштейна (1879—1955), которая четко совпадает с годами резких изменений солнечной активности. Аналогичная история циклизации научных открытий мирового порядка у Н. Бора, В. Гейзенберга, И. В. Курчатова, Л.Д.Ландау, И.Е.Тамма и др.
Аспект итеративности в текущей проблематике излагается и раскрывается в рамках философии постмодерна (Ж. Деррида и Ж. Делез); психоанализа (З. Фрейд, Ж. Лакан); упоминается на стыке компьютерных наук (итерационный цикл). Значительный научный и философский корпус трудов уделяет внимание концепции жизненного цикла и её моделированию в междисциплинарных сферах: от жизненных циклов социальной динамики (О. Рамштадт), отдельного человека (Э. Эриксон), структур (И. Адизес) до жизненных циклов технических сфер (Дж. Доси, Ш. Перес, С.Ю.Глазьев), пятидесятилетних циклов в социокультурной эволюции (С.Ю.Маслов), жизненных циклов научной специальности (М. де Мей, Н. Маллинз) и др. Среди существующих подходов к категории «жизненный цикл» следует отметить и «водопадную модель проектирования жизненного цикла проекта» (каскадная модель). Она опирается на понятие «итерации». Идее цикличности отвечает теория Ф. Ницше (1844—1900), который придавал чрезвычайную значимость идее вечного возвращения, утверждающая, что, по сути, вселенная есть повторяющийся цикл событий. Она замкнута кругом возвращений, поскольку снова и снова та же самая завершенная цепь событий должна следовать в фиксированном порядке, всегда возвращаясь к началу. В чем же заключаются философские аспекты этой идеи? Идея вечного возвращения одновременно является попыткой осмыслить бытие мира во времени и поиском новых ориентиров существования человека в мире. В одном случае речь идет о выявлении фундаментальных законов мироздания: в бесконечном времени в этом мире все повторяется бесконечное число раз. Ф. Ницше дает человеку новый императив, который будет определять не знание о бытии мира как такового, но его способ существования в мире. Если в первом случае постулируется абсолютная бессмысленность бытия, то здесь, наоборот, существование наделяется новым всеобъемлющим смыслом. У автора стираются границы между конечным и бесконечным, временным и вневременным, имманентным и трансцендентным. В циклической модели времени имеется в виду повторение некоего универсального порядка бытия сущего, принципов его организации. У Ф. Ницше же говорит о повторении не сущности, но именно сущего. Он выступает одновременно и как философ и как творец мифов. Идея вечного возвращения есть и у Г. Гейне, Ф. М. Достоевского, Д.И.Чижевского, Л. Н. Толстого, А.С.Пушкина, А. Блока и др. В отличие от них, для Ф. Ницше (1844—1900) вечное возвращение оправдывает человеческое существование вообще и, в частности, предоставляет философскую поддержку двум другим его взаимозависимым и сопоставимым идеям воли к власти. По автору, время – вечная связь, пространство – завершенный цикл, а реальность – воля к власти как творческая сила энергии без начала или конца (бытие есть бесконечное возвращение завершенного становления). Для этого философа всеобщий круг вечных изменений – неизбежный закон космической реальности. Но что важно, Ф. Ницше (1844—1900) добавляет в концепцию времени еще и этическое содержание: все наши действия будут повторяться бесконечное количество раз и если вы сегодня решаете совершить плохой поступок, как бы вы его ни оправдывали, вы будете его повторять бесконечное количество раз. Если человеку удается исправить от первого круга до последующих кругов жизни – он становится Сверхчеловеком.
Основатель космической биологии А.Л.Чижевский (1897—1964) писал, что «есть некоторая внеземная сила, воздействующая извне на развитие событий в человеческих обществах. Синхронность изменений солнечной активности и человеческой деятельности служит лучшим указанием на эту силу». По автору, человеческие организмы реагируют на колебания напряженности солнечной активности, поэтому поведение человека в определенном отношении может зависеть от природных условий. Попытка естественнонаучного обоснования зависимости поведения народных масс от космического влияния А.Л.Чижевским (1897—1964) встретила резкое противодействие. Лишь в конце девяностых годов прошлого столетия, благодаря исследованиям проблемы «Солнце-биосфера», стало очевидным, что исторический процесс также цикличен и развивается синхронно с динамикой солнечной активности. В этом аспекте, оказывается, цикличность психической деятельности всего человечества также сопряжена с циклами солнечной активности. Как известно, критерий истины – это опыт и практика, а критерий достоверности теории – оправдываемость прогнозов, построенных на ее основе, а также справедливое признание ученого и его теории со стороны ученого сословия. Получены многочисленные доказательства сопряженной эволюции Земли и Солнца, тесной связи динамики солнечной активности и этапов развития биосферы.
Космические циклы и их влияния воспринимаются биосистемами как непосредственно, так и через посредство климатических и других изменений в геосферных и биосферных циклах. А.П.Дубров установил циклические изменения таких основополагающих процессов как генетические, биохимические и физиологические и показал их сопряженность с вариациями геомагнитного поля в его спокойный и возмущенный периоды. Р.Л.Берг (1913—2006) в результате генетических исследований установил, что мутационный процесс как один из элементарных факторов микроэволюции также цикличен. Получается, что биологические системы формируются и развиваются во внешней среде и под влиянием последней, поэтому неизбежна синхронизации обеспечивают согласованность различных явлений, усиление и взаимодействие и в принципе создают предпосылки для формирования организации, основанной на отношениях резонансного типа. Ученые, проанализировав цикличность солнечных, атмосферных и биосферных процессов и явлений, делают следующие резюме о цикличности: 1) Это фундаментальное свойство функционирования и развития природных и социальных систем, один из главных универсальных принципов эволюции природы и общества; 2) Она присуща всем ныне известным уровням организации мира, начиная от молекулярно-генетического, организменно-популяционного, до социально-ноосферного; 3) Познание ее закономерностей в динамике природных и социальных системах создает основу для прогнозирования их функционирования и развития мира в пространстве и во времени.
Важно отметить, что цикличность цивилизационного развития означает не только периодическую смену одного «мира» другим, но и смену одного вектора другим внутри каждого цикла. Цикл завершается энтелехией, то есть содержит в себе и результат, и новый, скрытый внутри самой системы, потенциал развития. В природной среде сами энергетические трансформации внутри цикла должны пройти стадию эволюции, то есть развитие в направлении более высокого уровня организации системы, её упорядочения и снижения энтропии. Затем следует стадия инволюции, то есть возврата системы к её неупорядоченности, когда порядок сменяется хаосом максимальной энтропии. При нулевой энтропии система не обладает потенциалом развития, но некоторое время продолжает движение по инерции. Согласно принципа временной фрактальности структура природной системы распадается на части, которые уже не способны к самостоятельному развитию. Возникает новый цикл и все начинается сначала. Как известно, такая же закономерность имеет место в системе социального и ноосферного развития. Согласно теории этногенеза Л.Н.Гумилева (1912—1992), появившейся на свет этногруппа должна сложится в систему, а затем добиться своего быстрого роста от тихого обывателя, адаптированного к биоценозу ареала до стремления к идеалу победы, территориального расширения с усложнением внутренних и внешних этнических связей. Между тем, рост системы создает инерцию развития, медленно теряющуюся от сопротивления среды, постепенно наступает упадок и гибель. Все эти закономерности «работают» и сегодня. Люди, применяя современную силовую технологию снижают свой силовой потенциал, используя генно-модифицированные продукты снижают иммунный потенциал, развивая транспортные средства, утрачивают свои двигательные возможности, применяя компьютерную технологию и искусственный интеллект, снижают мыслительную способность. В итоге подрывается эволюционный процесс развития самого человечества.
Главным символом сущего, объединяющему миры богов, людей, а также стихий считали уробороса – свернувшегося в кольцо змия или дракон, кусающий себя за хвост. Такой змий или дракон наделялся функциями стража границы между миром живых и мертвых, руководящим процессами перехода между формами существования – сменяемость, круговращение, кругооборот, а также бесконечность жизненных циклов. Между тем, ряд мировых религий, в том числе христианство до сих пор отрицают ученье о цикличности, отождествляя змея, поедающего свой хвост с силами зла, дьявола, ада, считая уроборос символом конечности мира. Средневековые алхимики использовали этот символ для обозначения множества «истин», а также воплощением цикла смерти и перерождения. Интересно рассмотреть идею тождественности и подобия циклов в теории культурно-исторических циклов (Я. Данилевский, Дж. Тойнби, О. Шпендлер, П. Сорокин и др.). Авторами культура рассматривается как замкнутая, самодостаточная система, нацеленная на сохранение целостности, самотождественности. Циклическая культура сравнивает себя с прошлым, используя категории времени как квалификационную характеристику, охватывающую все параметры бытия культуры. Движение по циклу всегда связано со сменами прогресса и регресса, потерей в настоящем и приобретением в будущем. Для философии интерес представляет идея не тождественных, а подобных циклов, то есть повторения истории в целом, в общих чертах и формах, фазах и типах развития, а не в отдельных деталях, частных моментах.
Согласно концепции культурно-исторической цикличности, каждый тип культуры или цивилизации проходит в своем развитии сходные, подобные фазы, ступени, стадии роста: 1) Рождение, детство, молодость и зрелость, старость, смерть (О. Шпенглер); 2) Рождение, рост, упадок, надлом, разложение, исчезновение (Дж. Тойнби). В судьбе каждой культуры существует критический момент надлома, который свидетельствует об исчерпании ее жизненной силы, о переходе ее к окостенению жизни, бездуховности, безнадежности. В результате культура (цивилизация) исчезает, полностью реализовав свою жизненную силу, духовный потенциал, испытав при этом чувство удовлетворения от исполненной миссии и передачи своего опыта и ценностей другим культурам. В отрицательном варианте культура исчезает полностью, растворившийся в нежизнеспособных субкультурах. Интересным, по сути, является вечно актуальная китайская культура, основанная на целостности природы, общества и человека, основанная на гармонию «Дао», утверждающее текучесть и изменчивость всего мироздания, цикличность его движения и изменений, фазность прихода и ухода, расширения и сжатия. По мнению китайцев, все проявления «Дао» рождены динамическим взаимодействием противоположных сил – «инь» и «янь» (темное / светлое, мужское / женское, движение / покой, интуиция / разум, ум / рассудок и пр.). Китайская культура и философия утверждает, если ситуация в своем развитии доходит до крайности, она начнет двигаться в противоположном направлении и превратится в свою противоположность, что легло в основу китайского учения о золотой середине.
Не менее интересным является рассмотрение цикличности согласно гегелевского соотношения: «Отрицание отрицания» / «Цикличность и поступательность изменений». В философии Ф. Гегеля (1770—1831), согласно принципу тождества бытия и мышления, ритм разрешения диалектических противоречий мысли и связанных с ними диалектических отрицаний был перенесен и на бытие. «Отрицание» как реальный аналог логического, мысленного отрицания (антитезиса) истолковывается как непременный момент, многократно повторяющийся в любом процессе, где имеет место смена фаз, периодов, этапов развития объекта, когда каждая новая фаза «отрицает» предыдущую. При этом диалектическое «отрицание» включает в себя триединый процесс: 1) Деструкция – разрушение, преодоление, изживание прежнего, расчищается место для нового; 2) Кумуляция – сохраняемость, преемственность, трансляция; 3) Конструкция – формирование, создания нового, формирование качественно новых связей, функций. Примеров единство трех указанных моментов множество. В частности, мы использовали такую схему при конструировании мифа «Тегерек», его деконструкции с целью конструирование уже неомифа «Проклятье Круга Зла», а в целом и при создании «Теории мифоконструкции» (2021) и теории формирования и изменение состояния современной научно-мировоззренческой культуры» (Научное открытие, 2018).
«Спиралевидные» процессы, сочетающие в себе цикличность, относительную повторяемость и поступательность в своем движении к прогрессу так и не воспринимаются правителями. А ведь должны быть у них догадки, заключены в мыслях и суждениях: 1) О необходимости разрешения противоречий противоположностей; 2) О ритмическом чередовании их сбалансированности, гармонизации и нарушении равновесия как постоянно воспроизводящихся циклах; 3) О поступательности, прорыва, преодоления исходного уровня страны, выхода за рамки того, что существовало на предыдущем уровне, формирования качественно новых уровней развития. Следует отметить, что в материалистической диалектике отношение противоположностей толкуется не просто как чередование нарушений и восстановлений их равновесия, но и как их асимметрия, приводящая к направленному поступательному изменению, развитию. А ведь статус тоталитарного государства без сегмента официальной оппозиции не способствует такому движению вперед, а, наоборот, отбрасывает страну назад, в пучину архаики. Следует отметить существование двух фундаментальных теоретических конструктов: 1) Теорий циклической вселенной; 2) Теория циклического времени. Если первая теория ведёт к понятию периодического универсального времени, то вторая теория ведет к пониманию замкнутости времени подобно кругу. Согласно теорий в конце каждого цикла расширения и последующего сжатия Вселенная попадать в сингулярность, а затем возникает новый цикл расширения и сжатия, подобно первому циклу и так бесконечно. Вот почему Вселенную называют осциллирующей. Если считать, что эволюция мира могла бы начаться всякий раз по-новому в каждом цикле, то рушится концепции «вечного возвращения» Вселенной в исходное состояние. Но, если исходить не из возможностей повторения одного и того же сочетания, а из концепции циклического времени, то возможность «вечного возвращения» становится неизбежной.
Существует теория «стрелы времени» Н. Пригожина, главной сутью которой является неприятие замкнутого времени, особенно кругового. Согласно современной теории информации Л. Бриллюэна, наблюдение является сущностно необратимым процессом, что приводит к радикальным предположениям о необъективности самой анизотропии времени. Многие варианты и способы протекания времени считаются абстрагированным, мифологичными, фантазийными. Тем самым, «стрела времени» соединяет оба процесса: 1) Субъективный; 2) Объективный. Такую картину предполагают ряд моих научно-фантастический романа: «Клон дервиша» (2014), «Виртуальная жизнь тысячу лет в прошлом» (2024), «Аватар» (2024) и др. В них отражено возможности времени в виртуальном пространстве: если бы времена были кругом, то не было бы разницы между тысячелетиями жизни, проходящей через отдельный цикл событий и фактов, проходящие через ряд идентичных циклов. Ибо любое различие необходимо означало бы, что время не является цикличным. Если бы они были идентичными, не было бы смысла рассматривать их как происходящие раздельно.
§3. Итерация как идейная основа итератизма. Итерация (лат. iteratio – повторение) имеет большой смысл, если учесть значение слова «снова»: 1) Как акта повторения одной и той же последовательности действий для достижения нужного результата; 2) Как шаг в циклическом процессе совершенствования чего-либо. В этом аспекте, использование итерации позволяет находить приблизительные корни с заданным уровнем точности. При использовании итерационных методов можно подставить приблизительное значение корня в формулу итерации, а затем подставляете этот новый приблизительный корень обратно, пока не получите корень с желаемой точностью. Телом цикла является та самая последовательность инструкций, предназначенная для многократного исполнения, тогда как единичное выполнение тела цикла называется итерацией. В этом смысле, круг – является телом цикла итерации или иначе ее сущностью. Итак, итерация – круговращение одной и той же последовательности действий для достижения нужного результата. Между тем, конечным результатом итерации в процессе проектирования обычно является часть рабочего кода, которым является круг – один шаг в циклическом процессе совершенствования чего-либо. Следовательно, круг является своеобразным кодом итерации. Но в чем смысл итеративности? Итеративный характер относится к процессу повторения циклов анализа и улучшения, что позволяет постепенно совершенствовать и корректировать процессы или системы. Демонстративным примером итеративности является научно-познавательная стратегия (усл. – «Н-ПС»), которая, кстати, составляет основу научно-мировоззренческой культуры (усл. – «Н-МК»), являясь ее элементами. С такой точки зрения, познавательная стратегия («Н-ПС»), а также формирование на такой базе «Н-МК», являются начальными и конечными этапами поэтапно-последовательного итеративного процесса.
На наш взгляд, именно благодаря итеративному подходу и итеративному мышлению идет непрерывный процесс совершенствования во всех сферах жизни. Следует также подчеркнуть, что примером итеративного процесса является и социально-философские феномены повторения. Социально-философская экспликация факторов повторения и итерации социальных объектов и процессов, отсутствие мультидисциплинарного подхода к исследованию итеративности и циклизма в социальной сфере приобретает все большую актуальность. Забегая вперед, хотим подчеркнуть, что нами впервые осуществлена попытка провести философское обобщение учения о круге, круговращении – итертизма. В наших исследованиях мы акцент социально-философской экспликации феномена повторяемости перенесли на категорию «Зло». В целях акцентуации такого подхода, усиления наглядности и облегчения восприятия проблемы круговращения, в качестве художественного нарратива нами были искусственно сконструированы миф «Тегерек» и неомиф «Проклятье Круга Зла», в которых речь идет о природе, фабрике, эволюции Зла. В результате последующей философской экспликации, «анализ-синтез» существующих циклических представлений о них, во-первых, осуществлена попытка философского обобщения методологической роли итератизма Зла; во-вторых, предпринято расширение традиционного содержания понятия «круг» различными социально-философскими интерпретациями. Нужно отметить, что обнаружение итеративного характера развития социальных, социально-психологических процессов, факторов, обусловливающих социальную динамику под влиянием соответствующего мифа и неомифа, позволил нам в какой-то мере выстраивать новые способы прогнозирования социальных явлений в сфере восприятия и осмысления феномена Зла. В плоскости итератизма Зла актуальным является вопрос о наличии фундаментальных социальных «циклических констант», фундирующих устойчивые циклы развития того или иного социального сообщества. Проявление циклов осуществляется через множество итераций, природа которых может носить разнообразный характер, фундируя «инобытие цикла» в самых разных формах и проявлениях.
В настоящее время существует внушительное число исследовательских направлений и поднаправлений, предметикой которых являются проблемы круговращения, циклов, итераций. В своих исследованиях, мы основывались на исторических, философских, социально-философских и социально-психологических мыслях О. Шпенглера, В. Шубарта, А. Дж. Тойнби, Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, П. Сорокина, А. Тоффлера, А. Шлезингера, Н. Макиавелли, Дж. Вико, Ф. Гвиччардини, Ибн Халдуна, Ж.-А. Кондорсэ, Г. Гегеля, К. Маркса, О. Конта, В. Парето, Р. Михельса, Т. Куна, Н.Д.Кондратьева, Й. Шумпетера, В. Ростоу. Важно отметить, что феномен итеративности присутствовал как в античной, так и в древневосточной философии, пронизанной мифами (Анаксимандр, Гераклит, Платон, Полибий, Аристотель, Плутарх, Лукреций и др.). Идея циклизма и итераций хорошо представлены и в трудах русских философов и историков: Т.С.Кондратьев, Т.В.Панфилов, М.В.Сапронова, Ю.Н.Соколов, А.В.Улыбин, С.А.Саперкин, К.Е.Рыбак, В.В.Афанасьев, Л.И.Новикова, В.А.Лимонов, Ю.В.Яковца, Л.Е.Гринин, А.В.Коротаев и др. Есть и новейшие работы в сфере циклизма: Н.С.Розова – автора концепции «колеи» российских циклов; Д.В.Реута, М.И.Баранова, С.О.Майорова – авторов метафорического и междисциплинарного использования циклов и итераций в естественно-научной области знания («Цикл Кребса», «Теория поколений»). На сегодня существуют: теория SINIC (Казума Татеиси); модели «вековых» социально-демографических циклов (П. Турчин), концепция «математики истории» (А. Деулофеу-и-Торрес).
Подробное рассмотрение научных концепций циклического развития онтологических, исторических, культурных, цивилизационных, природных процессов прослеживается в работах многих ученых и мыслителей – представителей как естественных, так и гуманитарных наук. А. Веселовский считает «переживание прежде созданных образов» как своеобразную перекличку ситуаций и эпизодов в разных текстах автора. Однако, «единый» текст всего авторского творчества не представляет собой панорамную смену живых картин и портретов, так как он насыщен сложной внутренней динамикой, жанровым разнообразием, богатством нарративных ситуаций, мотивов, напряженным эмоциональным и интеллектуальным проявлением авторского начала. В конечном счете, речь идет об интенсивной творческой эволюции, в процессе которой автор возвращается к истокам, непрерывно корректируя созданное. К существованию цикличности и циклов такая природа творческой индивидуальности автора особенность его художественного мышления имеют самое прямое отношение, так как являются объективным истоком структурных и других художественных феноменов. В последние десятилетия проявился и интенсивно развивается общенаучный интерес к циклическим процессам, который, пусть опосредованно, но отражается и в литературоведении. Однако, недостаточность теоретической основы продолжает ощущаться до сих пор. А ведь еще 30 лет тому назад участники 1-й международной конференции «Циклические процессы в природе и обществе» (Ставрополь, 1993) сетовали: 1) Широкое внедрение в практику научных исследований циклического подхода сдерживается из-за отсутствия общей теории циклов; 2) Необходимы взаимные усилия и контакты ученых разных отраслей науки – гуманитарных и естественных, чтобы проблема циклической основы мироздания, всех сфер природной, человеческой и общественной жизни была активно продвинута. Ряд ученых (Ю.Н.Соколов, Н.П.Медведев, И.П.Яковлев и др.) предложили общеметодологические и философские положения по разработке проблем цикличности.
На рубеже ХХ-XXI веков гуманитарная наука подошла к осознанию того, что в качестве предпосылок того или иного художественного явления следует рассматривать не только исторический фактор, социальный и общественно-политический фон эпохи, не только общекультурный и философский контекст в его синхронном и диахронном звучании, но и гораздо более глубинные, архетипические структуры, которые определяют законы человеческого мышления и мировосприятия в целом. Каждая последующая эпоха накладывает свой отпечаток, ставит свои акценты, наращивает свою плоть, но в глубине, в основе остается жестко сконструированный, тонко обточенный и глубоко заложенный архаикой скелет. Традиция изучения этой основы была заложена философами и религиоведами, на современном этапе она плодотворно развивается в искусствознании, культурологии и филологических науках. Резко возросло внимание к системному подходу, к проблеме соотношения частей, а также целого и части, к методу моделирования на разных уровнях конкретики и абстракции. Проблема цикла и цикличности входит в ту же обойму. Следуя этому течению мы также пытались исследовать проблему цикличности и итерации. Вообще, нужно отметить, о проблеме цикличности как универсального закона бытия, о постижении этого закона в самой глубокой древности, о разработке циклической модели мироздания, об интерпретациях циклических процессов представителями разных философских систем от древнейших времен до нашего времени – все эти и другие проблемы так или иначе проясняют объективную основу творчества писателя, стихийно и сознательно постигающего мир, вырабатывающего свои формы воспроизведения действительности.
В нашей работе мы задались целью обосновать методологическое, концептуальное, философское модельное многообразие итеративности познания, образования и культуры: 1) В области социально-философской интерпретации феномена Абсолютного Зла; 2) В области формирования и развития современной «Н-МК». При этом основой работы выступает общая теория циклов в историко-философской традиции (Ф. Ницше. О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев, П.А.Сорокин, Л.Н.Гумилев), В.В.Афанасьев, Ю.В.Яковец и др.). Лишь на первый взгляд, цикл или круг условно просты и однообразны, однако, это не так. На методологическом уровне природа цикла, особенно в социальной философии, видимо еще не оценена по достоинству и предстает как некий статичный «кругообразный» повтор, не связанный с другими структурами и процессами. В этом плане, расширение природы цикла за счет смежных механизмов и процессов, полученных философской методологией, открывает для социальной философии творческое поле всевозможных мысленных экспериментов. В своих исследованиях мы акцентируем, что простая циклизация перестает быть лишь только классическим кругом, при этом сохраняя механизм повтора, который может быть иногда выражен несовместимыми с точки зрения «кругообразности» структурами и процессами. В этом случае социально-философская методология получает возможность обретения дополнительных средств моделирования, наглядного наблюдения и прогнозирования. Жесткая связанность цикла только с кругом разрывается, порождая новый язык социально-философских моделей и теорий.
При разработке нашего учения мы задавались вопросом: что нужно сделать, чтобы добиться цельности восприятия феномена итерации? Итогом обсуждения этого вопроса была необходимость осмысления ряда социально-философских феноменов на уровне художественной, то есть метафорической, фантазийной, мифологической их экспликации. Нужно отметить, что ученые и мыслители имеют огромный опыт и практику исследования, экспериментирования и разработок различных учений, концепций, теорий. В этом аспекте, итератизм как учение о круге и круговращении также задевает проблематику формирования новой мыслительной технологии, ориентированную на результат. По существу, итератизм как учение, ориентированная на работу итерациями предполагает повторение процесса с измененными переменными для получения различных результатов по принципу «пытаться снова и снова» либо начиная с нуля, либо используя предыдущий результат в качестве отправной точки. Так формируется итерационная матрица, в которой можно выполнять итерации: 1) По горизонтали; 2) По вертикали; 3) По диагонали. При этом горизонтальные итерации означают движение вширь, когда мысли, идеи и подходы каждый раз начинается с нуля. В каждой итерации исследователю нужно сфокусироваться на конкретном результате – получение общей картины. Вертикальные итерации предполагают движение вглубь, что является лучшей версией целевого движения на основе конкретной идеи. Начиная с результатов предыдущей итерации, можно менять отдельные детали, пока не будет достигнут лучший результат. Диагональные итерации означают движение в сторону поэтапно-последовательного отсева неоптимального направления движения, когда какая-то мысль, идея, подход не работают, а исследователь бывает вынужден «на ходу» перейти к другим мыслительным технологиям и снова, либо расширится, либо углубиться. При этом целью всех форм итераций являются достижения совершенства, на основе последовательных, все лучших и лучших результатов.
Следует отметить, что итерация, прежде всего, это работа с информациями, ибо, новые мысли, идеи, подходы, принципы – это не только новые исследования, но и новые лучшие результаты. Итерации начинаются как наброски. Их цель – представить идею таким образом, чтобы можно было быстро распознать суть проблемы и найти приемлемое решение. Причем, чем быстрее человек или исследователь осмыслит суть проблемы, тем быстрее он найдет такое решение. В этом аспекте, важен «Первая круг», когда целью итерации является максимально быстрое и эффективное осмысление проблемы, мыслей, идей, подходов, принципов, как необходимого составляющего будущего решения. На наш взгляд, «Первый круг» (итерации) в любом сложном процессе и в любой сложной философской тематике является все же литературно-художественный, образно-метафорический, мифолого-фантастический нарратив, главная задача которых упростит и унифицировать понятийный материал проблемы, увеличит доступность и познаваемость рассматриваемой тематики и проблемы. В своих исследования мы выделяем следующие фазы (этапы): 1) «Популяризации знаний»; 2) «Концептуализация знаний»; 3) «Философизация знаний», которые не только унифицируют понятийный аппарат рассматриваемой проблемы, но и расширяют пространство знания за счет их доступности и унификации (см. приложения).
Следует отметить, что понимая итерации, как инструменты открытий, изучения и развития, не следует тратить слишком много времени на каждую отдельную итерацию. В целом, в основе итераций лежит идея эволюции. Добавление новой версии поверх последней позволяет исследователю стабильно работать над улучшением результата. Вместо того, чтобы пытаться добиться совершенного решения с первой попытки («Первый круг»), целесообразно работать поэтапно-последовательно, то есть циклами возрастающей сложности. На второй итерации («Второй круг»), чтобы найти новую или уникальную идею, исследователю надо сначала не только хорошо проанализировать проблему (Первый круг»). Чем раньше исследователь поймет, что может не сработать, тем быстрее он исправит это или разработаете новое решение. Работа итерациями может избавить исследователя от ошибок влияния обстоятельств – «страха чистого листа». Когда на человека или исследователя не давит необходимость сделать все идеально, то они зачастую добиваются более высоких результатов. В целом, первичные наброски (нарратив) для «Первого круга» могут быть несколько не реальными и даже абстрактными, фантастичными, но важно то, что они помогут получить общее представление по проблеме в целом. «Первый круг» уже позволяет человеку сфокусироваться на важном, отклонить неэффективные идеи, подходы и принципы без затрат времени и усилий. «Третий круг» и последующие круги (n-итерация, n-круг) позволяют выделит перспективные идеи, подходы, принципы и улучшать их до тех пор, пока они не станут идеальными. На каждом этапе итерации, то есть в каждом кругу идет проработка, детализация, совершенствование. В итоге, контент исследовательской работы становится высококачественным за счет прохождения через бесконечные круги дополнения, исправления, детализации (бесконечные итерации).
Выше говорилось о том, что круг, круговорот, цикличность, итерация являются своего рода универсумом мышления человека. Еще в древности в его основе лежали природные ритмы (фазы луны, времена года, стадии развития любого живого организма, чередование дня и ночи и пр.). Для того, чтобы преодолеть замкнутость каждого цикла, внести в модель идею движения, существовали обрядовые практики, направленные на повторения, возобновления тех или иных мифических событий прошлого – во времена начальных и последующих кругов и циклов. В традиционном, унифицированном понимании в сознании людей закреплялось мысли о том, что в настоящем повторялось прошлое, в будущем – настоящее и так по кругу. Причем, мир прошлого – это мир предков, которые в той или иной мере каким-то образом влияли на людей живущих в настоящем, а в будущем, когда они умрут, уже их мир в контексте уже прошлого, будут оказывать влияние на будущее, замкнув тем самым круг времени. Эволюция миропонимания круговращения поколений и времени постепенно усложнялась. В мифологии, философии, литературе начинают укореняться понятие линейности, возникают бинарные категории начала и конца мира. В античных философских учениях и мифологии существует некая универсальная точка отсчета – состояние хаоса, а дальнейшее развитие предполагает состояние покоя, порядка, в свою очередь развитие такого состояния сменяется снова хаосом. В те времена, естественно, не было даже представление о существовании такого явления как энтропия, сингулярность. Смену хаоса на порядок и, наоборот, порядка на хаос а античных учениях и мифологиях объясняли некими космическими катастрофами, вызванными гневом богов. Вот почему во многом такие учения и мифы носили ярко выраженный эсхатологический характер, когда беды, трагедии и катастрофы уничтожают старый круг жизни и дают начало новому. В этом аспекте, и наши искусственно спроектированные миф и неомиф имеют эсхатологический профиль в форме борьбы Добра и Зла. При мотивации создания этих мифологий мы учли тот момент, что в Исламе, буддизме, в отличие от христианства, католицизма, синтоизма, соотношение Добра и Зла решается в пользу Добра, тогда как категория Зла всегда остается на задворках исследовательского поля мифологии, философии, литературы. Хотя, всю систему взглядов, идей и представлений об однонаправленной линии судьбы человека – от сотворения – к дню Высшего суда, унаследовали практически все мировые религии. Вечность бытия выражается в них через образ божества, проходящего последовательно через «жизнь – смерть – воскресение» снова и снова, но с одной лишь разницей, в новом круге человек и все сущее в мире возвращаются в другом качестве, вот почему круг бытия оказывается не только вечным, циклическим, но трансформным. Такая идея в корне отличается от ницщеанского «вечного возвращения», но схожа этому феномену в вариации Делеза.
Нужно подчеркнуть, что концепция мифа как онтологического феномена была разработана А.Ф.Лосевым. Согласно этой концепции миф есть не выдумка, но категория бытия: «Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность», – пишет он. Во многих трудах категория «добро» и «зло» – эти понятия имеют не только этический, но и онтологический смысл. При этом следует различать «добро» и «зло» от объективно приносимых блага или вреда именно по факту внутренней направленности на соответствующие результаты. Одно дело наносить ущерб в силу объективной организации данного сущего и его среды, другое – почувствовать внутреннюю ценность нанесения вреда как такового. При исследованиях по мотивам «Мифа о Тегерек» и «Неомифа о Тегерек» мы основывались на соответствующих символах, знаках и их значениях в онтологическом аспекте. При таком подходе – указанные категории, отражающие отношение сущих, выступают в качестве специфического для субъективной реальности. Любое сущее в соотношенях с другими сущими может выступать не только как таковое (как элемент объективной реальности), но и как знак, имеющий значение для носителя какой-то субъективной реальности, как сигнал, несущий для неё определенную информацию, как заместитель (репрезентант) какого-то другого сущего, снятого в данном значении или информации.
В настоящее время, потребность в обозначении смены циклов – это потребность в этиологии движения, диалектического развития мира, воплощение идеи линейности на основе энтропии. Цикл, циклизация представляет собой пример континуальности и дискретности, или иначе непрерывность и прерывность – категории, характеризующие элементы структуры как единое и многое, простое и сложное. Следует заметить, архетипы мышления содержат в себе сложно выстроенную и вариативно действующую модель мира, определяемую временными схемами разной конфигурации и сложного взаимосочетаний. С одной стороны, модель времени имеет линейно-циклический характер, определяемый дихотомиями «начальное время» / «историческое время», «сотворение мира» / «гибель мира» или триадой «прошлое – настоящее – будущее», а с другой стороны, в ней заложено циклическое начало, подпитываемое цикличностью природных, биологических и космических циклов, а также многовековой традицией философского, мифологического, религиозного мировоззрения. Взаимодействие двух схем движения (линейно-циклическое, циклическое) может создавать самые разные формы круговорота. Наиболее распространенной и целесообразной среди них является форма спиралевидного движения (см. приложения). Циклическое круговое движение в ней обеспечивается линейной направленностью и диаметром разомкнутых кругов. Идея цикличности у Ф. Гегеля (1770—1831) выразилась в законе отрицание отрицания, выражающем идею спиралевидности развития
В целом, весь комплекс представлений о циклической и линейно-циклической модели мира оказал огромное влияние на развитие философской, мифологической и религиозной мысли человечества в целом. Большую роль циклическая модель мироздания играла в концепциях античных философов (Платон, Сократ, Диоген и др.). Согласно концепций христианских философов циклична космология, цивилизация, культура, общество, история, а также сам человек с его разумом по восходящей линии. Последняя идея, хорошо отражена в исследованиях Ф. Гегеля, А. Тюрго, Ж. Кондорсе, И.Г.Гердера. Большую известность получили концепции К. Ясперса, А. Тойнби, О. Шпенглера, Н.Я.Данилевского, П. Сорокина и др. Следует подчеркнуть тот факт, что концепции циклического развития онтологических, исторических, культурных, цивилизационных и др. процессов в той или иной мере отмечают роль циклических элементов в развитии менталитета народов и народностей, творческой их составляющей, что никак не может не отразится в научной, мифологической, художественной рефлексии, и в их интуициях. Именно, благодаря им идеи, принципы и концепции цикличности бытия получили большое распространение в мире, расширили свое пространство и время. По определению Ю.М.Лотмана (1922—1993) «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений». Действительно, художественное пространство и время образуют пространственно-временной континуум, отражающий как специфические особенности данного произведения, индивидуальные особенности творческого мировосприятия писателя, так и ряд устойчивых представлений об универсуме, характерных для его эпохи, культуры, коллективного бессознательного. Следуя такой концепции в нашей работе мы пытались осмыслить природу и диалектику взаимоотношения «пространство» / «времени» мифа «Тегерек» и «пространство» / «времени» неомифа «Проклятье Круга Зла», в синхронном и диахронном литературно-философском контексте. Да и в других научно-философских работах и литературно-философских сочинениях, подчеркивая круговращения Зла, вечности и цикличность ее сути и природы, как одну из ключевых гносеонтологических категории, как универсальный принцип мироощущения человека и общества, мы пытались раздвинуть панораму исследования проблемы итератизма.
Наша концепция итератизма. Нужно признать, что теоретическая разработка проблем циклизации, цикличности и циклов не являлась нашей главной целью и задачей. Эти проблемы гносеонтологии носят глобальный характер и являются предметом философии высокого уровня. Наша задача заключалась охарактеризовать контуры нового философского направления – итератизма, как нового учения о круге, круговращении. Среди группы терминологических обозначений – итератизм еще не принят и наша попытка найти для него наиболее определенный статус как понятие нужно воспринимать правильно. Будем надеяться на то, что со временем значение понятия «итератизм» получит разъяснение на словарном, теоретико-литературном, философско-методологическом уровнях. Безусловно, даже сам термин «итератизм» имеет много совпадающих оттенков значения (круг, круговращение, кругооборот, окружность, цикл, цикличность, итерация и пр.) и, одновременно, много дополнительных смыслов (вечность, непрерывность, неразрывность и пр.). Однако, для нас важно то, что дополнительный смысл понятия «итератизм» может быть более востребован, чем вышеприведенные понятия. Хотим отметить, что во всех наших научно-художественных, философских, методологических произведениях, мы предпочитаем обозначать этот самый дополнительный смысл понятия «интертизм». В текстовом контенте мифа «Тегерек» и неомифа «Проклятье Круга Зла», а также в нашей авторской «Теории мифоконструкции» и «Теории формирования и изменения состояния современной научно-мировоззренческой культуры» (Научное открытие, М.,2018) суть понятия «итератизм» выражен более детально.
Таким образом, итератизм выступает как определенное, более широкое внутреннее свойство, обозначая некий принцип, который может быть реализован в композиции нового сверхтекстового единства (итератизм как учение). На основе такого значения развивается и понимание все понятия, перечисленные выше: круг, круговращение, кругооборот, окружность, цикл, цикличность, итерация и пр. На наш взгляд, так должно трактоваться учение о круге, круговращении в аспекте гноселого-онтолого-атропологии. На наш взгляд, интертизм будет способствовать онтологической, гносеологической, исторической, культурологической, цивилизационной целостности философских мыслей, идей, концепций, теорий. В нашем понимании, «итератизм» – это учение о круге, круговращении, это процесс исследования, изучения, поиск новых знаний, их смыслов и результатов применения, это процесс создания и развития циклов, которые могут лежать как в пространстве авторской воли, так, в некоторых случаях, и вне ее. Естественно, возникнут споры, сомнения, откровенные непонимания и признание неприемлемости итератизма как учения. Однако, коль итератизм на научной основе выделяет, обособляет, идентифицирует в каждом тексте и произведениях в целом, феномены круга, круговращения, итерации, цикличности, и глубинную, повторяющуюся основу частей во имя целостности самой философии, то почему бы не признать ее учением.
Опорой вышеприведенного методологического подхода являются, как уже отмечалось выше, работы В.В.Гиппиуса, Ю.М.Лотмана, М.М.Бахтина, А.Е.Ляпиной, И.В.Карташовой, Ю.В.Манна, В.Н.Топорова и др. Интератизм как учение позволяет достаточно гибко, оперативно, многоаспектно выделить в каждом конкретном материале доминанту исследования – своеобразие явления круговращения с заданной целью не только расширить проблемное поле философии, но и углубить восприятие его идей и принципов, обеспечивающих ее целостность. Ведь такое учение предполагает: 1) «Анализ-синтез» всех традиционных звеньев композиции в их последовательном движении; 2) Полнота рассмотрения нарративных ситуаций и способов их развертывания также определяется степенью интенсивности проявления той самой цикличности в целостном организме философского произведения; 3) Процесс осознания круговращения проходит через несколько этапов эволюции как мифологического, литературного, но и философского сознания; 4) Процесс становления рецептивного цикла – это процесс осознания той общности философских произведений, той системы межтекстовых связей и циклообразующих элементов, которые заложены в цикл его автором.
Согласно принципов итератизма, определенное повторение одних и тех же элементов на разных уровнях оказывается теснейшим образом связан с идейным содержанием произведения. Наряду с констатацией взаимосвязей между различными проявлениями цикла и цикличности, мы должны обратить внимание и на специфику реализации этих принципов в зависимости от своих творческих задач. Циклическая модель мироздания связана со сложным комплексом религиозных представлений, органично дополняя авторские размышления о соотношении Добра и Зла. Дифференцированность авторских задач может обусловить разные типы цикличности и в рамках одного произведения. Специфика цикла и цикличности может быть соотнесена не только с комплексом идейно-нравственных представлений, но и с жанровой природой нашего произведения.
Итак, понятие «итератизм» имеет две особенности: 1) Оно является лишь учением (о круге, круговращении), а потому нет у него не только своего собственного категориального и понятийного аппарата, но даже минимума общезначимой терминологической базы; 2) Оно является авторским, а потому включает лишь представления, которые выработаны автором или разделяются им без каких-либо критических оценок ошибочных с точки зрения авторской концепции подходов и принципов. Поэтому, автор не претендует на безупречность своего понимания цели, значимости и перспективы учения, но надеется, что при внимательном чтении предлагаемые трактовки образуют, во всяком случае, исходную базу для продуктивного обсуждения проблемы соотношения онтологии, гносеологии, антропологии, мировоззрения. Мы не абсолютизируем свое учение и не пропагандируем его, объявляя истинным или приемлемым, так как могут: 1) Сказать, что теоретические аспекты итератизма либо «слишком абстрактно», либо «голословны»; 2) Упрекать в том, что ничего не сказано о предмете, объекте, методологии, сути; 3) Сказать, что нужно было бы хотя бы уточнить терминологию, базовые понятия и контексты, а затем продвинутся по пути от чрезмерно абстрактного к конкретному, шаг за шагом наполняя предметное поле и контент учения.
Многолетняя работа над категорией «Круг» позволила нам ознакомится с рядом идей, концепций и теорий в области онтологии, гносеологии, антропофилософии, мировоззрения, уточнить понимание ряда новых философских понятий и феноменов, более системно представить соотношения между ними. В этом процессе выявились множество проблем, которых следовало бы разрешить, понять, осмыслить. И вот результаты обобщения представляются на суд читателей. Между тем, это, возможно, лишь контуры нового учения, а не само учение. Говоря об итератизме важно отметить главное отношение, трактуемое как существование во множестве соотношений, инвариантного соотношения, позволяющее говорить о человеке, человеческой цивилизации «вообще», несмотря на их различия в качестве биологического или социального существа, Это делается нами во избежание споров о том, что же собой представляет данное учение «на самом деле», необходимо четко осознавать то соотношение, в котором рассматривается предмет для решения определенной задачи – не смешивать теорию с учением, так как учение – это лишь система взглядов, инструмент для поиска новых истин и действий человека.
Глава IV
Итератизм Абсолютного Зла: гносеонтологический круг. По мотивам романов «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла»
Как говорится «вначале было слово». Эзотерико-философский роман-аллегория «Тегерек» был опубликован в 2013 г., а художественно-философский роман «Проклятье Круга Зла» – в 2015 г. Следует отметить, что эти сочинения легли в основу создания идейно взаимосвязнных соответствующих мифов: 1) Миф «Тегерек»; 2) Неомиф «Проклятье Круга Зла». Следует подчеркнуть, что они были сконструированы искусственно по мотивам вышеприведенных одноименных сочинений, написанных в стиле литературной философии, но свидетельствующих о двукхцикловом гносеонтологическом круге. О целях конструирования мифа и неомифа сказано в главе 2. На наш взгляд, была необходимость более широкого и более глубокого обобщения опыта научной верификации вышеприведенного мифа и неомифа, ибо, частичные сведения, заложенные в вышеуказанные книги в целом не отражали идейное содержание философии итератизма Зла. Между тем, необходимо было выстроить ее целостную концепцию. В 2023 г. были опубликованы два капитальных труда: 1) «Тегерек: мифы, тайны, тени»; 2) «Тегерек: сущность теней». Данные монографии позволили непредвзято и более широко взглянуть на контуры итератизма Зла, а также открыли совершенно новые ее грани.
Как подчеркивалось в главах 1 и 2, круговращение представляет собой одну из широко распространенных философских категорий, которая проникла практически во все сферы – природы, общества, человека. В основе данного понятия лежит представление о том, что природа и общество, а также отдельные их сферы движутся по кругу с постоянным возвращением вспять, к исходному состоянию, и последующим новым круговоротом. Тяготение к круговращению характерно для различных уровней организации художественного, научного, философского пространства многих исследователей. В их произведениях круговращение предстает как своеобразный процесс перехода от статического состояния к динамическому и далее (по достижении цели) снова к статическому, но на более высоком уровне. Подобная сущность природы, общества и человека заложена как философская основа вышеприведенных сочинений, в которых уже в названии «Тегерек», «Проклятье Круга Зла» подчеркивается тот самый феномен круговращения.
Мифологический образ горы «Тегерек» и метафорический образ «Круга Зла», по сути, являясь олицетворениями вечного круговращения, как нельзя лучше воплощает собой динамическое начало. Данные образы позволяют говорить об особом мифологическом значении феномена Зла, который является проявлением универсальной категории круговращения. На мифопоэтическом уровне данный мотив восходит к «основному мифу» мировой мифологии о борьбе Добра и Зла. В этом аспекте, по сути, «Миф о Тегерек» и неомиф «Проклятье Круга Зла» являются этиологическими и объясняют природу, сущность, фабрику Абсолютного Зла, каковым являются: 1) В архаике ажыдар (в пер. с кырг. – дракон); 2) В наше время – радиация. «Смерть» ажыдара и радиации нами не воспринимается как абсолютное и вечное небытие, пустота, а как временное состояние, как некий цикл в круговращении, как своеобразная категория возобновляемости, повторяемости, вечности. Так, в «Мифе о Тегерек» ажыдара убивают и закапывают в каменный саркофаг. Однако, со временем и не без помощи воинов Зла (Широз-бахши), ажыдар, как воплощение Абсолютного Зла вырывается из этого плена и все повторяется вновь и вновь. Между тем, это и есть мотив круговращения Зла. Одним из структурообразующих элементов мифа является создание целостной системы мотивов и образов: 1) Охранная тропа в обход горы Тегерек с чтением молитв-заклятье против ажыдара; 2) Противопоставление «кара» (в пер. с кырг. – темное) и «ак» (в пер. с кырг. – светлое) как в быту, так и в сакральных поступках и поведениях людей и пр. Следует заметить, что одним из значительных мотивов в цикле выступает мотив образования и воспитания, как способов предотвращения Зла в самом себе. Образы и мотивы круговращения Зла в мифе и неомифе повторяются в ряде других либо трансформируются и соприкасаются с близкими мотивами. Подобная повторяемость, возвращение к другим образам и явлениям вновь может рассматриваться в качестве одного из вариантов феномена круговращения. В целом, идея круговращения является основополагающим в нашем мифе и неомифе.
§1. Конструирование мифа и неомифа о Тегерек. Само по себе конструирование мифа «Тешерек» с последующей его деконструкии и конструирование на этой основе неомифа «Проклатье Круга Зла» представляет собой трехцикловой гносеонтологический круг. Нужно отметить, что исследование мифологического дискурса, как целостной единицы художественного моделирования является одним из актуальных направлений современной науки, литературы, культуры. Многие авторы, в числе которых Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008), Ы.М.Мукасов (2018) и др. подчеркивают, что на рубеже XX – XXI вв. отмечается заметное повышение интереса к мифу, к специфике мифологического мировосприятия. Т.И.Борко (2006), О.И.Генисаретский (2007), Ж.-Ж. Вюнанбурже (2010) и др., подчеркивают, что именно обращение людей к мифу и мифологии в современную кризисную эпоху способствует переосмыслению мира, созданию новой ее модели. Мы придерживались именно такой концепции при конструировании мифа о Тегерек, в котором речь идет о проблемах переосмысления гуманитарной ответственности в современной эпохе в сравнении с архаичными временами. Уместно привести высказывания Гегеля Ф. (1770—1931) по созданию новой мифологии – «мифологию разума»: «В мире есть своя логика, разрешающая противоположные высказывания. Формальная логика с запретом противоречия – это антитеза мифа. Миф – это форма мысли человека» [Гегель Ф., 1994]. Исследователи, в числе которых Ю.М.Дуплинская (2004), Г.В.Зубко (2008) и др. справедливо считают, что миф – есть один из чрезвычайно сложных реальностей культуры, а потому его нужно исследовать и интерпретировать на научно-мировоззренческой и социокультурной основе и в различных аспектах. Задачей такого подхода, как писал К.Г.Юнг (1875—1961), является открытие «мировой души» – таинственное пространство коллективного бессознательного, включающие много-много других «я». Он утверждал, что, в целом из таких информационных пространств, как «Я» + «душа» + «миф», складывается уникальный, индивидуальный мир Человека [Юнг К. Г., 1994]. На наш взгляд, если сосредоточиться на этом принципе, то при конструировании нового мифа необходимо спрогнозировать в нем процесс разглядения более глубинных проблем человечества, в том числе в условиях современности.
Итак, прежде всего поясним, что миф о Тегерек является искусственно сконструированным, то есть являет собой чистый вымысел, причем, составленный лишь на основании отдельных ландшафтных и географических названий реальной местности в Ляйлякском районе Баткенской области Кыргызстана, а также скудных преданий одной из местных племен (кара-кулы) о мудром старце рода Ак-киши-олуя. Сама географическая реальность местности, названной нами, как «край каньонов и пещер» в какой-то мере, причем, в самом начале отвечает мифическому духу романа «Тегерек». В нем говорится о том, что в пути в тот самый край, дорога, как бы проваливается в каньон и, вместо только-что зримого и необъятного простора Талпак (в пер. с кырг. – плоскость), вдруг и сразу взору представляется уже мрачные высоченные каменные стены вкруговую. У любого человека создается некое ощущение попадания в пещеру, зловеще зияющую своей темной пустотой. Один из персонажей романа – Сагынбек-ава говорит, что «тут уже другой мир, тут сама древность, тут таинство темных пещер и глубоких каньонов». Разумеется, любой предвзятый читатель, в том числе из числа местных жителей или старожилов этого края, любой специалист, будь он краевед, историк, этнограф, мифолог, географ, литератор, философ, не отыщет каких-либо сведений о существовании не только мифа о Тегерек, но и какого-либо подобного сказания или легенды. Говоря напрямую, утверждаем о том, что этот миф исключительно создан нами. О мотивах и реальных причинах скажем ниже, а пока, как говорится в сказках и легендах «было так или не было – кроме бога, свидетелей не было». Примерно такого мнения придерживаемся и мы, что выражено устами одного из героев романа Суванкул-ава: «…Есть такое предание и можно услышать от людей, что из всех магических и святых мест юга Средней Азии, глубже всего запрятана гора Тегерек. Причем не только от людских глаз…», – говорит он, – «секреты, скрытые в этой горе упрятаны и в генной памяти и сердцах жителей его окрестностей». Так начинается повествование мифа о Тегерек.
В самом деле, в сконструированном мифе мифологическая реальность репрезентируется, как действительный мир с единственной целью сотворить новый миф, наполненный новым, сверхактуальным значением эсхатологического порядка. В этом отношении, этот миф, как, впрочем, любой современный миф – это дискурс, который является целостной коммуникативной единицей, адресованной читателю и направленной на адекватную интерпретацию реципиентом в ракурсе реальных вызовов и угроз современности. В подобных ситуациях стоит задуматься о том, что же имел в виду Сагынбек-ава, когда сказал Руслану, впервые увидевшего Тегерек: – «…Тайна горы запрятана глубоко в земле под ее основанием…». Мало кому, в том числе и Руслану, было невдомек, что гора оказывается рукотворной, впрочем, как каменный саркофаг Чернобыля. – «Было так или не было – кроме его величества Природы, свидетелей нет», – говорит рассказчик. Между тем, пересказ любого мифа, легенды или преданий требует знания предшествующего контекста, а также обязательно предполагает хотя бы относительную интертекстуальную компетентность реципиента. В этой связи, и возникает необходимость изложения сведений о генезисе мифа. Так вот, в целом, миф о Тегерек «как будто бы» отражает сакральную историю небольшого племени кара-кулов, повествуя о событиях, «как будто бы» произошедших в достопамятные времена в далеком «краю каньонов и пещер», где проживало и проживает, по сей день, потомки этого маленького кыргызского племени. – «…Прошли века с тех пор, как свидетели и строители этой горы-саркофага, покинули бренный мир, а большинство же смертных, даже в этих окрестностях, уже давно забыли о мифической природе и сути горы…», – рассказывает Суванкул-ава.
Находим нужным сделать условное допущение о том, что такой миф, скажем, существовал. В этом случае, потребуется и следующее допущение о том, каковы были истоки мифа и в чем заключалась, скажем социальная его роль? Вне зависимости от ответа, мы выражаем свою солидарность с образными выражениями принципов мифа А.Ф.Лосева (1994): – «Миф не аргументирует и не убеждает; миф является одновременно резонатором и толкователем; миф растет снизу, формируясь из коллективных фобий, комплексов, надежд и фантазий». А когда миф умирает? – задается вопросом А.Ф.Лосев (1893—1988) и сам же отвечает: – «Миф умирает, когда разрушается социальный запрос на него: когда распадается тот социальный порядок, что сделал его возможным; когда исчезают те практики, которые он трактовал и поддерживал. И наоборот – он жив, пока реальность его терпит». Таким образом, степень веса мифа в наличном социуме обратно пропорциональна уровню рефлексивности коллективного сознания.
Следует признать, что в вышеуказанном случае, возникает другой вопрос: в чем заключается сущность мифологического сознания? Наверное, прежде всего, в образно-метафорической маркировке реальности на базе сходных жизненных практик, считают ряд исследователей, в числе которых А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая и др. Элиада М. (1907—1986) утверждает: «Миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». В этом аспекте, миф о Тегерек рассказывает, каким образом, вымысел создателя мифа, отражая будто бы некоторую реальность, благодаря подвигам тех или иных ее вымышленных героев, достигла своего воплощения и осуществления заложенных в нем смысла и идей. В романе «Тегерек» на скепсис студента Руслана в отношении реальности мифа, один из старожилов местности Суванкул-ава говорит: – «…Пусть миф останется мифом. У нас свое представление о движении Природы. Мы – люди маленькие, живем своими маленькими заботами, у нас свои представления о Добре и Зле. Так что будьте снисходительны к нам, к нашей истории и преданиям…». Надо полагать, что это есть обращение не только к Руслану, но и ко всем людям.
Как известно, любой миф – это, некий рассказ о некоем «творении», когда сообщается о том, каким образом и что-либо произошло. То есть в мифе, мы стоим у истоков существования этого «чего-то», – подчеркивают многие мифологи [цит. – А. Чернышов, 1992]. И все же, в какой-то мере соглашаясь с такими мнениями, считаем, что с мифом о Тегерек было несколько иначе. Вновь подчеркиваем тот факт, что даже отдаленных отголосков этого мифа в виде сказаний ли, преданий ли не было и не существовало в принципе. То есть не было ни одной истории о Тегерек, кроме, как названия горы, выделяющейся из окружающих гор своей необычной круглой формой. Не было ни одной истории, хотя бы отдаленно связанной с ажыдаром, пещерами, горами, кроме как ряда географических названий – гора «Тегерек», лощина «ажыдар-сай», род «кара-кулы», селение «Кара-даван», шейх «Кара-молдо», река «Ак-суу», кишлак «Чоюнчу», пещеры «Кара-камар», «Астын-устун», «Келин-басты» и пр. Нам остается лишь допустить, что, если мифы и предания и были, то, к сожалению, не сохранились ни в памяти поколений, ни в источниках письменной или устной речи местного народа. В таком случае, безусловно значим вопрос: что было важно для создания нового мифа? Как нам кажется, важно было из ландшафтных характеристик и особенностей, отдельных топонимических названий, каких-то обрывков фраз и слов, «осколков» местных историй, событий и преданий, образов предков, а также неких, довольно туманных намеков на скрытые смыслы составить такой миф. Между тем, такой мифологический нарратив в виде романа создавался нами лишь ради раскрутки интересной и актуальной проблемы отражения Добра и Зла в сознании архаичных людей. И действительно, как описано в романе, посреди горных окружений, возвышалась огромная гора, сферической формы, напоминающая огромную юрту. Внешне гора действительно выглядела как рукотворное грандиозное сооружение, схожая с египетскими пирамидами и саркофагом Чернобыльской АЭС. – «…Это не просто гора, а гора- саркофаг, такой же, как пирамида Хеопса, объект «Укрытие» Чернобыля…», – рассказывает Сагынбек-ава.
Действительно, если проследить «траекторию» повествования любого мифа – то это отрывочные, разрозненные, смутные обрывки элементов истории, которая во многом воспринималась как сказка, предание, но не более. В этом аспекте, хотелось бы сказать, что любой миф начинает свое существование, как индивидуальный. По мнению О.А.Тогусакова (2003), миф возникает, как мнение у конкретного человека о своем отношении к чему-то. В отношении мифа о Тегерек, все было абсолютно наоборот. Мне, как исследователю было важно развернуть проблему Абсолютного Зла, его мира и пространства в сегодняшней действительности, в сравнении с архаичным временем. Нужен был художественный нарратив или так называемый мифологический «бриколаж», как фабула и образец целенаправленного художественного размышления и повествования о восприятии вечных феноменов мира (Добро / Зло, Жизнь / Смерть, Свет / Тьма, Знание / Незнание и пр.) в архаичные времена. В романе «Тегерек» устами Сагынбек-ава говориться о том, что маленький кыргызский род «кара-кулы», проживающий в окрестностях горы Тегерек – приветливых, простых и добрых, но, почему-то скрытных и замкнутых в себе, людей, во все времена были и те, которые смотрели на эту гору с некоторой боязнью и предосторожностью. – «…Лишь теперь становится понятным догадка о том, что, возможно в них говорила и генная память предков, и предания тех далеких времен о трагических испытаниях и бедствиях…», – рассказывает Руслан, впервые услышавший рассказ о Тегерек.
Надо полагать, что весь мир, в том числе и Кыргызстан, в условиях социально-экономической нестабильности и морально-нравственных разногласий в обществе, имеет потребность в мифах, а также в новом переосмыслении их в ракурсе угроз и вызовов современности. Как подчеркивают многие философы и мифологи, в числе которых О.А.Тогусаков (2005), Ш.Б.Акмолдоева (2006), Д.П.Козолупенко (2009), Ы.М.Мукасов (2020) и др., с помощью мифов можно мобилизовать общество, высвободить энергию масс и направить её в нужном направлении, для чего возникает необходимость конструировать новые мифы и навязывать их обществу. Тому есть основания, так как любые мифы не так сложны и их можно заложить в подсознании людей, а потому созвучны нашим представлениям и эмоциям. В этом аспекте, следует согласится с В.Н.Топоровым (1982) в том, что одна из важных особенностей мифа – это выполнение функции моделирования социального бытия, его феноменов и процессов – истории, культуры, настоящего, прошлого, будущего, размывая и стирая при этом границы между реальным и виртуальным. «Вот почему, миф является действенным средством социально-ментального конструирования, а значит – средством манипулирования сознанием людей», – считает автор. Мы также рассчитываем на то, что и миф о Тегерек сыграет свою определенную познавательно-культурологическую роль, акцентируя внимание современников на проблему, прежде всего, взаимоотношения Добра и Зла. В этом аспекте, хотелось бы обратить внимание на следующую мысль Саттар-ава: – «…Многие, конечно же сомневаются в том, что в саркофаге находится тело ажыдара, да еще и подающий признаки жизни. Ну, даже допуская, что он мертв, нельзя предугадать, что тело его может послужить неким генетическим кодом для воспроизводства нового зла…». Очевидно, здес важен вывод о том, что в случае разрушения саркофага, в котором захоронен ажыдар, само Зло, что он олицетворяет, может вырваться на волю и сотворить грандиозную беду для людей мира.
Нужно отметить, что интерес к мифу на рубеже XX—XXI вв. связан с широким развитием, прежде всего, этнографических исследований. Накоплен огромный материал о жизни и культуре племен и народов, который послужил основой для дальнейшей разработки различных теорий мифов. Как известно, выдвинуты различные концепции и направления современного мифотворчества, авторами которых являются Т.А.Апинян, В.А.Бачинин, Ж. Бодрийяр, А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая, М.С.Евзлин, И.И.Кравченко, В.В.Малявин, В.М.Найдыш, Л.И.Насонова, Г.В.Осипов, В. Парето, В.М.Пивоев, Г.Г.Почепцов, Ж. Сорель, М.И.Стеблин-Каменский, Б.А.Успенский, В.П.Шестаков, А.В.Юревич и др. По А. Ф.Лосеву (1893—1988), мифология – определяется как система фантастических представлений либо как изначально истинное пересказанное событие. Во втором случае, как нам кажется, речь идет о событиях мифического времени, приключения тотемических предков, культурных героев «оказываются своеобразным метафорическим кодом, посредством которого моделируется устройство мира, природного и социального». И хотя эти события и процессы, отголоски коих доносит до нас миф, часто принадлежат седой древности, так сказать, «застревают в доисторическом времени», – писал он [А.Ф.Лосев, 1991]. На наш взгляд, смысл высказываний автора в том, что в случае «условно исторических» интерпретаций, миф трактуется как «правдивое» повествование о вещах и событиях вполне реальных, как описание материальных процессов, имевших место в действительности, в истории людей, или окружающего их мира. В романе «Тегерек» юноша Талип, впервые увидевший Тегерек сравнивает эту громадину с древними рукотворными пирамидами Хеопса. Сторожил местности Эргеш-ава, утверждая факт рукотворности Тегерека, отвечает на скепсис Талипа: – «…Если бы только один человек рассказал бы историю создания Тегерек, то назвали бы его фантазером. Но об этом говорили многие, прапрапрадед рассказывал прапрадеду, тот рассказывал прадеду, а этот прадед рассказывал деду, дед – отцу. И так десятки и сотни лет к ряду. Значить есть какая-то правда о рукотворности создания горы…».
Нужно подчеркнуть, что общетеоретическими принципами, а также теоретическими основаниями для конструирования нами мифа выступают результаты исследований философско-культурологического направления. Причем, не только зарубежных и российских авторов (П.С.Гуревич, А.Ф.Лосев, М.К.Мамардашвили, В.Д.Губин, В.Г.Ибрагимова, Д.В.Реут, И.И.Кравченко, Й. Хейзинга, К. Хюбнер, Ф.Х.Кессиди, С.С.Аверинцев, Дж. Кэмпбелл, Е.М.Мелетинский (1918—2005), Э. Кассирер, О.М.Фрейденберг и др.), но и отечественных исследователей (А.Ч.Какеев, Ш.Б.Акмолдоева, О.А.Тогусаков, А.А.Акматалиев, Ы.М.Мукасов и др.). Хюбнер К. (1986), как, впрочем, Фрейзер Дж. (1999) и др. объясняли происхождение мифов из ритуальных обрядов примитивных народов. В свое время Элиаде М. (1995) очертил базисные для первобытного мышления свойства мифа: 1) Быть историей подвигов сверхъестественных существ; 2) Представляться абсолютно реальным, истинным и сакральным повествованием; 3) Служить архивом этиологических знаний, транслируемых в ходе инициации каждой очередной генерации; 4) Быть инструментом познания, приобретения новых сведений и овладения новыми операциональными навыками; 5) Быть способным реактуализировать события священной истории. В ракурсе последнего, миф о Тегерек, прежде всего, служит не только инструментом познавательного процесса, но и реактуализации в современных условиях идеи постоянной настороженности и противодействия мировому злу. Приводим слова Ак-киши-олуя: – «…Мы смогли одолеть ажыдара, упрятать его тело в саркофаг. Но считайте, что это не могила его, а тюрьма. Ажыдар может ожить, его невозможно уничтожить раз и навсегда, потому, что такова его природа…». Пожалуй, важным является заключение о том, что ажыдар с точки зрения кара-кулов не только существо биологическое, он и символ абсолютного зла в этом мире. Вот почему, актуален призыв старца: – «Будьте бдительны! Отныне от нас самих будет зависеть, быть злу или не быть ему в этом мире».
Нужно заметить, что этиологическая функция мифа очень близка объяснительной и мировоззренческой, но единодушно признается всеми исследователями мифологии в качестве самостоятельной, так как маркирует этиологические мифы, связанные с «эмбриогенезом» рода-племени. По мнению ряда мифологов – С.С.Аверинцев, Дж. Кэмпбелл, А.Ф.Лосев, Элиаде М., Е.М.Мелетинский (1918—2005) и др., свойства оказываются присущи мифу не только на уровне рода-племени, но и вплоть до наших дней. Они утверждают, что в мифе происходит аккумуляция опыта прошлого, то есть миф выполняет своеобразную функцию исторической памяти народов, когда к нему регулярно обращаются с целью извлечения положительного опыта предшествующих поколений людей, так как носит в себе мифическое повествование конкретно-исторического развития. Об этом упоминают в своих трудах А.Г.Афанасьев (1996), Ю.М.Дуплинская (2004) и др., которые убеждены в том, что именно на этой основе складывается традиция аллегорического толкования мифологии, когда миф рассматривается в виде универсального способа сохранения и передачи последующим поколениям людей социально значимого опыта-знания. В мифе о Тегерек тем самым социальным опытом является осмысление ажыдар «вне себя» и ажыдара «внутри себя», а также борьба с ними. Ак-киши-олуя говорит: – «…Наша беда в том, что страхом перед ажыдаром, мы настолько сузили круг общения, интересов и устремлений, что вряд ли у нас есть будущее. Ведь мы остались не приспособленными двигаться вперед, к образованию, к миру. Вся беда в том, что ажыдара мы пустили в свои души, он пленил наши души…».
При интерпретации мифа, с точки зрения С.С.Аверинцева, Дж. Кэмпбелла, Е.М.Мелетинского, Э. Кассирера, Элиаде М., О.М.Фрейденберга и др., важно то, что он рассказывает, каким образом реальность достигла своего воплощения и осуществления. Причем, наиболее существенным здесь, по мнению мифологов, является то, что, раскрывая смысл события или явления в те времена, миф обнаруживает их сакральностъ, которая проявляясь «ограничивает» и «историзирует» себя в онтологическом аспекте «священное – мирское», предстающее перед конструктором и интерпретатором мифа в виде проблемы соотношения реального и ирреального. В романе старый воин Сатыбалды говорит такие слова: – «…Мы должны покончить с ажыдаром, а потом покончить со страхом в своем коллективном сознании. Нужно решиться! Предлагаю отыскать ажыдара и, наконец, разделаться с ним раз и навсегда. Все это во имя настоящего и будущего нашего рода-племени и нашего края…». Общеизвестно, историческое время последовательно, диахронично и необратимо, тогда как мифическое время одновременно обратимо и необратимо, синхронично и диахронично. Таковы отдельные выводы ряда авторов, в числе которых В.Н.Топоров (1982), И.Ф.Игнатьева (2004) Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008) и др. Именно такая двойная структура, одновременно историческая и внеисторическая, актуализирует миф в каждый конкретный исторический период времени. Вот почему любой древний миф, неизменно оставаясь рассказом о далеком прошлом, о том, что происходило «с самого начала», «в те давние времена», «в прошлые века и тысячелетия», является одновременно источником всего субстанциального «на сегодня», – полагают А.Г.Афанасьев (1996), Ю.М.Дуплинская (2004), Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008) и др. Как нам кажется, именно такая неоднородность времени и пространства мифа проявляется в опыте противопоставления сакрального и реального, служа некоторой «точкой отсчета», вычленяющей все последующие мифологические и реальные противопоставления (Хаос / Порядок, Добро / Зло, Жизнь / Смерть), что, в конечном итоге, осмысливается людьми и закрепляется в человеческой культуре. В романе молодой студент Талип, впервые услышав миф о Тегерек рассуждает о том, что старые истории, легенды и мифы стали частью самой жизни простого народа. – «…Странно, как будущее тесно связано с прошлым, так что и то, и другое проходит через настоящее, как огромное колесо…», – говорит он. Возможно, иллюстрацией к этому служит его сон, как огромное колесо давит все перед собою, как будто бы прошедшее вторгается прямо в настоящее, отбрасывая при этом длинную тень на будущее.
Разумеется, любой миф выражает особую реальность, богатой смыслом, нежели реальность из нее образованная. В этом аспекте, «миф для человека является живой реальностью, обладающей значением для подражания», – пишет Кассирер Э. (2001). С автором трудно не согласится в том, что миф сохраняет следы исчезнувших форм социальной жизни и культуры, и их рассмотрение может помочь вскрыть источники многих мифологических мотивов, то приступая к изучению мифа необходимо задаться вопросом о том, каким явлениям исторического прошлого и в какой степени оно его обусловливает. В романе «Тегерек» устами Курбанбай-тага говорится о том, что это было давным-давно в прошлом, измеряемом не одной сотней лет и мало, кто знает, что каменный склеп был создан, что в нем захоронено нечто злое начало – не то дух, не то тело. Естественно, как нам кажется, искусственно сконструирован миф не выражает, а воссоздает особую реальность с искусственно «обогащенным» смыслом определенного порядка. Так вот в этом романе Расул с удивлением рассказывает: – «…Что странно, когда речь заходила о горе Тегерек, которую кара-кулы рассматривали, как свой природный и духовный тотем, мысли их всегда воспламеняются, как маяки, захлестываемые волнами эмоций от незримого присутствия в их сознании исторической памяти об истинной природе этой горы, о героических временах и предках, победивших ажыдара…».
Литературная обработка Т.А.Апиняна, В.А.Бачинина, Ж. Бодрийяра, А.Б.Венгерова, М.С.Галиной, П.С.Гуревича, И.И.Кравченко, В.В.Малявин, Л.И.Насонова, Г.В.Осипова показали, что развитие мифологии считал результатом жизненных наблюдений над загадочными для тогдашнего человека явлениями, сном, болезнями, смертью. В мифе они видели воплощение философии природы и считал его источником последующего литературного творчества. На базе осмысления жизни и культуры племен и народов Фрейзер Дж. (1854—1941) разработал антропологическую теорию, объясняющая происхождение мифов из ритуальных обрядов примитивных народов, Чемберс Э., Уэстон Дж., Корнфорд Ф., Кэмпбелл Дж., Нойман Э., Элиаде М. и др. занимались поисками мифологического архетипа, общего для всех мировых мифологий, а психоаналитики Фрейд З. (1856—1931) и Юнг К. (1875—1961) считали психологию человека важнейшим элементом культуры мифа, в содержании которого наиболее отчетливо проявляются архетипы коллективного бессознательного [цит. – Т.И.Борко, 2006]. В этом аспекте, Расул, впервые побывавший на малой родине своего деда, признавался, что под впечатлением о думах и поведениях кара-кулов вблизи их тотемной горы, он вновь взглянул на Тегерек, но уже совсем другим взглядом. Теперь у него вовсе небыло того скепсиса, что было недавно. Сомнения у него сменились интересом и, он уже совершенно иначе воспринимал историю, жизнь, быт и нравы своих родственников. Так или иначе, миф не является заблуждением разума, компенсаторной иллюзией или ложным объяснением, возникает не из недостатка опыта, ошибок языка в наделении значением, или неполноты развития когнитивных способностей человека.
По А. Ф.Лосеву (1893—1988), миф проявляет себя как эпифеномен мышления, возникая всякий раз, когда сознание направлено на объект, пытаясь осмыслить его. Мифологическим можно назвать сознание в условиях первой встречи с неизвестным, то есть сознание в состоянии удивления, возбуждения. Это всегда вопрошающее сознание. Поэтому на первых этапах познавательной деятельности сознание всегда мифологично, подчеркивает М.Ф.Амусин (2014). В целом, мифология является одним из условий и возможностей построения символических форм реальности и универсальной системы освоения мироустройства и познания самого себя. Элиаде М. и Кембелл Дж. видят в мифе сакральное повествование о действительных событиях [Элиаде М., 2010].
А.Ф.Лосев (1893—1988) считает, что миф – это символ, определяющий траекторию человеческой жизни и ее смысл. Автор пишет: – «Мифы – это символы, посредством которых можно изучать сознание и самосознание людей определенной эпохи. При этом изучаются не столько сами мифы, сколько их сюжеты и образы. Интерпретируя тот или иной повторяющийся сюжет, можно выстроить общую картину, присущую данному времени» [А.Ф.Лосев, 1994]. Нужно отметить, что комозиционным ядром романа «Тегерек» все же является борьба маленького рода-племени с ажыдаром. Причем, не на жизнь, а на смерть. Сюжетная линия романа разворачивается так, что в те дальние времена жители этого края, не нашли другого выхода, кроме как решится на смертный бой с ажыдаром. Чувствовалось, что каждый из кара-кулов давно устал от вечных страхов перед ажыдарами и был готов к любым испытаниям судьбы. Очевидно, важным является вывод о том, что, если не все в роду, но старшие точно, подспудно понимали, что победив ажыдара «вне себя», они пока еще лишь на пути к победе ажыдара «внутри себя».
Итак, как правило, мифологические тексты относятся к «стародавним, начальным временам». В этом аспекте, хотя миф о Тегерек – это повествование фантастически изображающих действительность такого времени, но это не жанр литературы, а отражение определенного представления людей, проживающих в краю каньонов и пещер, о мире, о себе, о справедливости, о настоящем и будущем. Прав был старец Ак-киши-олуя в том, что страх настолько въелась в ткань сознания сородичей, что предстояло серьезно осмыслить свое отношение к страхам, внимательно приглядется не только к носителю зла – ажыдару, но и к самому себе. Здесь впервые появляется мысль о том, что ажыдар – это олицетворение зла. Безусловно, вышеуказанный миф по идее должны была бы быть культовым для конкретного рода-племени, так как миф, как известно, с подачи автора книги окружен святостью и тайной, являясь, как бы сокровенным достоянием предков и потомков племени «кара кулы». Так, по крайней мере, задумывалось, что миф о Тегерек составляет, как бы священное духовное сокровище небольшого рода-племени, связаны с заветными родоплеменными традициями, а потому утверждают сложившуюся систему ценностей, тем самым поддерживая и санкционируя определенные нормы поведения сородичей. Например, настроить сородичей на битву с ажыдаром. Однако, у Ак-киши-олуя в глубине души носились и другие мысли, более содержательные, глубокие и сакральные: ажыдары – это не столько биологические существа, а, сколько исчадие ада, символы абсолютного зла в этом мире, тотемы темных сил. Он знал, что зло, по сути, бессмертно, что оно имеет бесконечную природу. Но, как довести это до сознания своих сородичей?
Общеизвестно, мифы во все времена требовали разъяснений, потому что в мифах и сказках, каковы бы ни были их содержание и смысл, мы имеем дело, прежде всего, с продуктами чистого вымысла. То же самое в романе «Тегерек». Ак-киши-олуя был уверен в том, что Абсолютное Зло существует и ажыдар, по существу, является высочайшим его проявлением, как, впрочем, черная магия, которая и насылает эту злую волю. Пожалуй, важным выводом является то, что под понятием «черная магия» воспринимается уже зло «внутри себя». По мнению А.Ф.Лосьева (1994), Фрейда З. (1989), Юнга К. Г. (1991) и др. в раскрытии мощных, бессознательных инстинктивных сил, толкающих к созданию фантастических вымыслов, а также в разъяснении тех преимущественно аллегорических и символических форм действительности важная заслуга принадлежит психологии и психоанализу. То есть они сталкиваются со сравнительным изучением мифов, но задаются при этом целью открыть бессознательный их смысл. В романе «Тегерек» устами Ак-киши-олуя говорится о том, что в мире влияние магии, враждебной силам добра небывало возрастает. – «…За всем, что происходит в мире, отчётливо проглядывает рука тьмы…», – говорит он. Но где скрывается тот, чья воля творит зло на земле? Здесь, очевидна важность вывод о том, что люди «края каньонов и пещер», во-первых, уже знали где обитает зло и откуда тьма расползается по всему миру, а, во-вторых, уже знали откуда разлетаются по миру ажыдары, неся смерть и разрушение. Вот так в мифе о Тегерек также скрыт, точнее «упрятан» бессознательный его смысл, которую в последующем с помощью целого ряда методов (деконструкции, символизации, семантизации, концептуализации, философизации, сакрализации) требуется расшифровать и поставить на службу обществу. По крайней мере, таков был наш авторский замысел.
Как известно, по Фрейду З. (1994), бессознательное имеет личностную природу, направленную на осмысление бессознательного содержания мифа, а по К.Г.Юнгу (1875—1961), главная функция мифа заключается в том, что он вносит порядок в хаос, вносит предсказуемые линии в совершенно непредсказуемый окружающий мир. «Миф – это именно тот тип информации, который на глубинном уровне присутствует в каждом из нас, и задача состоит в том, чтобы активизировать эту символику на выгодном для коммуникатора направлении», – писал Юнг К. Г. (1994). В мифе о Тегерек речь пойдет об эсхатологическом направлении, когда все мысли и суждения канализируются в проблему борьбы Добра и Зла, Знания и Незнания, Света и Тьмы. Мы солидарны с тем, что неизбежность интерпретации мифа во многом обусловлена психологическими причинами. Кстати, именно такую этиологию мифов подчеркивал и самый последовательный исследователь проблемы мифологии – А.Ф.Лосьев (1893—1988). Юнг К. Г. (1875—1961) пишет: – «Каждый из нас индивидуально воспринимает абстрактные понятия, и, соответственно каждый по-своему интерпретирует и применяет их… Отличия в трактовке, разумеется, возрастают, когда социальный, политический, религиозный и психологический опыт собеседников значительно разнится» [Юнг К. Г., 1994]. Сказанное лежит в основе появления самых невероятных трактовок того или иного мифа. В этом аспекте, нужно заметит, что бесконечность интерпретаций чувственного восприятия неизбежна уже в силу того, что каждая окружающая нас вещь, каждое чувственно воспринимаемое явление или символ постоянно в наших глазах возникает, утверждается, преобразуется, о чем упоминал еще А.Ф.Лосьев (1893—1988).
