Я – мы – они. Поэзия как антропология сообщества
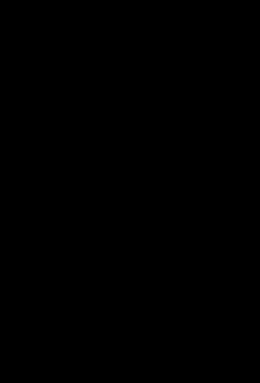
© М. Ямпольский, 2025
© К. Панягина, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Вступление
1. От поэтики к антропологии
Это книжка о современной поэзии, но написанная с принципиально нефилологической позиции. XX век в исследовании поэзии в основном ориентировался на лингвистическую филологию и полагал главным свойством поэзии освоение особой «поэтической функции» языка, поэтики. Роман Якобсон справедливо замечал: «Уже в 1919 г. можно было смело утверждать, что в России наступила эпоха „небывалого урожая поэтики“…»[1] Поэтическая функция же понимается как обращенность языка на самого себя и безостановочное обнаружение необыкновенного богатства внутренних связей внутри поэтической речи. Так означающее, в обыденной речи отсылающее к означаемому, в стихе вдруг обретает особое значение, и каждый звуковой элемент слова начинает выступать вперед. Тот же Якобсон пишет об этом:
Поэзия подчеркивает конститутивные элементы на всех уровнях языка, начиная с различительных признаков и кончая композицией текста в целом. Связь между означающим и означаемым, существующая на всех уровнях языка, приобретает особенное значение в стихотворном тексте, где интровертивный характер поэтической функции достигает своего апогея. Говоря словами Бодлера, мы видим здесь «сложное и неделимое единство», где все «значимо, взаимосвязано, обратимо, пронизано соответствиями» и где постоянное взаимодействие звука и смысла устанавливает между ними соотношение либо парономастическое и анаграмматическое, либо фигуративное (а иногда звукоподражательное)[2].
Такое понимание поэзии соответствовало тому, что в США получило название language poetry (языковой поэзии). В XXI веке это положение, как мне кажется, стало меняться, и акцент (во всяком случае у некоторых ведущих поэтов) сместился в сторону «неожиданных» вопросов о том, кто говорит, от чьего имени и к кому обращена поэтическая речь. В таком контексте значение приобрела совсем иная лингвистика, чем та, которую Якобсон соотносил с поэтикой. Некоторое ослабление интереса к поэтике, на мой взгляд, происходило из-за глубокой трансформации в ощущении положения человека в мире. Поэтика XX века отражала чувство укорененности поэта и филолога в обществе и природе. Только полностью интегрированный в мир человек может ощущать свою речь как (если использовать выражение Бодлера) «сложное и неделимое единство». Утрата этой укорененности в новом столетии выдвигает на первый план совсем иные вопросы, а именно: кто я, где я, с кем я говорю, где я нахожусь? И, возможно, главный вопрос: как я вписываюсь в сообщество себе подобных? Место сложности и неделимости начинают занимать неопределенность самой инстанции «я» и окружающая ее пустота[3]. В этой книге речь идет о поэзии и сообществе, понимаемом отнюдь не как реальная или мнимая совокупность людей, осознающих свое место в обществе. Так понимаемое сообщество возникает в основном во второй части книги, посвященной Льву Рубинштейну. Под сообществом здесь чаще всего понимается скорее языковая фикция, поскольку язык всегда соотносит наш дискурс с другими. Это скорее «невостребованное», «бездеятельное», выявляющее смертность и одиночество к нему причастных и, как говорил Морис Бланшо, невозможность существования в нем в качестве субъекта. Во многом такое сообщество основано на языке и слове, и, как говорил тот же Бланшо, «сообщество не является редуцированной формой общества, равным образом оно не стремится к общностному слиянию»[4].
На эти экзистенциальные вопросы не могут ответить ни поэтика, ни лингвистика. Одна из первых и неожиданных попыток связать сообщество с искусством и эстетикой была предпринята Кантом, который утверждал, что, хотя всякий чувственно данный объект нашего созерцания единичен, эстетическое суждение о нем универсально и апеллирует к тому, что он называл «всеобщим голосом»:
…в суждении вкуса постулируется только всеобщий голос, выражающий благоволение без опосредствования понятиями и тем самым возможность эстетического суждения, которое одновременно рассматривается как значимое для каждого. Само суждение вкуса не постулирует согласия каждого… оно только предполагает в каждом это согласие как частный случай правила, подтверждения которого оно ожидает не от понятий, а от согласия других[5].
И хотя Кант признавал, что эстетическое суждение не предполагает согласия каждого, по его мнению, оно производило некое гармоническое и относительно широкое сообщество.
Критику представлений о всеобщности суждений вкуса сформулировал Пьер Бурдье, который показал, что в современной культуре, вбирающей в себя и любительскую фотографию, и китч, эта всеобщность становится совершенно сомнительной и сама является
историческим изобретением, связанным с появлением автономного поля художественного производства, то есть такого поля, которое способно навязать свои собственные нормы как на производство, так и на потребление его продуктов[6].
Сегодня мы совершенно иначе осознаём и отношения между индивидом и сообществом. Сообщество, как мы его сейчас понимаем, складывается не из единодушия хора, но из сложных и мерцающих связей между возникающими из него индивидами.
В области литературы для понимания этих связей гораздо лучше приспособлены лингвистика шифтеров и местоимений в синтезе с логикой и философской антропологией. Именно антропология ставит вопрос о том, каким образом язык отделяет нас от животного мира и делает членами сообщества, как он локализует нас в мире и организует мир вокруг нас. Классик философской антропологии Хельмут Плеснер, например, утверждал, что животное, постоянно находясь в некой точке «здесь и теперь», не способно, в отличие от человека, дистанцироваться от этой позиции, у него «пространственно-временная точка абсолютного здесь-теперь не может отмежеваться от себя»[7]. В случае с человеком благодаря языку возможно удвоение этой точки, отделение от нее. Плеснер пишет о «живой вещи» (так он называет нечто живое, эволюционирующее в человека), что, хотя она и
остается в сущности связанной с здесь-теперь и живет безотчетными переживаниями, захваченная объектами окружающего поля и реакциями собственного бытия, она способна дистанцироваться от самой себя, полагая бездну между собой и своими переживаниями. Тогда она существует по ту и по сю сторону этой бездны, привязанная к телу, привязанная к душе и в то же время ни к чему не привязанная, неуместная нигде, несмотря на связь с пространством и временем, – и вот так она превращается в человека[8].
Человек появляется тогда, когда ослабляется непосредственная связь живой вещи со средой.
Эта способность оторваться от контекста существования и оказаться в пустоте лежит в основе чувства потерянности, утраты почвы, меланхолии, составляющих суть человека, но первоначально она проявляется в использовании в речи местоимений, к которому привлек внимание Эмиль Бенвенист. Появление местоимений и возможности сказать о себе «я» стало фундаментальным событием антропогенеза. Бенвенист так определял сущность этого события:
…оригинальность и фундаментальная важность этого явления состоят как раз в том, что эти так называемые местоименные формы соотносятся не с «реальностью» и не с «объективным» положением в пространстве и времени, а с единственным каждый раз актом высказывания, который заключает в себе эти формы, и, таким образом, они соотнесены со своими собственными употреблениями (рефлексивны). Важная роль этих форм в языке соразмерна с природой задачи, которую они призваны разрешать и которая есть не что иное, как коммуникация на межсубъектном уровне. Язык разрешил эту задачу, создав серию «пустых» знаков, свободных от референтной соотнесенности с «реальностью», всегда готовых к новому употреблению и становящихся «полными» знаками, как только говорящий принимает их для себя, вводя в протекающий акт речи. Лишенные материальной референции, они не могут быть употреблены неправильно; ничего не утверждая, они не подчинены ни критерию истинности, ни критерию ложности[9].
Местоимения относятся не к описанию реальности или состоянию фактов, но лишь к языковой реальности самого высказывания. То, что они отсылают к генерации речи, придает им рефлективный характер, то есть обращенность на ту самую речь, частью которой они являются. При этом они «пусты» и могут быть заполнены любым говорящим. У них, однако, есть способность каждый раз, когда местоимение присваивает тот или иной человек, проецироваться на реальность говорящего в данный момент. Таким образом, пустые языковые знаки вдруг обретают способность к референтности, а вместе с ней и способность к суждению об этой «реальности», например к суждению об истинности или ложности описанного. Субъект в его философском понимании невозможен без присвоения этого «я» и в какой-то степени является порождением этого личного местоимения, но он хрупок и всегда может уступить свое место другому. В этот момент «я» может исчезнуть из «языковой реальности» или превратиться в «ты».
Владимир Гандельсман написал стихотворение, посвященное неустойчивости «я» и его способности к удвоению:
- Ты сам себе одновременен —
- запомни! Бог тебя храни.
- И вот последнее: едва лишь
- ты извлечен на белый свет,
- как уж отсутствием печалишь
- ту точку, где ты был и – нет…[10]
Это несовпадение с собой в некоторых политических и экзистенциальных ситуациях вызывает острое чувство кризиса, характерное и для сегодняшнего дня. Еще раз процитирую Плеснера:
…человек находится уже не в здесь-теперь, но «позади» него, позади самого себя, как неуместный нигде, в ничто, претворенный в ничто, в пространственно-временное нигде-никогда. Неуместный нигде и вневременный, он делает возможным переживание самого себя, а также переживание своей неуместности и вневременности как нахождения снаружи самого себя, поскольку человек является живой вещью, которая больше не находится только в самой себе…[11]
Здесь мне кажется существенным не просто тема собственной «вненаходимости», но и то, что человек понимается как продукт отчуждения от себя – как «живая вещь». Эта способность дистанцироваться по отношению к себе лежит в основе актерства, феномена многочисленных личин и двойников вплоть до андроидов и марионеток. Эти симулякры – неотъемлемая антропологическая реальность. Об отчужденных ипостасях человека пойдет среди прочего речь ниже, притом что само понятие подлинного «я», аутентичной персоны кажется в такой перспективе сомнительным.
Иным важным аспектом этого «события», как я уже говорил, является связанная с ним способность суждения, или пропозиционная сторона языка. Первичным проявлением этой способности является умение человека сказать «да» или «нет», которым не обладают животные; Фрейд отказывал в этой способности и бессознательному[12]. Сама возможность пропозиционности связана со способностью речи абстрагироваться от конкретности ситуаций, но эта ее способность прямо укоренена в превращении речи в диалог (или полилог), в котором конкретное и абстрактное постоянно пульсируют. «Да» и «нет» приобретают смысл только в ситуации общения, когда один человек обращается к другому, выражает суждение, на которое возможен ответ собеседника.
В диалоге происходит своего рода мерцание между индексами, шифтерами и некими объектами, которые приобретают известную независимость от ситуации высказывания (объективность). Недавно умерший представитель философской антропологии Эрнст Тугендхат объяснял, как образуются устойчивые единичные понятия, позволяющие суждения о них. Он приводит пример человека, который говорит об «этом жуке». А. способен опознать жука, о котором говорит В., только если он опознает говорящего В. Каждый говорящий всегда отсылает к миру объектов, которые соотносимы с ним, то есть к пространственно-временным отношениям, разворачивающимся вокруг него как некоего центра. Этот центр и маркируется местоимением «я». Это местоимение отсылает к структуре предметного мира не извне, но изнутри. И, как справедливо замечает Тугендхат, говоря «я», я не только маркирую центр предметного мира, но и определяю этот центр с большой долей абсолютности:
В этих высказываниях «я» я не могу ошибаться относительно субъекта: в таких высказываниях я не могу неправильно себя идентифицировать не потому, что, говоря «я», я с необходимостью правильно себя идентифицирую, но скорее потому, что, говоря «я», я себя не идентифицирую никак[13].
Наличие этой точки, по отношению к которой организован мир внешних объектов, позволяет возможность суждений, так что в высказываниях логики обнаруживают два слоя, которые следует различать. Когда-то Джон Серль писал о том, что
для интенциональных состояний существует различие между репрезентативным содержанием… и тем психологическим модусом, будь то вера, страх или надежда, в котором дано это репрезентативное содержание[14].
Таким образом, описание состояния фактов внешнего мира позволяет добавлять к нему суждение об их истинности/ложности или нравственные оценки. Именно эта способность языка мерцать между «я» и внешним миром обеспечивает появление этики и в конечном счете сообществ, основанных на наличии общих суждений. Фрейд в эссе «Отрицание» так описывал самую глубинную функцию суждения:
В сущности, функция суждения должна принять два решения. Она должна подтвердить или отвергнуть наличие у некой вещи определенного качества, и она должна признать или оспорить существование того, что есть в представлении, в реальности. Свойство, относительно которого должно быть принято решение, изначально могло бы быть хорошим или плохим, полезным или вредным. Выражаясь на языке самых древних, оральных импульсов влечений: «Я хочу это съесть или хочу это выплюнуть», а в более широком значении: «Это я хочу ввести в себя, а это – из себя исключить». То есть: «Это должно быть во мне или вне меня»[15].
Здесь в зачаточной форме уже содержатся суждения, вводящие человека в сообщество или из него исключающие. В несколько ином аспекте я затрону эту проблематику в первой части книги, там, где речь пойдет о Рене Жираре.
Я не буду тут обсуждать логические и антропологические сложности этой необъятной проблематики. Не в этом я вижу свою задачу. Меня интересовали неожиданный поворот поэзии в сторону такого рода антропологии и угасание интереса к «поэтической функции» языка. Для тех поэтов, о которых я пишу, отношения «я» и мира, «я» и другого, «я» и сообщества, как мне представляется, принципиально важны. Но соответственно крайне существенен для них и статус объектов внешнего мира по отношению к «я» или к «мы». Вариантом тут может быть и понимание мира, в котором нет ни «я», ни «мы», но лишь некие чужие «они» в пространстве без воображаемого центра высказывания. И хотя в основном говорю я о творчестве трех современных поэтов, меня, конечно, интересует гораздо более широкий культурный контекст (начиная с романтизма), в котором эта проблематика являет себя и кристаллизуется.
Эта небольшая книжка состоит из трех частей. Первая часть посвящена умершему в 2013 году Григорию Дашевскому, с которым дружили два других героя этой книги, Лев Рубинштейн и Мария Степанова. Рубинштейн говорил о Дашевском: это
действительно был и прекрасный тонкий поэт, и выдающийся переводчик, и один из лучших (на мой вкус, так даже и лучший) литературный критик – глубокий, концептуально ясный и ненавязчиво убедительный. Настолько, что всегда и во всем хотелось с ним соглашаться[16].
На Степанову Дашевский оказал сильнейшее влияние и во многом помог ей сформулировать принципы собственной поэтики. Но я начинаю книгу именно с него, потому что он, пожалуй, яснее иных осмыслил отказ от лирического «я» автора как одну из главных задач новейшей поэзии. То, что проблема «я» была выдвинута им на первый план, совершенно неожиданно перенесло поэзию из плоскости самовыражения или «лирического» отражения внешнего мира в плоскость сообщества. Поэтика под его пером приобрела черты системы отношений между «я», «ты», «мы» и «они». Тем самым поэзия в гораздо большей степени, чем прежде, превратилась в отражение социальности и в барометр социальных сдвигов и отношений.
Вторая часть посвящена недавно умершему Льву Рубинштейну и была начата вскоре после его трагической кончины. Это текст, как и вся книга, посвящен памяти Левы, с которым мы были долгие годы дружны. Рубинштейн не был склонен осмысливать поэтику своих текстов в терминах Дашевского, но, если внимательно прочитать его тексты и рефлексию над ними в его поздних эссе, легко заметить, что проблема сообщества возникает и у него и становится для него центральной. Правда, формулируется эта проблема в иных терминах, чем у Дашевского. «Я» у Рубинштейна всегда соотносится с неким «мы» и существует только внутри этого «мы» и по отношению к нему. Здесь нет места для нарциссически-эгоцентрической позиции поэта. Тексты Рубинштейна собраны из цитат и фрагментарных высказываний, в которых «я» поэта никогда не говорит от первого лица (хотя и заявляет о себе с большой полнотой во множестве эссе). Одна из главных проблем творчества Рубинштейна – это границы «мы» и формы различения (или неразличения) этого «мы» от сообщества, порождаемого советской культурой.
Третья часть была написана десять лет назад (но отчасти переработана для этой книги) и посвящена некоторым аспектам поэзии Марии Степановой. Встреча этих текстов под одной обложкой, помимо прочего, отсылает в моем сознании к эпизоду многолетней давности, когда мы с Левой оказались на вечере памяти нашего общего друга, Дмитрия Александровича Пригова. Вечер этот проходил в самом невообразимом для Пригова месте – в придворном театре Эрмитажа в Петербурге. Мы сидели рядом и шутили по этому поводу, когда Лева вдруг прервался, встал и велел мне сидеть на месте и не двигаться. Через некоторое время он вернулся в сопровождении высокой черноволосой женщины, которую немного торжественно представил мне: «Это Маша Степанова, я хотел вас познакомить». Когда Маша через пару минут покинула нас и пошла на свое место, Лева очень серьезно добавил: «Она настоящая». Наше знакомство с Машей продолжилось в тот же вечер (мы долго разговаривали), а потом этот первый разговор возобновился в иных обстоятельствах и был для меня важен. В этой книге я с благодарностью свел вместе трех значительных поэтов и друзей, твердо при этом зная, что «они настоящие».
Степанова, как я уже сказал, испытала сильное влияние Дашевского и восприняла от него радикальную критику «я». Но холод той пустоты, которая возникает у Дашевского при исчезновении «я» и «мы», у нее сглажен голосами и певческими хорами – часто мертвецов – и техническими аппаратами, которые заполняют пространство, но не могут стать собеседниками и образовать живое сообщество. Рубинштейн сознательно заглушает свой авторский голос, скрываясь за множеством цитат и фрагментов безличной речи. Через свои тексты он как бы организует некое читательское сообщество, к которому обращается и которое плохо согласуется с поэтикой индивида и субъекта, столь важной для классической русской поэзии. Степанова постоянно вслушивается в хор голосов, доносящихся из прошлого и тоже не вписывающихся в поэзию единичного субъекта, с которой мы привыкли соотносить Поэта.
2. Origo
Все три поэта очень различны, но во многом разделяют озабоченность соотношением поэтического текста с «я», «ты», «мы» и «они». Сложная игра обозначаемых этими местоимениями позиций в значительной мере противостоит мелике и ритмике стиха, издавна считавшимся важнейшими аспектами поэзии. Поэзия существует в языке, но и в голосе, ритме, мелосе – феноменах, чуждых позиционированию говорящего и смысловому членению текста. Музыкальность и ритмичность стиха восходят к представлениям о «вселенской песне» (carmen universitatis) Августина. Позже Бонавентура развил эту идею: «…но божественному установлению угодно было украсить мир, словно красивейшую песню, неким возвратным движением периодов»[17]. Песенность стиха прямо продолжает в себе гармоническое и циклическое движение, пронизывающее космос, и поэтому плохо согласуется с социальными языковыми членениями вроде оппозиции «ты» и «я». Эта двойственность дошла до наших дней. Песенность принадлежит «они» или нерасчлененному «мы». В то время как миры «я» и «ты» лежат вне этой вибрационно-метрической имитации мироздания. Они погружены в социум.
Поэзия позволяет нащупать подходы к взаимоотношениям природы и социума и к пониманию меняющегося места человека в этих мирах. В этом смысле она открывает выход в область философской антропологии, но при этом не использует прямо философский аппарат, которым сегодня так часто злоупотребляют. Дашевский писал о необходимости поисков поэтики, адекватной меняющейся социальной ситуации:
Поэзия всегда именно это и делает – она тематизирует условия собственного существования, превращает в предмет разговора то, что является условием разговора. И вот нынешняя политическая ситуация может, мне кажется, привести к страшно интересным последствиям[18].
В чем же интерес этой ситуации? Прежде всего в распаде того сообщества («мы»), которое существовало в советские времена. Люди перестали читать одни и те же книги и помнить одни и те же цитаты. Это делает невозможным апелляцию к предсуществующему фонду знаний и убеждений. Отсюда возникает потребность в «реальном знании», а не в мнимом знании культурных стереотипов:
Время общего набора прочитанного кончилось, апеллировать к нему нельзя. Работает та речь, которая уместна в данной ситуации: мгновенной ситуации, как она сложилась, между нами, которую мы оба видим одинаково, – и только на это мы можем опираться. У нас ведь практически всегда получается объяснить то, что мы действительно хотим сказать, в ситуации необходимости. Когда нужно объяснить дорогу к дому, если человек не знает этого ориентира, я подскажу ему другой; если мы что-то реально знаем, то мы свободны в выборе слов, мы обходимся и без логики, и без ссылок на прочитанное[19].
Дашевский пишет о «ежесекундном обнулении всех предыдущих знаний и умений в пользу абсолютного осознания текущей ситуации, полного владения ею»[20]. Образцом поэзии новой ситуации он называет стихи Михаила Гронаса, у которого все дано в самом стихотворении, так что ничего не остается за его пределами. В сущности, речь идет о радикальном исключении коллективной памяти, столь важной для Рубинштейна, который, правда, и сам прекращает писать свои «стихи» после крушения советского типа сообществ. Но речь идет о понимании некоего состояния вещей, реальность которого задается их положением по отношению к говорящему здесь и сейчас.
Такой взгляд на поэзию позволяет задать вопрос о наличии структурной связи между языком и социумом. Тема эта не новая. Особенно остро она дискутировалась в период доминирования структурализма, когда казалось, что вся культура и общество структурированы по моделям, близким к языку. Клод Леви-Стросс высказал предположение о структурном параллелизме между языком и обществом на основе изучения структур родства в архаических обществах[21]. Он пытался втянуть в обсуждение этой проблематики Эмиля Бенвениста, но тот явно не проявлял энтузиазма[22].
Тем не менее позднее Бенвенист обратился к этой теме в специальном эссе под названием «Структура языка и структура общества». Он пишет о том, что язык – это единственное средство человека для достижения иного человека, «соответственно язык устанавливает и предполагает другого. Общество без всякой медиации дано вместе с языком»[23]. И при этом утверждает, что между языком и обществом не существует никакой «структурной аналогии». Бенвенист был, несомненно, прав. Структуры языка и общества не отражают друг друга. Зато в языке устанавливаются отношения одного человека с другим, и эти отношения (производящие некий «эффект субъективности») чрезвычайно сложны и могут меняться. Поэзия описывает не столько структуру социума, сколько положение в нем человека. Когда человек говорит, мир приобретает некую конфигурацию по отношению к тому месту, которое занимает говорящий в пространстве, возникающем вокруг него в момент речи. Это мимолетная, очень ситуативная конфигурация.
То место, по отношению к которому формируется неустойчивая констелляция элементов, иногда называется origo – место происхождения, истока. И это origo – возможно, наиболее радикальный элемент всей конфигурации. Сам этот термин был введен в оборот Карлом Бюлером в 1934 году. Он предложил представить себе origo как точку пересечения координат, в которой располагаются три накладывающихся друга на друга слова: hier («здесь»), jetzt («сейчас») и ich («я»)[24]. Эта «я здесь-теперь»-точка связывает между собой разные дейксисы – личный, временной и пространственный. Origo – это точка, по отношению к которой ориентированы все объекты индивидуального мира человека. Пустота origo, его референтная ненаполненность позволяют другим субъектам присваивать и осваивать миры другого, составляя некий общий «жизненный мир», если использовать выражение Гуссерля:
…каждый из нас имеет свой жизненный мир, который мыслится как мир для всех. У каждого он наделен смыслом полюсного единства миров, мыслимых в соотнесенности с субъектами, миров, которые в ходе корректировки превращаются всего лишь в явления этого [der] мира, жизненного мира для всех, этого постоянно удерживающегося интенционального единства, которое само есть универсум отдельного, универсум вещей. Это и есть мир, другой же вообще не имеет для нас никакого смысла… есть не множество отделенных друг от друга душ, каждая из которых редуцирована к своему чисто внутреннему, но, подобно тому как существует одна-единственная универсальная природа как замкнутая в себе единая взаимосвязь, так же существует и только одна-единственная психическая взаимосвязь, всеобщая взаимосвязь всех душ, где все они едины не внешне, а внутренне, именно благодаря интенциональному взаимопроникновению в ходе формирования общности их жизни[25].
Глубокое понимание этой проблематики едва ли не впервые в истории западной мысли можно найти в удивительном эссе Вильгельма фон Гумбольдта «О двойственном числе» (1827). Речь шла о крайне редком явлении существования в языке наряду с единственным и множественным числом двойственного числа, которому Гумбольдт отводит парадоксальную «коллективно-единственную функцию». По мнению Гумбольдта, двойственное число не столько маркирует наличие двух предметов, сколько выражает идею двоичности, то есть такого «закрытого целого», которое «совмещает в себе природу множественного и единственного чисел»[26]. Это связано с тем, что изначально сознание человека выделяет некую группу из двух предметов, которые противостоят миру и одновременно индивидуируются по отношению друг к другу[27]. Таким образом, двоичность – это способ и помещения себя в мир, и, одновременно, детерминации себя по отношению к этому миру. Но самое существенное тут заключается в том, что она дана нам прежде всего (если не исключительно) в языке. Таким образом, язык предлагает нам матрицу осознания себя в мире. Язык, как замечает Гумбольдт, «основывается на двоичности чередующейся речи»[28], то есть на присущей ему диалогичности (двойственности). «Я» говорящего само конституируется «только отразившись от чужой мыслительной способности»[29]. Уже в наши дни идею двоичности перенесет на бюлеровское origo Харальд Вайнрич, который будет писать о двойном мерцающем origo говорящего и слушающего[30]. О двойничестве и эхе речь будет идти в первой части настоящей книги.
Гумбольдт набрасывает те формы субъектности, которые возникают благодаря языку:
Слово обретает свою сущность, а язык – полноту только при наличии слушающего и отвечающего. Этот прототип всех языков местоимение выражает посредством различения второго и третьего лица. «Я» и «он» суть действительно различные объекты, и они в сущности исчерпывают все, поскольку, другими словами, их можно обозначить как «я» и «не-я». Но «ты» – это «он», противопоставленный «я». В то время как «я» и «он» основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в «ты» заключена спонтанность выбора. Это также «не-я», но в отличие от «он» не в сфере всего сущего, а в сфере действия, обобществленного взаимным участием. В самом понятии «он», таким образом, заключена не только идея «не-я», но и «не-ты», и оно противопоставлено не только одной из этих идей, но им обеим[31].
Origo тут становится эпицентром бесконечно меняющихся конфигураций отношения с миром и другими. Пространство также трансформируется при переходе от «я» к «ты» и «он»[32].
Мартин Бубер, вероятно, испытавший влияние Гумбольдта, построил свою философию на радикальном различении двух отношений: «я – ты» и «я – он». При этом, по его мнению, эти отношения непостоянны, но могут переходить одно в другое, трансформируя всю картину мира:
Если я обращен к человеку, как к своему Ты, если я говорю ему основное слово Я-Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей. Он уже есть Он или Она, отграниченный от других Он и Она; он не есть точка, отнесенная к пространственно-временной сетке мира, и не структура, которую можно изучать и описать, – непрочное объединение обозначенных словами свойств. Нет: лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть Ты и заполняет собою небосвод. Не то чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое живет в его свете[33].
Такого рода представления помогают преодолеть тот культ субъективности, который сложился после Канта. Субъект в такой перспективе перестает быть некой трансцендентальностью, но возникает благодаря языку и в стихии языка. К тому же субъект тут утрачивает абсолютность и становится производным от той стихии речи, которой он принадлежит. Недаром Витгенштейн, по мере нарастания своего интереса к языку, приходит к выводу о необходимости полного отказа от идеи «я», обитающего в некоем теле. Сама идея локализации «я» и даже существования этого «я», по мнению Витгенштейна, – чисто языковая иллюзия:
Вопрос о том, какого же рода деятельностью является мышление, аналогичен вопросу: «Где локализуется мышление?» Мы можем ответить: на бумаге, в нашей голове, в сознании. Ни одно из этих утверждений о локализации не дает нам локализацию мышления. Употребления всех этих уточнений верны, но мы не должны вводить себя в заблуждение простотой их лингвистической формы, делая из этого ложное заключение об их грамматике[34].
Сходная, но сформулированная совсем в иных терминах попытка избавиться от «я» и производящего его языка чуть раньше была предпринята Хайдеггером в «Бытии и времени». Хайдеггер задается вопросом об онтологическом бытийном аспекте личности, то есть «я», и сейчас же обнаруживает, что субъект, личность не имеют никакого позитивного бытия и возникают только из словоупотребления. Например, познающий субъект оказывается чистой словесной фикцией:
Если оно (познающее сущее. – М. Я.) вообще «есть», то принадлежит единственно тому сущему, которое познает. Но и в этом сущем, человеческой вещи, познание тоже не налично. Во всяком случае оно не констатируемо извне так, как, скажем, телесные свойства. И вот, поскольку познание принадлежит этому сущему, но не есть внешнее свойство, ему остается быть «внутри»[35].
Соответственно Хайдеггер исключает понятие личности («я») из своего лексикона, заменяя его термином Dasein – вот-бытие. И Витгенштейн, и Хайдеггер стремятся выйти за рамки языка и перешагнуть через них в область бытия, «самих вещей». Но, как мне представляется, эти попытки имеют лишь ограниченный успех, потому что язык – это не просто генератор иллюзий, но генератор origo и конфигурации мира, в который мы включены.
Хайдеггер посвящает несколько разделов своей книги проблематике пустого говорения, производимого некой безличной инстанцией Man («оно»). Но в целом язык у него, по меткому выражению Жильбера Оттуа, трактуется как «удаленный феномен, производный от исходных структур Dasein»[36]. Но язык не просто отражает структуру вот-бытия или наличного бытия. Он конструирует мир и порождает ту инстанцию личности, чье онтологическое измерение постоянно (и оправданно) ускользает от Хайдеггера.
Я сделал этот небольшой философский экскурс, чтобы яснее очертить горизонты поэзии. В эссе о Гельдерлине Хайдеггер повторяет свое знаменитое определение поэтического языка:
Задача языка – обнаруживать (делать явным) в произведении сущее как таковое и хранить его. В нем обретают речь чистейшее и самое потаенное, равно как сумбурно-запутанное и пошло-обыденное[37].
Существует некое бытие, смысл которого язык обнаруживает. Но поэзия не просто отражает мир (или вскрывает его бытие, как у Хайдеггера), она конструирует мир в терминах языка, например в терминах той двоичности, о которой писал Гумбольдт. Отношения общества и поэзии, как мне кажется, определяются возможностью языка конструировать сообщества или их отменять, вводить origo в мир вещей или помещать его в мир абстрактных и пустых пространств, соотносить человека с двойниками, куклами, автоматами или видеть в другом – в «ты». Удвоение, двойственность сознания, движущегося от «я» к «он», от «мы» к «они», – это не просто языковые игры, это языковое производство жизни. У Владимира Гандельсмана есть стихотворение «Сороковины», в котором он обращается к умершему «ты» и где описываются попытки возродить исчезнувшее «ты» изнутри, поскольку в мире его больше нет:
- сквозь ночь в себя смотри,
- подсчитывай убытки.
- что значат – изнутри
- тебя вернуть – попытки?[38]
Попытка впустить в себя умершего, однако, кончается прямым видением смерти, в котором отношение «я – ты» исчезает, а смерть определяется как исчезновение двойственности и воцарение единства:
- вот крепость смерти. стой.
- пока осада длится,
- двужильный разум твой
- в едином не двоится[39].
Эта двойственность, неизбежно привносимая языком, ставит целый ряд фундаментальных вопросов. Прежде всего удвоение того типа, о котором говорит Гумбольдт, ставит под сомнение такие фундаментальные понятия, как «истина», «реальность» и «бытие». Французский философ Клеман Россе писал:
Я буду здесь называть реальным (как я это всегда, пусть и имплицитно, делал) все, что существует применительно к принципу идентичности, гласящему, что А равно А[40].
Иллюзией в глазах Россе является все то, что не поддается строгому приложению этого принципа, а потому всегда маркировано двойственностью. А в ней не равно А. Эти формулировки Россе совпадают с принципами западной онтологии, восходящими еще к Пармениду. Есть то, что адекватно себе. Бытие – это область неподвижности и повторения, в которых проступает идентичность.
Однако, как известно, Витгенштейн в своем «Трактате» подверг сомнению сам принцип идентичности, который он определил как простую тавтологию, не вносящую ничего истинного, так как она изначально предполагает свою истинность:
Тавтология не имеет условий Истинности, ибо она является безусловно истинной; а Противоречие не является истинным ни при каких условиях. Тавтология и Противоречие являются бессмысленными…[41]
Жизнь, экзистенция же основаны на нарушении принципа идентичности. Ex-istere означает «находиться вне», то есть не совпадать с собой. Жить – означает не совпадать с собой. Греки различали два вида жизни: биос (βίος) – добродетельную, этическую и политическую жизнь и зое (ζωή) – биологическую жизнь, связанную с оживлением, дыханием, духом (psyche, ψυχή), движением. Зое пронизана витальностью, чрезмерностью, бурлением. Франсуа Жюльен пишет о способности зое выйти за рамки psyche. Для этого сверхпроявления витальности жизнь должна перестать совпадать с собой, в каком-то смысле даже отказаться от себя. Этот отказ от совпадения Жюльен называет de-coincidence[42]. Он видит его примеры в христианстве, когда Бог в образе Сына воплощается в смертном теле и умирает во имя утверждения вечной и еще более витальной жизни: «Нужно, чтобы Бог отстранился от себя ради подлинного достижения себя живого»[43]. Этот выход за пределы «я» осмыслен Целаном (о котором речь будет идти в книге). В такой перспективе жизнь, как и поэзия, – всегда несовпадение с собой, и это состояние поэзия может передать благодаря безостановочной игре «я – ты – мы – они».
Утрата устойчивости origo, разрушение внятной субъектности, сопровождаемое крушением истины и «бытия» и столь выразительно передаваемое поэзией, однако, несет в себе отражение не только жизни, но и теневого двойника такого «несоответствия» – смерти. Потеря origo к тому же оказывается парадоксально адекватной ситуации кризиса сознания и общества. Когда мир входит в темную полосу и все устойчивое рушится, идентичности трещат по швам, эта игра удвоений, эха и двойников получает особую смысловую нагрузку. В какой-то мере сама жизнь есть непрекращающийся кризис. Недаром самые апокалиптические моменты истории постоянно описывались в категориях, связанных со старением, распадом и смертью, как если бы речь шла об угасании жизни некоего организма.
Речь тут, конечно, идет не столько о картине общества и ее отражении в языке (прав был Бенвенист, считавший, что такое отражение невозможно), но лишь о соотнесенности себя с другими, благодаря которой возникает неустойчивая идентичность. В последнее время я все больше убеждаюсь в том, что именно поэзия позволяет в какой-то мере фиксировать origo, место установления личности в ее отношении с миром. И то, как это место фиксируется или оказывается неуловимым, – важный симптом состояния общества, человека и культуры.
Три поэта – герои этой книги – являются для меня «вергилиями», позволяющими заглянуть через оптику поэзии в социум и природу. Поэтому в книге существенное место отведено персонажам и мотивам, казалось бы, не имеющим прямой с ними связи. Например, я много пишу о романтизме – эпохе и сопровождающей ее поэтике, где проблема «я» (субъектности) и «они» (объекта) впервые возникла с такой силой в западной культуре. Автоматы Гофмана или Вилье де Лиль-Адана помогают мне понять странную двойственность языка. Патефоны Степановой прямо следуют за гофмановскими говорящими автоматами, а ирония и фрагментарность Рубинштейна логически ведут к обсуждению романтической поэтики фрагмента и иронии. Я сознательно позволял себе уходить далеко от творчества того или иного поэта, стараясь поместить его в гораздо более, чем принято, широкий контекст. Надеюсь, читатель простит мне эту вольность.
Часть 1. По ту сторону «я» (Дашевский и не только)
1. «Я» в поэзии
Поэтом, яснее других сформулировавшим сущность кризиса поэтического «я», был Григорий Дашевский. В 2012 году он опубликовал ставший важным манифестом текст о современной поэзии. Согласно Дашевскому, последние двести лет в русской поэзии господствовало романтическое сознание. В его рамках, о чем бы ни говорило стихотворение, оно говорит «про меня»:
На уровне слов это выражено у поэта, казалось бы, антиромантического, но на самом деле существующего абсолютно внутри этой традиции – Бориса Пастернака: «Меж мокрых веток с ветром бледным / Шел спор. Я замер. Про меня!» Это кажется абсолютно новым и его собственным открытием, но еще за полтораста лет до того, как он это написал в 1917 году, сентименталисты и романтики нас научили, что любой пейзаж – это про тебя[44].
Речь шла о сведении всего многообразия мира к некой жизни «внутреннего человека», его «душевным глубинам».
Странность этой ситуации усугублялась тем, что уникальная субъектность поэта почти не отличалась от уникальной субъектности читателя и, таким образом, сама эта раздутая уникальность «я» практически стиралась:
…это «я» понимается как общее для всех людей, и тогда, казалось бы, романтизм не говорит ничего, чего не говорили бы людям все мистики: внутри у каждого живет бездонная, единая для всех сущность[45].
Дашевский назвал такую ситуацию «соединением заурядности и исключительности» и видел максимально полное ее воплощение в Бродском, чьи англоязычные эссе он переводил и творчество которого хорошо знал:
…на поверхностном уровне у него собственное «я» тождественно всем остальным, а на уровне структуры – оно остается исключением[46].
Речь шла о комбинации заурядности и исключительности, когда непомерно раздутое романтическое «я» поэта оказывалось отражением «я» любого заурядного читателя-интеллигента. Дашевский не объясняет, каким образом банальное поверхностное «я» прикрывает собой уникальную глубину[47]. Дашевскому такая раздвоенность была нужна для описания социальной роли поэзии. Дело в том, что, по его мнению, романтическое гипертрофированное «я» было необходимым условием складывания некоего сообщества, в котором все «я» участников были нивелированы и стерты. Литература в своей поэтике так или иначе, по мнению критика, отражает социальную ситуацию, которая прежде всего выражается в соединении людей или в их дисперсии. Дашевский писал свой текст в 2012 году, сразу после Болотной, и говорил о тогдашнем состоянии социума как о «межеумочном времени, когда мы не можем сказать, что происходит с читательской душой»:
Это не был затвор советских времен с вынужденным или добровольным уходом от мира к себе, но не было и полноценное существование в мире. Они, эти «мы», существовали в полумраке, на каких-то детских, вторых ролях – они двигались по промежуточному маршруту между двумя пределами: с одной стороны, есть абсолютные требования одинокой души, с другой – есть требования человека деятельного, который сталкивается с внешним миром с той же абсолютностью, с какой душа существует в своем внутреннем мире[48].
Бродский и оказывался воплощением этого смутного «мы», в котором абсолютное одиночество сочеталось с деятельным пребыванием в мире.
В этом краеугольном тексте Дашевский атаковал не только романтический индивидуализм, но и сопровождавшее его ощущение тесного и даже удушающего сообщества, в котором парадоксально пребывают эти романтические индивиды с раздувшимся «я». Он писал о цитатности общинного сознания нулевых:
Цепляние за узнаваемые цитаты, размеры, образы в популярных стихах происходит во многом от страха реальности, от страха оказаться среди чужих, от страха признать, что уже оказался среди чужих. Нет уже никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не сближает. Время общего набора прочитанного кончилось, апеллировать к нему нельзя[49].
«Сверхплотную цитатность» в перестроечных стихах Кибирова он связывал с присущей тому времени необходимостью «хоронить общих мертвецов – всех сразу, и советских, и русских классических – и в последний раз их собрать…»[50] Сохранение же избыточной цитатности он называл «гальванизацией трупов». По его мнению, новое время выдвигает требование не цитатного сообщества, собирающегося вокруг романтического «я» поэта, но «перехода от семейного тепла к публичному свету», разработки речи «для чужих», «на холоде и на свету»[51].
Недавно Игорь Гулин опубликовал свой программный текст о поэзии в ознаменование десятилетия манифеста Дашевского. В нем он продолжил линию рассуждений своего предшественника, обогатив словарь последнего таким понятием, как постмодернизм. Гулин также попытался примирить нарциссизм поэтического «я» с исчезновением лирического «я» поэта. У него тоже возникает некое гибридное образование, правда, гораздо менее радикальное, чем Бродский у Дашевского. Это нарцисс, не верящий в силу собственного «я»[52]. Сообщество, создаваемое такими ослабленными «я», согласно Гулину, «некрепкое»:
…такие «я» способны образовывать сцепку, к которой особенно располагает существование в субкультуре. Поэтому в поэзии рубежа 1990-х и 2000-х было много речи от лица «мы». Это «мы» – не социальная идентичность и даже не интимная общность дружеского круга, а шаткая попытка усиления слабых голосов, как бы агломерация недостаточных «я» в некрепкое сообщество, отделенное от непредставимого общества[53].
Тексты Дашевского и Гулина интересны тем, что ставят на материале поэзии редко возникающий в ее контексте вопрос о сообществе, о читательском «мы». Любопытно в этих текстах и то, что они не в состоянии мыслить это «мы» без авторского «я». Все происходит так, как если бы «я» поэта было необходимо для установления «мы-сообщества». Слабое «я» – слабое сообщество. У Дашевского, разумеется, ситуация осложнена тем, что у его Бродского сильное «я» прикрывает некое второе слабое «я». Но в любом случае лирическое «я» и сообщество оказываются коррелятами. Когда романтическое «я» подавляется, поэт оказывается среди чужих на холоде. Сообщество исчезает.
2. Романтики и синтез «я»
В этом контексте приобретает все свое значение Рубинштейн – иронист, полностью исключающий романтическое «я» из своего кругозора. Место авторского голоса тут полностью занимают чужие голоса и цитаты – подлинные и мнимые. Но и само понятие романтического поэтического субъекта тут подвергается решительному пересмотру. В очерке о Рубинштейне я останавливаюсь на его иронии в связи с романтической иронией и, в частности, с пониманием Witz у Фридриха Шлегеля. Шлегель, как известно, видел проявление иронии в «сборке» (термин Делёза и Гваттари) несоединимых фрагментов, чья несовместимость и была основанием Witz
