Миттельшпиль
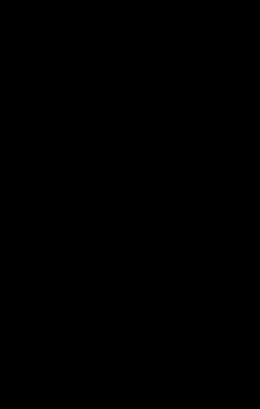
© 2019 by Seanan McGuire
© Олейник А., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Эвербук», Издательство «Дом историй», 2025
© Макет, верстка. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025
Книга VII
Конец
Говорят, нечетным числам – будь то в рождении, удаче или смерти – присуща некая божественность.
Уильям Шекспир «Виндзорские насмешницы»
Неважно, насколько красива ваша теория, неважно, насколько вы умны. Если она не согласуется с экспериментом, она неверна.[1]
Ричард Фейнман
Провал
Так много крови.
Роджер не знал, что в человеческом теле так много крови. Невозможная, нелепая, бессмысленная трата редкого и драгоценного ресурса, место которому – и это самое важное – внутри тела. Вся эта кровь должна быть внутри тела, которое ее породило, но она здесь, снаружи, и он тоже здесь, и все очень плохо.
Доджер все еще жива, несмотря на кровь, несмотря ни на что. Грудь поднимается и опадает короткими, едва различимыми рывками. Каждый вдох дается с явным усилием, но она продолжает бороться за следующий. Она еще дышит. Еще истекает кровью.
Но это скоро закончится. В теле Доджер в буквальном смысле не останется ни кровинки. И, когда она перестанет дышать, он перестанет дышать вместе с ней.
Если бы Доджер очнулась, она охотно сообщила бы ему, сколько именно ее крови разлито вокруг. Она оглядела бы весь этот хаос. За секунду вычислила бы площадь залитой поверхности и объем жидкости и выдала бы конкретное число с точностью до четверти унции. Ей бы казалось, что таким образом она его утешает, даже если бы это число означало «я тебя покидаю». Даже если бы оно означало «пути назад нет».
Даже если бы оно означало «прощай».
Может быть, себя она бы и правда утешила. Вычисления сказали бы правду, а большего Доджер никогда не просила. Он знает подходящие слова: обескровливание, кровотечение, гиповолемия, – но слова не поддерживают его так, как числа – Доджер. Никогда не поддерживали. Числа бесхитростны и послушны, надо только понимать правила, по которым они живут. Слова более коварны. Они изворачиваются, кусаются и требуют слишком много внимания. Чтобы изменить мир, ему нужно думать. Его сестра просто берет и меняет его.
Не без последствий. Именно так они и оказались здесь, по ту сторону садовой изгороди, в конце невероятной дороги, в конце всего. Они так и не добрались до Невозможного города и уже никогда не доберутся. Король кубков вновь побеждает.
Король кубков всегда побеждает. Любой, кто пытается утверждать обратное, – лжец.
Выстрелы снаружи становятся громче, но впечатляют меньше, чем он ожидал: как будто петарды взрываются внутри жестяной банки. Но петарды далеко не столь разрушительны. Тонкие стены становятся все тоньше. Пули выгрызают бетон, и люди, которые преследовали их на невероятной дороге, скоро окажутся внутри. Эрин не сможет сдерживать их вечно, как бы ни старалась.
Он смутно осознает, что и не хочет, чтобы она сдерживала их вечно. Если здесь все закончится для одного из них, пусть закончится для обоих. Пусть здесь все закончится раз и навсегда. Никто – даже он – не может идти по невероятной дороге в одиночку.
Он хватает Доджер за плечо, чувствуя, что она еще здесь, что она жива и реальна, и как можно осторожнее тормошит ее.
– Доджер. Эй, Додж. Эй. Ну же, очнись. Мне нужна твоя помощь. Нам нужно остановить кровотечение.
Ее глаза по-прежнему закрыты. Грудь вздымается и опадает, и с каждым разом дыхание становится все более поверхностным.
Так много крови.
Он знает много слов. Шок, летальный исход, чудовищно простая, чудовищно меткая смерть. Доджер снова оставляет его, на этот раз навсегда. Уходит. Уходит. Ушла.
– Не поступай так со мной.
Его собственные раны не так тяжелы. Единственная пуля попала в верхнюю часть бедра в самом начале боя. Она прошла навылет, не задев крупные артерии, и Доджер тогда была еще в силах помочь ему наложить жгут. Если ему как можно скорее не окажут надлежащую медицинскую помощь, он вполне может лишиться ноги. Но прямо сейчас он об этом почти не думает. Может, у него тоже шок. Может, он этого заслуживает.
– Ты не можешь уйти. Не можешь. Мы зашли слишком далеко. Слышишь? Ты не можешь уйти. Ты мне нужна.
Ее глаза закрыты. Так много крови.
Кое-что он все-таки может сделать. Возможно, это единственный вариант. Возможно, он с самого начала был единственным, и все шло именно к нему. Наверное, это провал, бегство обратно в сад, но ему плевать, потому что ее грудь едва вздымается, и крови так много, так много крови, и неважно, что он знает слова, все слова – для всего на свете. Числа забирают ее. Без нее он не может до них дотянуться.
– Я не справлюсь один. Прости. Я не справлюсь.
Он наклоняется к самому уху Доджер, касается губами его завитка. Волосы у нее липкие и гладкие от крови. Кровь пачкает его кожу, но он не пытается вытереть ее.
– Доджер, – шепчет он. – Не умирай. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что угодно, ломай что угодно, только не умирай. Это приказ. Это…
Это ее глаза – они открываются, зрачки сжаты в черную точку на серой радужке, как будто у нее серьезная передозировка опиатами. Это золотые искры на сером, яркие всполохи – Невозможный город пытается позвать ее домой. Он чувствует, как золото у него в костях откликается и тянется к золоту в Доджер, стремясь воссоединиться.
Это тишина – выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука.
Это мир становится белым.
Это конец.
Мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы
В одном и том же самом обычном городе, на одной и той же самой обычной улице жили двое самых обычных ребятишек, чьи пути никогда не пересекались. Впрочем, в этом, к несчастью, не было ничего необычного: невидимая линия посреди квартала разбивала детей на тех, кто ходит в школу на западной стороне города, и тех, кто ходит в школу на восточной, и этот незримый барьер разделил этих двоих задолго до того, как они повзрослели и узнали, что он существует. Каждое утро они просыпались, одевались, целовали на прощанье родителей и, как обычно, шли по обычной улице через обычный город в двух противоположных направлениях.
Как это часто бывает с детьми, они были одновременно и очень похожими, и очень разными. Девочку звали Хефциба, потому что ее родители были людьми апатичными и эксцентричными. Они звали ее Циб, рассуждая, что имя Хефциба длиннее, чем ее тень. Каждый день они проверяли, не доросла ли она до своего имени, и каждый день разочаровывались.
– Скоро, – обещали они друг другу. – Скоро.
Мальчика звали Эйвери, потому что его родители были людьми практичными и энергичными. Они звали его Эйвери, когда были довольны, и Эйвери Александр Грей, когда сердились, и никогда не употребляли уменьшительных форм. Уменьшительные формы нужны тем, кому не подходят полные, поэтому родители мальчика, прежде чем дать ему имя, измерили его со всех сторон до последнего дюйма.
– Мы отлично справились, – уверяли они друг друга. – Мы справились.
Вот они, наши дети: обычные, ничем не примечательные, невероятно уникальные, как и все дети. Наша история начинается в обычный, ничем не примечательный день, какого никогда не было прежде и который никогда – сколько бы ни длилось и ни простиралось время – не повторится…
А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»
…Доктрина Этоса, описанная Пифагором, гласила, что определенные музыкальные инструменты и лады могут влиять на равновесие между Логосом (рациональным поведением) и Пафосом (эмоциональным восприятием). Позднее алхимики стали рассматривать Этос как связь между двумя половинками человеческого сердца, а еще позднее – как равновесие между языком и математикой, двумя основными методами, посредством которых человек всегда воздействовал на Природу и даже повелевал ею. Таким образом, Доктрину следует рассматривать как самое опасное и самое желанное из алхимических воплощений. Те, кто раньше других овладеет Доктриной, смогут повелевать всем на свете.
Дамы и господа Алхимического конгресса, вы знаете, на что я способна. Вы видели созданные мной шедевры, говорили с доказательствами моего мастерства. Я верю, что готова к воплощению Доктрины, если вы готовы позволить мне рискнуть.
Обращение Асфодель Д. Бейкер к Американскому алхимическому конгрессу, 1901 год
Книга 0
Начало
Медицина покоится на четырех столпах: философии, астрономии, алхимии и этике.
Парацельс
Время – это материя, из которой я состою.
Хорхе Луис Борхес
Бытие
В воздухе потрескивает электричество, витает запах озона и ртути, чувствуется жгучий привкус алкагеста – универсального растворителя, который имеет неприятную склонность поглощать все на своем пути, если не хранить его должным образом. Произвести алкагест крайне сложно, уничтожить – еще труднее. И все же несколько капель этого вещества значительно упростят осуществление того, что считается невозможным. Растворить, судя по всему, можно даже смерть.
Женщина, называющая себя Асфодель, медленно кружит вокруг стола, стараясь найти изъяны в своем творении. И не находит, но продолжает беспокойно кружить, как акула, не желая переходить к завершающему этапу, пока не будет полностью уверена. Ее профессия требует уверенности – глубочайшей, твердокаменной уверенности в том, что ее воля достаточно сильна, а желания достаточно ясны, чтобы перекроить мир по своему образу и подобию.
Она еще не величайший алхимик своего времени, но она им станет. В этом-то она абсолютно не сомневается. Если придется силой тащить этих глупцов из Конгресса в то прекрасное светлое будущее, что она видит перед собой, – что ж, она сделает это без сожалений, пусть они даже будут визжать и брыкаться. Раз они не захотели последовать за ней, им должно хватить ума убраться с ее дороги ко всем чертям.
Асфодель Бейкер двадцать один год; остается тринадцать лет до публикации книги, которая закрепит ее наследие в умах и сердцах детей по всему свету, и двадцать три года до ее исчезновения и «смерти», и представить, что ее замысел провалится, она способна не более, чем бабочка – матанализ. Она перекроит мир по лучшим образу и подобию, чем те, по которым он создан сейчас, и никто ее не остановит. Ни ее родители, ни наставники и уж тем более не Алхимический конгресс.
Она была одаренной ученицей – это признавали все, кто с ней сталкивался, все, кто видел, на что она способна. Отрицая ее мастерство, старая гвардия просто демонстрирует недальновидность и злобу: они отказываются видеть, что сверкающее светлое будущее догоняет их, будто паровоз, несущийся на всех парах. Это ее время. Это ее место.
Это ее шанс показать им всем.
Асфодель прекращает кружить по комнате и берет заранее приготовленную чашу, содержимое которой сияет золотом с отблесками ртути. Макая пальцы в жидкость, она начинает рисовать руны на груди обнаженного безупречного тела, что лежит перед ней. Он прекрасен. Все, что понадобилось, – время, старание и доступ в несколько моргов с алчными беспринципными паразитами в руководстве. Каждая часть этого тела, которую она приобрела, соответствует тщательно выверенным характеристикам. Благодаря алкагесту от швов не осталось и следа. Универсальный растворитель в умелых руках имеет множество применений.
Закончив рисовать, она делает шаг назад и внимательно рассматривает свое творение. Так много в ее плане зависит от того, будет ли оно совершенным. Но что в действительности есть совершенство, как не торжество победы? Если он будет вести ее к победе, он будет совершенен, и недостатки не будут иметь никакого значения.
– Ты восстанешь против меня, мой прекрасный мальчик, – говорит она, и в ее голосе сплетаются сладость меда и горечь болиголова. – Ты свергнешь меня и поклянешься, что видел мои кости. Ты заберешь мою корону, займешь мой трон и понесешь мои труды в новый век и ни разу не оглянешься посмотреть, что следует за тобой по пятам. Ты будешь моей верной правой рукой и коварной левой, и когда ты упадешь, завершая мой замысел, то умрешь без сожалений. Ты сделаешь то, что не смогла я, рука твоя не дрогнет, а разум не будет колебаться. Ты будешь любить меня и ненавидеть и докажешь мою правоту. Это самое главное: ты докажешь мою правоту.
Она ставит чашу и берет флакон, наполненный жидким звездным светом, – перламутр будто танцует, переливаясь в стекле. Подносит флакон к его губам и капает одну-единственную каплю. Мужчина, собранный ею из мертвых тел, делает вдох, открывает глаза и с удивлением и страхом смотрит на нее.
– Кто ты? – спрашивает он.
– Асфодель, – отвечает она. – Я твой учитель.
– Кто я? – спрашивает он.
Она улыбается.
– Тебя зовут Джеймс, – говорит она. – Ты начало моего величайшего труда. Добро пожаловать. Мы многое должны успеть.
Он садится, не отрывая от нее взгляда.
– Но я не знаю, что это за труд.
– Не волнуйся.
Ее улыбка – первый кирпичик, заложенный в нечто, которое она однажды назовет невероятной дорогой. Сегодня, сейчас, прямо в этот момент, они начинают свое путешествие в Невозможный город.
– Я покажу тебе, – говорит она.
Свершилось. Поворачивать назад уже слишком поздно.
Эйвери смотрел на Циб, а Циб смотрела на Эйвери, и никто из них точно не знал, что делать с тем, что они увидели.
Эйвери увидел девочку своего возраста в юбке с заштопанными прорехами по всему подолу. Некоторые были заштопаны еще ничего. Другие, казалось, вот-вот разойдутся снова. Носки были из разных пар, на блузке виднелись заплатки, а волосы были так растрепаны, что, если бы она достала оттуда полный набор столового серебра, сэндвич с сыром и живую лягушку, он бы не удивился. Грязные ногти, исцарапанные колени – в общем, она была не из той породы людей, общение с которыми одобрила бы его мать.
Циб увидела мальчика своего возраста в чересчур белой рубашке и чересчур отглаженных брюках. В его отполированных туфлях отражалось ее лицо с широко распахнутыми глазами. Аккуратно застегнутые манжеты и безупречно чистый пиджак делали его похожим на маленького мастера похоронных услуг, который по ошибке забрел в район, где слишком много живых людей и совсем мало мертвых. Ногти у него были аккуратно подстрижены, и он выглядел так, будто никогда не катался на велосипеде, – в общем, он был не из той породы людей, общение с которыми одобрил бы ее отец.
– А ты что тут делаешь? – спросили они в один голос и уставились друг на друга, не спеша отвечать.
А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»
Книга I
Второй этап
Математика проявляет сущее. Она – язык невидимых отношений между вещами.
Ада Лавлейс
Знание – это печаль[3].
Лорд Байрон
Сто лет спустя
Если у человека есть миссия, сто лет могут пролететь в одно мгновение. Конечно, этому способствует доступ к философскому камню и плодам тысячелетнего развития алхимии, но по-настоящему всегда была важна только миссия. Джеймс Рид родился, зная свою цель, похоронил свою наставницу в неглубокой могиле, зная свою цель, и твердо намерен подняться к вершинам человеческого знания, крепко сжимая в кулаке плоды своих трудов. И пусть будет проклят тот, кто встанет на его пути.
Пусть все они будут прокляты.
Он ждет нужного момента в конце коридора – там по тщательно продуманному замыслу сохраняется полумрак. Асфодель научила его всему, чему могла научить, – он постигал и тонкое искусство алхимии, и грубое искусство махинаций, впитывая знания, будто материнское молоко. Все это просто спектакль, а эти люди – эти жалкие гордецы, мнящие себя королями своих корпоративных вельдов, – простаки, готовые отдать ему все без остатка.
(Алхимический конгресс не одобряет его дела с простыми смертными, считая их рискованными и самонадеянными. Но мнения Алхимического конгресса никто не спрашивал.
Члены Алхимического конгресса сами – воплощенное высокомерие, но они не знают и даже не подозревают, как скоро наступит для них час расплаты. О да. Скоро они поймут, что им не следовало стоять на пути Асфодель Бейкер и, что то же самое, на пути ее сына, наследника и величайшего творения.)
Это его собственное шоу чудес, коллекция уродцев, призванных служить назиданием и блестящей приманкой – но не для масс, а для нескольких избранных.
Коридор достаточно широк, чтобы в нем могли разминуться двое носилок; его освещают лампочки в стеклянных плафонах, такие тусклые, что нельзя разглядеть цвет пола. Стены тоже едва освещены; они могут быть и белыми, и кремовыми, и серыми – свет слишком рассеянный, чтобы можно было ясно различать цвета. Вдоль коридора выделяются пятна комнат. Там лампы гораздо ярче, они резко, как в операционной, высвечивают обитателей за полупрозрачными зеркальными стенами, переводя их из категории «дети» в категорию «экспонаты». Возраст детей варьирует от двух лет до двенадцати. На всех разноцветные пижамы с мультяшными медведями, или ракетами, или комически дружелюбными динозаврами; спят они под одеялами с теми же картинками; но все же под таким освещением в них едва можно признать людей.
Одна маленькая девочка забилась в угол комнаты. Она насторожена, будто зверек; сидит, обхватив руками колени, и так сосредоточенно смотрит на зеркало, будто каким-то образом видит людей, стоящих снаружи. Ее сосед спит лицом к стенке под одеялом, разрисованным мультяшными роботами. Согласно табличке у входа, их зовут Эрин и Даррен, им по пять лет, и все в них подчинено определенному замыслу.
Но сегодня фокус внимания лежит за пределами этих камер. Внимание сосредоточено на мужчинах; их трое – это изнеженные лысеющие создания в респектабельных деловых костюмах и практичной обуви. Они прекрасно смотрелись бы на заседании совета директоров или на собрании акционеров. Но здесь, в этом опасном месте, где все заранее определено, они явно не в своей тарелке – будто снежинки в жерле вулкана. Они тревожно жмутся друг к другу. Они вложились в это дело не меньше остальных; именно они расставили все точки над i и подписали чеки, благодаря которым все это стало возможным. Все здесь принадлежит им. Каждый дюйм этого пространства. И все же…
Джеймс Рид смотрит на них и улыбается. Так и должно быть: их тревога – часть балансировки сил. Пусть инвесторы всем владеют, но создал все это он: здесь он Всемогущий Господь, способный вызвать жизнь из небытия и повелевать силами вселенной. Им бы стоило помнить об этом – этим людишкам с примитивным мышлением и чистенькими руками. Еще как стоило бы.
По ту сторону стекла мальчик с глазами бетонно-серого цвета раскачивается взад-вперед, уставившись в никуда. Последние семь часов он что-то напевает. Крошечные микрофоны в его комнате – ни в коем случае не в камере, это не тюрьма, здесь взращивается будущее, и потому язык невероятно важен – записали каждую секунду бессвязной мелодии. Ничто никогда не пропадает зря. Ничто не ускользает от внимания.
(Позднее криптографы сведут песню мальчика к математическим составляющим и с течением времени определят, что он напевал химическую формулу, по атому в каждом такте. Эта формула ляжет в основу новейшего обезболивающего с довольно неожиданным составом, не вызывающим привыкания и способным облегчить боль в случаях, ранее считавшихся безнадежными. Получение патента и вывод препарата на рынок займут еще двенадцать лет, но в результате он принесет миллиарды подставной компании, занимающейся фармацевтической стороной дела. Мало-помалу благодаря подобным случаям лаборатория становится самоокупаемой. Она уже разрослась до огромных размеров, и содержать ее невыразимо дорого, как любую невероятно разросшуюся вещь. Но она должна себя окупать, должна. Если Алхимический конгресс вложит хотя бы пенни в ее создание и содержание, они будут ждать, что их инвестиции обернутся золотыми слитками, – а этого нельзя допустить. Не сейчас. Доктрина практически у него в руках.)
– Господа.
У Рида все рассчитано с точностью до секунды: из сумрака появляются слова, а следом – он сам. С каждым шагом различия между ним и инвесторами становятся все очевиднее. Они носят купленные женами запонки, их лысеющие макушки отполированы до зеркального блеска. Он одет как персонаж Рэя Брэдбери из рассказа о бесконечных американских сумерках: узкие черные брюки, застегнутая на все пуговицы рубашка сапфирового цвета и даже фрак со странными иероглифами, вышитыми золотыми нитками на манжетах и по краю фалд. Золотая вышивка напоминает о тех обещаниях, которыми он их заманил, как мотыльков манит всепоглощающее пламя.
Асфодель – мастер, наставница, мученица – научила его ценить искусство лицедейства. Он всегда был прилежным учеником и знает свою аудиторию. Они должны видеть в нем чудаковатого щеголя, персонажа из детской книжки, того, кого терпят, но презирают. В своем высокомерии они сочтут его синекдохой, и некоторое лицедейство только дополнит этот неверный образ.
Они забывают, эти изнеженные животные корпоративного вельда, что всегда есть хищник и добыча. Они считают себя львами, хотя с первого взгляда ясно, что они зебры – слабые, тучные, идущие на убой.
Его когти, замаскированные бархатом и актерской игрой, достаточно остры, чтобы вспороть мир.
– Господа, – снова роняет он, и в его акценте можно услышать очень многое – и практически ничего. Он целое столетие оттачивал его, подбирая звучание взрывных и шипящих так, чтобы акцент был достаточно экзотичным и оригинальным, но все еще не иностранным. По той же причине дети, выставленные напоказ в этом коридоре, бледны – они сделаны из молока и костей, а не из камня, земли и прочих материй, как другие его творения. Белые дети кажутся этим алчным, жадным мужчинам почти людьми, а в этом холодном стерильном коридоре, соединяющем науку и алхимию, разум и религию, внешность почти так же важна, как слова.
Дети, похожие на людей, вызывают в тех, кто заплатил за них, чувство вины. Чувство вины открывает кошельки. Обычный расизм, простой расчет, и пропасть ненависти Рида становится еще глубже, ведь кто в здравом уме откажется хоть от одного из чудес, что таит в себе человеческая раса, разобранная на части?
– Доктор Рид, – говорит один из посетителей, самопровозглашенный лидер этой горстки, отличающийся повышенным чувством собственной значимости и еще более – отсутствием чувства самосохранения. Двое других чуть отступают – он примет это за почтение, но Рид считает, что это трусость. – Зачем мы здесь? Вы сказали, что у вас есть что показать нам, какой-то великий прорыв, но пока что мы не видим ничего нового.
Выражение удивления, проступившее на лице Рида, у другого могло бы выйти нелепым, но только не у него. Ни в коем случае. Недаром говорят: «Практика, практика и еще раз практика!»
– Перед вами те, кто способен коснуться будущего, кто тасует вероятности, будто карты, чьи клетки регенерируют быстрее, чем могут зафиксировать наши приборы, и вы говорите «ничего нового»? Право, мистер Смит, мне неловко от вашей недальновидности.
Мужчина (его зовут вовсе не Смит, этот ничего не значащий псевдоним он носит из необходимости, как и его спутники. У такого рода бизнеса, скрытого в тени за рамками закона, есть свои неудобства) слегка распрямляет плечи и чуть сильнее прищуривается. Его не воспринимают всерьез. Пора это прекратить.
– Вы показали нам пару чудес, Рид, но эти чудеса невозможно продать. Мы не можем превратить в золото весь свинец в мире, не разрушив экономику, которую мы пытаемся контролировать. Что вообще вы можете нам предложить?
– Наконец-то вы начали задавать правильные вопросы. Идемте.
Рид степенно удаляется, плавно, как и подобает хищнику. У мужчин в обуви на плоской подошве небольшой выбор: следовать за ним или остаться здесь, в окружении немигающих и невидящих глаз детей, за чье появление в этом мире они заплатили.
Ни один из них не медлит.
Коридор стелется, будто лента еще не застывшего сливочного ириса, на пути все новые комнаты с белыми стенами, а в них – все новые дети в пижамах. Некоторые постарше, почти подростки; они сидят за письменными столами спиной к лжезеркалам, потому что знают, что в любое время за ними могут наблюдать. Другие, помладше, совсем малыши, играют с яркими конструкторами или безмятежно спят, свернувшись калачиком под лоскутными одеялами ручной работы. Сотрудники, на которых возложена забота об этих детях, утверждают, что те спят гораздо крепче в окружении предметов с менее стерильным прошлым, и потому рукотворные вещи лучше сделанных на заводе: что-то в процессе изготовления добавляет им жизни. Растить детей – непростая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но то, что делается здесь, гораздо сложнее.
На двери в конце коридора три кодовых замка. Рид по очереди отпирает каждый, даже не пытаясь скрыть коды. К утру они уже поменяются. Такой уровень безопасности – не просто спектакль: это предупреждение, чтобы инвесторы поняли – он собирается показать им нечто действительно серьезное. И если кто-то из них попытается оспорить его главенство, последствия будут печальными.
Дверь открывается. Рид пропускает инвесторов вперед. Когда он входит за ними следом, дверь захлопывается, словно запечатывая их навечно в холодной гробнице.
– Вселенная устроена согласно нескольким основополагающим принципам, – начинает он без вступления или паузы. – Разумеется, это гравитация, вероятность. Хаос и порядок. Мы – часть вселенной, а потому воплощенные в нас начала равны в своей божественности силам, которые действуют на нас извне. Гравитация, конечно, важна. Никто не хочет улететь прочь потому, что связи, удерживающие нас на Земле, случайно окажутся разрушены. Но любовь, любопытство, лидерство – все это не менее важные силы, иначе они бы не существовали. Природа не терпит пустоты. И ничто не было создано без цели.
В комнате темно, и кажется, что в ней нет выходов; пока он не откроет дверь, выбраться невозможно. Инвесторы не произносят ни слова. Они рады демонстрировать свою власть по мелочам, когда им ничто не угрожает, но здесь и сейчас они не контролируют ситуацию. Это выводит их из себя. Рид видит это и наслаждается.
– Вы все прекрасно знаете, что наши исследования направлены на создание детей, настроенных на эти так называемые силы природы. Представьте ребенка, в котором настолько хорошо воплотилась трансмутация, что одним своим прикосновением он может менять структуру металла, или другого – который может превращать день в ночь. В случае успеха мы получаем мощнейшее оружие всех времен. Его возможности не поддаются описанию. Каждый из вас был выбран инвестором нашего проекта не только из-за вашего финансового потенциала, но и потому что ваш эмоциональный потенциал свидетельствует о том, что вы способны помочь этому миру перейти в новую эру просвещения и согласия.
Всякий раз, произнося эту речь, Рид переживает, что перегибает палку, что наступит момент, когда кто-то из этого бледного, вскормленного молоком стада наконец вспомнит, что когда-то был хищником, и станет грызть руку, которая его кормит. Всякий раз он испытывает облегчение и разочарование, когда они, удовлетворенно улыбаясь и кивая, глотают его слова. Да, конечно, грядет новый порядок, и, разумеется, они будут в первых рядах. Они это заслужили. Они за это заплатили и, заплатив, обеспечили себе право на все последующие блага и возможности. Все это принадлежит им и никому больше.
Дураки. Но богатые дураки. Их богатство позволило, не привлекая внимания трусов из Конгресса, продвинуть проект настолько, что теперь он может стать самоокупаемым, и Рид может порвать с бизнесменами, которые смотрят на чудо века, а видят только знаки доллара. Еще немного, и он будет свободен. Рид крепко держится за эту мысль, продолжая свою речь:
– Центральное место в наших изысканиях занимает сила, выведенная древними греками: Доктрина Этоса. Согласно Доктрине, музыка может влиять на личность на эмоциональном, ментальном и даже физическом уровне. Сейчас мы уже понимаем, что каждая личность – микрокосм творения, поэтому кажется очевидным, что то, что может сработать на одном человеке, должно сработать и на всем мире. Поэтому алхимики с давних пор стремятся воплотить Доктрину.
Рид останавливается, давая им возможность переварить сказанное. И, к своему удивлению, слышит:
– Я был здесь девять лет назад, и тогда вы сказали, что вам удалось воплотить Доктрину. Почему мы топчемся на том же месте?
– Потому что, если вы были здесь девять лет назад, вы понимаете, что наш первоначальный успех во многом оказался неудачей.
Рид с трудом сдерживается. Как смеет этот человек говорить с ним так, будто имеет хоть какое-то представление о пробах и ошибках, сопутствующих предприятию такого масштаба? Они здесь меняют мир, а этого человека и ему подобных заботит только цвет чернил в бухгалтерских книгах. Инвесторы тихо переговариваются. Он теряет их внимание.
– Наша первая попытка воплощения Доктрины была успешной, – говорит он, пока бормотание не успело перерасти в открытый бунт. – Мы заключили руководящий принцип Вселенной в человеческую плоть. Возникли… осложнения, да, но теория остается верной.
Осложнения – это мальчик, у которого реальность резонирует в голове так сильно, что ему нет дела ни до чего, кроме того, что он видит за закрытыми веками. Он так и не заговорил. Три года назад он перестал есть, и, хотя его жизнь еще поддерживается искусными аппаратами и его кормят через специальные трубки, он не открывал глаза вот уже восемнадцать месяцев. Внутри этой дрожащей оболочки заключена Доктрина. Ее никак не извлечь, не заставить мир плясать под их дудку – остается только дать ей новый дом, а старый похоронить.
– Основная трудность – в размере Доктрины. Если поместить Доктрину в разум, в нем не остается места человечности. Мы полагаем, что, разделив Доктрину на две компоненты, математику и язык, мы сможем создать своего рода метасистему. Мы попытаемся подчинить Доктрину, используя для воплощения этих компонент двух человек, и, когда они будут разделены, возможности носителей будут достаточно ограничены, так что они будут послушны и легко управляемы.
– Насколько послушны? – спрашивает инвестор.
– Достаточно послушны. Мы будем воспитывать их так, что одновременно разовьем в них человечность и научим тому, что мы и служение нам – превыше всего остального. Когда они воссоединятся, они сделают все, что мы попросим, лишь бы остаться вместе – а они захотят остаться вместе. Собственная природа не оставит им выбора, и они будут у нас в руках. Мы будем контролировать все, к чему у них будет доступ, включая доступ друг к другу.
Какая сладкая мука ждет этих кукушат, птенцов Доктрины, – быть лишенными своей половинки, пока он не сочтет их достойными воссоединения.
– Они будут необычными детьми – такова их доля, и это славная доля, – и они изменят все сущее.
– Как долго нам придется ждать, прежде чем станет ясно, постигла ли нас очередная неудача? – спрашивает мистер Смит.
Рид скрипит зубами.
– Поэтому я и привел вас сюда, – говорит он и щелкает пальцами.
Стена раздвигается, открывая три небольшие комнаты с белыми стенами. В первых двух есть жильцы: в одной – пара двухлетних малышей, во второй – пара спящих младенцев, не больше года. В третьей только две пустые детские кроватки.
Инвесторы жадно рассматривают детей, будто животных в зоопарке. Рид позволяет себе усмехнуться.
– Мы уже преуспели, – объявляет он.
Дверь в глубине третьей комнаты открывается, заходят две нянечки, у каждой на руках младенец. Новорожденных благоговейно кладут в кроватки. Нянечки тихо уходят.
Три пары детей, рожденных с разницей в год. Все появились на свет с помощью кесарева сечения ровно в полночь, извлечены из своих матерей в правильное время – между соседними парами ровно один оборот Земли вокруг солнца. Первое воплощение Доктрины уже покинуло этот мир, оно было освобождено от земной формы, как только третья пара тщательно спроектированных детей сделала свой первый несчастный вдох. Все шестеро – достойные носители, и кто теперь владеет Доктриной – поди догадайся.
Впрочем, гадать не надо. Какая из этих пар станет вместилищем, не имеет значения – все они принадлежат ему.
– Господа, представляю вам Доктрину Этоса, – говорит он. – Одна из этих пар воплотит все, над чем мы работали, и тогда у нас в руках будет вся вселенная.
«У нас, а не у вас, вы, напыщенные дураки, не видящие ничего дальше своего носа», – думает он.
Инвесторы толпятся у стекла, сражаясь за лучший вид на свое будущее.
Младенцы спят.
Позже, выпроводив раскрасневшихся инвесторов, возбужденно гомонящих о том, как изменится мир, как они его изменят, доктор Рид отряхивает фрак и возвращается в лабораторию проверить, все ли в порядке с его новыми творениями. Когда он распахивает дверь, технологи и лаборанты, допоздна задержавшиеся на работе, поднимают глаза, бледнеют и спешат вернуться к своим обязанностям. Никто из них не хочет привлекать его внимание. Иногда у него возникают идеи о том, как именно им надо работать. Иногда он излагает их, оставляя шрамы.
Рид идет, расправив плечи, высоко подняв голову, довольный тем, как продвигается дело. Дураки из Конгресса говорили, что это невозможно, что ни одному человеку не удастся соединить науку и алхимию так, чтобы не потерять сильные стороны того и другого; именно из-за них Асфодель переступила все мыслимые пределы – так она хотела доказать, что они ошибаются, – и вот теперь он, властитель всего, что доступно его взгляду, дюйм за дюймом тащит старые идеи в новый мир. Он с самого начала утверждал, что аватары существовали всегда, нужно только установить над ними надлежащий контроль. Возможно, идеи Асфодель помогли ему сделать первый шаг, но, видит Бог, весь остальной путь он проделал сам.
(Летние короли и Снежные королевы, Джеки в зеленом и пшеничные Дженни[4] – он знает имена, знает их тайны, о которых шепчутся в темных уголках по всему свету. Он достаточно разумен, чтобы не трогать понятия, у которых есть естественные воплощения. Их время еще придет. Когда он будет контролировать Доктрину, когда причина и следствие будут плясать по его указке, тогда он просто протянет руку и заберет все оставшееся, все, что принадлежит ему по праву. У него в руках будет вся вселенная, и горе тем, кому не понравится, как он ею распорядится.)
– Вот вы где! – К голосу прилагается женщина, выскочившая из-за угла, словно пробка из бутылки, – его собственный персональный джинн в синих джинсах и фланелевой рубашке.
Ли – лучший алхимик, которого он имел несчастье встретить после смерти Асфодель, стремительный вихрь с прожженными кислотой дырами на рубашке и короткой стрижкой (чтобы уменьшить риск соприкосновения волос с огнем). У нее открытое честное лицо, по переносице звездочками рассыпаны веснушки. Она похожа на спелый персик со взбитыми сливками, на субботний вечер у лягушачьего пруда – воплощение невинности и американской мечты, к тому же в поразительно красивой упаковке. Все это сплошной обман. Если Рид собирается эксплуатировать мир ради собственной выгоды, Ли с радостью подожгла бы все сущее просто для того, чтобы поджарить зефирки на угольках мирового пожара.
Она глубоко порочна и невероятно полезна, и он сполна насладится в тот день, когда наконец сможет разобрать ее обратно на части, из которых ее когда-то создал другой алхимик. Старый дурак забыл все, чему учили примеры Блодьювед и монстра Франкенштейна: никогда не создавай то, что умнее или безжалостнее, чем ты сам.
Что-то в этой мысли царапает его, что-то насчет Асфодель – ее можно было обвинить во многом, но точно не в глупости. Он отбрасывает эту мысль в сторону, сосредотачиваясь на Ли.
– Как прошли роды?
– Прекрасно. Гладко. Как по маслу. Как вам больше нравится. Излишки материала собраны и утилизированы. – Она небрежно машет рукой. – Ничего необычного.
Он знает, что под «излишками материала» подразумевается не только послед, который благодаря методу создания младенцев сам по себе будет обладать сильными алхимическими свойствами, но и невольная суррогатная мать, выносившая пару кукушат. Он не знает, где Ли нашла ее, и у него, хоть и едва, все же хватает человечности, чтобы не спрашивать. Время от времени она вытворяет что-нибудь подобное – такова плата за то, что блестящий ум собранного по частям алхимика всегда к его услугам; кроме того, женщина долгое время была в непосредственной близости от объектов эксперимента, так что ее тело действительно может пригодиться алхимии. Заранее не угадаешь.
– Мальчик?
– Мертв. Он в вашей личной лаборатории. Я помню, что вы хотели, чтобы честь его препарировать досталась вам.
Ее губы кривятся от досады. Она предпочла бы сделать это сама – как и всегда, когда что-то нужно разобрать на части.
Рид не обращает внимания на ее недовольство.
– Как подопытные?
– Сначала из утробы извлекли особь мужского пола, скорее всего, контроль будет у него; с ним все в порядке, здоров, готов к отправке в приемную семью. Особь женского пола извлекли двумя минутами позже. Она кричала полчаса, но потом успокоилась.
– Что ее успокоило?
– Особь мужского пола. Когда мы положили их вместе, она перестала кричать. – Рот Ли снова кривится. – Представляете, как будет весело в самолете?
Рид кивает.
– Как остальные?
– Усыновления организованы. Мы расселяем их по разным гуморам. По двое Огню и Воде и по одному Земле и Воздуху. – Впервые в непробиваемой невозмутимости Ли намечается трещина. – Вы уверены, что нам необходимо их отсылать? Правда уверены? Мне было бы гораздо спокойнее содержать их здесь, в контролируемых условиях.
– Девочку…
– Всех. – Ли качает головой. – Эти дети незаменимы. На земле еще никогда не было ничего подобного. Их место здесь, где их можно изучать. Мониторить. Управлять ими. Помещая их в непредсказуемый мир, мы буквально напрашиваемся на проблемы.
– План тщательно разработан и имеет максимальные шансы на успех.
– Это называется «тщательно разработан»? Поместить половину каждой пары в гражданскую семью – это, по-вашему, тщательно? Да, вторую половину будут растить наши люди, но этого недостаточно. Нашим инвестициям нужен контроль получше.
Рид прекрасно знает, что они делают: он лично разработал протокол. Ему с трудом удается не нахмуриться.
– Я и не знал, что инвестиции «наши», – говорит он.
Ли пренебрежительно отмахивается.
– Вы знаете, что я имею в виду.
– Да? Неужели? Мы это уже проходили. Чтобы дети научились использовать свои способности, необходимо внести в их жизнь определенную долю случайности. Мы точно знаем, что строгие лабораторные условия не подходят.
Кроме того, воспитывать их в лаборатории рискованно – они могут слишком рано узнать слишком много. Знание – сила, а в случае с этими кукушатами особенно. Если держать их в неведении, они будут послушны, а ему ох как нужно, чтобы они были послушны. Послушными гораздо легче управлять.
– Давайте оставим здесь хотя бы одну пару. Самую последнюю. Они маленькие и будут знать о мире только то, что мы им покажем. Мы можем растить их в отдельных боксах, контролировать все, что они видят и слышат. Мы пробовали держать в абсолютной изоляции пару, но не пробовали изолировать их по отдельности.
– Это их сломает.
Она пожимает плечами.
– Иногда что-то лучше сломать.
«Например, тебя», – думает он, а вслух говорит:
– Здесь моя воля – закон, Ли.
– Но…
– Моя воля – закон.
Рука летит вперед, хватает ее за горло, впечатывает в стену. Глаза Ли сверкают злобным восторгом. Именно этого она хотела: подтверждения, что он высший хищник, что он заслужил свое место на вершине их крошечной иерархии. Как же он устал от насилия. Как же хорошо он понимает, что без него не обойтись.
– Ты поняла?
– Да, – шепчет она.
– Да – что?
– Да, сэр.
– Хорошая девочка. – Он разжимает пальцы, убирает руку и поправляет воротник. – Верь в меня, Ли. Больше я ничего не прошу. Верь в меня, и я приведу тебя к свету.
– И свет поведет нас, – подхватывает Ли, так опустив голову, что подбородок практически касается грудины.
– Мы идем правильным путем. – Рид кладет руку ей на плечо.
Но, как только он касается ее тела, раздается сигнал тревоги.
Они напрягаются и синхронно вскидывают головы, сканируя лабораторию в поисках того, что пошло не так. Вокруг них суетятся технологи, до этого старательно не замечавшие их ссору: проверяют оборудование, вызывают на экраны химические показатели. Рид первым стряхивает оцепенение. Он отдергивает руку и бежит в свою личную лабораторию. Дверь закрыта, и он открывает ее взмахом карты, которую носит на шнурке на шее.
Половину огромного помещения занимает бесконечно вращающаяся астролябия. Рид застывает на пороге. Ли, подбежав, замирает позади него, и оба смотрят на астролябию.
Танец планет, выверенный рукой мастера, точно отражает все, что происходит на небесах. Асфодель вложила годы в этот впечатляющий механизм. Она считала его ключевым компонентом своего наследия и в качестве последнего, завершающего штриха вывела астролябию за пределы времени, с тем чтобы однажды использовать ее для составления графиков движения Доктрины. Рид с большим удовольствием запер астролябию, спрятав ее от посторонних глаз, и использовал составляемые ею механические гороскопы только для своих целей. Это настоящее чудо технической алхимии. Только невероятное, недопустимое злоупотребление силами природы могло бы повредить эту махину из золота, меди и драгоценных камней…
А сейчас она пустилась вспять.
Рид медленно улыбается.
– Видишь? – говорит он. – Нам не нужно ждать, чтобы узнать, сработает ли наш план. Мы справились. Все эти старые дураки, считавшие, что смогут управлять миром: Бейкер, Гамильтон, По, Твен, даже проклятый Лавкрафт, чтоб его, – остались с носом, а мы преуспели. Кто-то из наших детей, точнее, какая-то пара наших умников-разумников только что перезапустила свою временную линию. План сработал. – Он, сияя, поворачивается к ней. – Мы будем править миром.
Ли, по-птичьи склонив голову набок, доводит его слова до логического завершения:
– Значит, банкиры нам больше не нужны?
Когда держишь хищников на поводке, важно время от времени давать им порезвиться.
– Да, – кивает Рид. – Но сначала убедись, что они понимают, почему мы разрываем соглашение. Понимание всегда идет на пользу делу.
Ли расплывается в улыбке, такой же сияющей и открытой, как ворота в конце невероятной дороги. В этот момент она скорее ужасна, чем прекрасна, и Рид в очередной раз удивляется, как создавший ее алхимик мог упустить такие тревожные признаки.
– Сегодня ночью все будет сделано, – говорит Ли.
– Хорошо. У меня дела в Конгрессе. Все идет точно по плану. – Он прижимается лбом к окну; его улыбка сдержаннее и спокойнее, чем у Ли. – Невозможный город будет нашим.
За его спиной астролябия Асфодель Бейкер продолжает плавно вращаться, и все это уже случалось прежде.
Невероятная дорога
Человек, которого зовут не мистер Смит, просыпается в темной тихой комнате с чувством, что происходит что-то ужасно неправильное. Сбоку под одеялом привычно проступает фигура жены. В воздухе висит незнакомый животный запах – медный, тяжелый.
Здесь есть кто-то еще.
Мысль еще не успела сформироваться, как над ним уже нависает другая фигура, ухмыляясь так, что можно пересчитать все зубы. И хотя они белые и идеально ровные, почему-то все время кажется, что с ними что-то не так, что они как-то не подходят друг другу, что этот набор зубов не может принадлежать одной челюсти, одной ужасающей улыбке.
– Добрый вечер, сэр, – произносит фигура.
Теперь он узнал ее. Это женщина Рида, его ручная сладкая штучка, которая вечно хмурится и во время встреч с Ридом входит и выходит с таким видом, будто имеет на это право. Ли. Вот как ее зовут. Она никогда не подходила к нему так близко.
Ее глаза… С ее глазами что-то не так. Как и ее улыбка, они идеальны и в то же время невыразимо неправильны.
– Не двигайся, это бесполезно, – говорит Ли.
И человек, чье имя не мистер Смит, вздрагивает, вернее, пытается вздрогнуть. Команда не доходит до его конечностей. Он не в силах пошевелиться, а она продолжает улыбаться.
– Мужчины, – говорит она. – Глупые-глупые мужчины. Вы хотите править миром, но ни разу не задумались над тем, что это значит, не так ли? Можно было задаться вопросом, что такое алхимия на самом деле, что можно сделать с ее помощью, но тебя волновало только то, что она может тебе дать. Поздравляю. Она дала тебя мне.
Теперь он узнал этот запах. Странно, что он не узнал его сразу; может быть, все дело в том, что он просто не хотел узнавать запах крови, не хотел спрашивать себя, откуда здесь кровь.
Его жена совершенно неподвижна, и он ужасно боится своей догадки.
– Рид отдал тебя мне, – сообщает Ли. – Видишь ли, мы достигли этапа, на котором в инвесторах больше нет необходимости. Но я считаю, что ты можешь еще раз – последний раз – принести пользу нашему проекту, поэтому я собираюсь рассказать тебе историю. Слова – это сила. Твоя ценность будет выше, если ты поймешь, почему должен умереть. Это похоже на… гомеопатию для души. Твоя плоть сохранит память обо всем, что я расскажу, и ее будет проще использовать. Тебе удобно?
Он не может говорить. Не может ответить. Только в ужасе закатывает глаза. Судя по тому, как смягчается ее улыбка, она заранее знала, что все будет именно так.
– Отлично, – говорит она. У нее в руке нож. Откуда взялся нож? Он ведь даже не заметил никакого движения. – Я расскажу тебе о женщине, у которой было слишком много идей, и о мужчине, которого она создала, чтобы их воплотить. Ты, конечно, слышал об А. Деборе Бейкер. Все слышали об А. Деборе Бейкер.
Нож нож господи нож, а он не может закричать, не может пошевелиться, а потом она берет его за руку, и он чувствует, как к его коже липнет кровь жены. Боль отчетливая, острая, и утешает в этой ситуации только одно: он не может повернуть голову и увидеть, что она пишет, медленно, разрез за разрезом.
– Она написала серию детских книжек про место под названием Под-и-Над. Я знаю, твои дети читали их. Я видела книжную полку в комнате Эмили, когда зашла навестить ее.
Никогда в жизни ему так сильно не хотелось закричать.
– До своей смерти Бейкер успела написать четырнадцать книг. На их основе вышло шесть фильмов, четыре из них были сняты уже после того, как она превратилась в прах и пепел. Она оставила культурный след по всему миру. А. Дебору Бейкер и ее прелестных созданий, милого Эйвери и смелую Циб, знает каждый. Но знаешь ли ты, что, выписав первый чек, ты стал одним из ее послушников?
Голос течет плавно, даже убаюкивающе. Можно уловить ритм, будто она нашептывает что-то маленькому ребенку, чтобы тот уснул. И если бы не боль, если бы не тело жены рядом, если бы не тела детей, лежащие в соседних комнатах (всех троих, господи, он знает, что она убила всех троих, потому что такие женщины не оставляют живых свидетелей, и почему он не может пошевелиться), это было бы почти приятно.
– Ее настоящее имя – Асфодель. Вот что значит буква «А». Она была величайшим американским алхимиком. Чему ты так удивляешься? Если хочешь спрятать свое учение на самом виду, лучше всего зашифровать его в чем-то таком, что полюбят дети по всему миру. Понимаешь? Она склонила несколько поколений к своему образу мысли. Она изменила сам принцип работы алхимии. Алхимия – это нечто среднее между магией и наукой. Она дает воспроизводимые результаты, но только если люди искренне верят, что все сработает именно так. Асфодель Бейкер создала новый мир, переписав существующий. Она вдохнула жизнь в умирающую дисциплину, и Конгресс возненавидел ее за это, потому что она достигла такого величия, о котором они не смели даже мечтать. Жалкие глупцы. Они до сих пор ее ненавидят, хотя уже не застали ее лично и знакомы только с ее наследием. Но скоро они за это заплатят. И заплатят сполна.
Боль настолько сильная, что поглощает мир. Эта женщина отрезает от него по кусочку, а он не может бороться, не может защититься, и он не смог спасти свою семью.
– Она создала Рида, доказав, что может собрать жизнь из частей. А создав, поручила ему сделать то, что не смогла сама: закончить дело, которое только-только успела начать. И вот – ее больше нет, а он все еще жив. Он попросил меня поблагодарить тебя за поддержку, за то, что ты помог ему продвинуться так далеко. Но в твоих услугах больше нет необходимости. Ты дошел до конца невероятной дороги.
Нож поднимается снова и снова, поднимается, пока человека, чье имя не Смит, не покидает сознание, а следом и жизнь.
Ли Барроу сидит на залитой кровью кровати мертвого человека. Постепенно ее улыбка исчезает, она наклоняется вперед. Начинается настоящая работа. Нужно многое собрать, а до рассвета осталось всего несколько часов.
Невероятная дорога ведет вперед, все дальше и дальше, и путешествие продолжается.
Невозможный город
Рид уже много лет не чувствовал себя так хорошо.
Ли благополучно вернулась в комплекс, вся в мыле после встреч с узколобыми дураками, которые, хочется верить, после смерти будут полезнее, чем при жизни; три пары кукушат разделены, каждый ребенок доставлен в новый дом, и все они будут расти в обычном мире с обычными родителями.
(Тот факт, что три из этих якобы «обычных» семей принадлежат ему телом и душой, не играет особой роли. Все они неудавшиеся алхимики, ученые, у которых было желание, но не хватило умения служить ему напрямую. Они будут изображать любовников – может быть, некоторые действительно друг друга полюбят – и преданно и заботливо растить плоды его экспериментов. Они ученые. Перед ними поставлена задача. Неудача – не вариант; в случае неудачи их тела отдадут на милость Ли, а те, кто хоть раз с ней встречался, никогда не пойдут на такой риск. Они почти у цели. Невозможный город будет принадлежать ему.)
Машина останавливается. Прежде чем открыть дверь, Рид поправляет воротничок рубашки. На месте сапфировых тонов и притягивающих взгляд рун теперь простая траурно-черная рубашка с воротником-стойкой, в которой он похож чуть ли не на священника. В отличие от его покойных инвесторов, Конгресс невосприимчив к красочным эффектам. С ними нужно обращаться более… деликатно.
(Асфодель перед смертью: Асфодель, словно феникс, вот-вот вспыхнет от силы собственного разочарования. «Они так уверены, что знают, что возможно, а что нет, что сами связали себе руки», – рычит она, и он может купаться в ее ярости вечно, он готов помочь ей разрушить основы самого мироздания, если она пожелает. Она – единственная, кого он любит, единственная, кому он подчиняется, и единственная, о ком он будет горевать, потому что оба они знают, что ждет их в следующей главе их жизни. Они оба знают, что держать нож придется именно ему.)
Рид ступает в зал, звуки его шагов гулко отдаются в застоявшемся воздухе. Как он и предполагал, его уже ждут.
Местные думают, что здесь какая-то церковь, хотя никто не может точно назвать конфессию или припомнить тех, кто приходит сюда на службы. Но форма у здания подходящая, и, когда местные проезжают мимо воскресным утром, на лужайке всегда стоят люди, одетые в строгие костюмы и скромные платья. Что это, если не церковь?
Иногда проще всего спрятать что-то на самом виду. Какая опасность может таиться в том, что так легко обнаружить?
Его встречают четверо. Рид внимательно их изучает, на губах у него улыбка, в сердце – желание убивать.
– Вижу, вы уже слышали новости, – говорит он. – А я шел сюда, полагая, что сообщу магистру Дэниелсу нечто, что может его удивить.
– Магистр Дэниелс не станет тратить свое драгоценное время на таких, как ты, – отвечает один из них, бледный шепелявый человек с тонкими, едва заметными бровями.
– Я член Конгресса, не так ли? – Рид продолжает улыбаться, размышляя, отсутствуют ли у него брови от рождения или это результат неудачного эксперимента. В любом случае немного косметики – и вопрос с тусклым неестественным внешним видом был бы решен. – И имею такое же право предстать перед нашим главой, как любой из вас.
– Ты ступил на опасную почву, – говорит плотный солидный мужчина в темно-сером костюме, похожий на бизнесмена. – Нельзя вмешиваться в естественное состояние Доктрины. Неужели смерть твоей наставницы ничему тебя не научила?
Рид все так же невозмутимо улыбается.
– Ты не имеешь права говорить о той, чье сердце вы разбили и чьи исследования презираете, хотя не стесняетесь пользоваться ими в своих интересах. Или ты сохранил юношескую стройность не благодаря ее эликсиру жизни?
Мужчина краснеет и отворачивается. Рид делает шаг вперед.
– Я поговорю с магистром Дэниелсом. Я сообщу ему, что воплотил Доктрину и даю Конгрессу последний шанс обеспечить мне положение и статус соответственно моим достижениям. Если мне откажут, я уйду от вас навсегда, но, когда движущие силы вселенной окажутся в моих руках, вы останетесь ни с чем. Я достаточно ясно выразился?
– Ты, как всегда, выражаешься абсолютно ясно, Джеймс.
Рид поворачивается.
Когда Асфодель Бейкер была молода, магистр Дэниелс уже был стариком: несмотря на то что ее достижения смогли продлить ему жизнь, они не смогли повернуть время вспять. Сейчас он стар, бесконечно стар, и входит в ризницу церкви, которая вовсе не церковь, с задумчивой неспешностью человека, для которого дни, когда ему нужно было куда-то спешить, остались далеко позади. В отличие от остальных, одетых в строгие костюмы, на нем красная мантия магистра – одеяние на все времена и одновременно старомодное.
Если кто из Конгресса и понимает, как Асфодель, что значит произвести эффект, так это Артур Дэниелс. При виде этого человека улыбка Рида становится искренней. Пусть они находятся по разные стороны баррикад, но у этого соперника, по крайней мере, есть шарм.
(Асфодель перед смертью: Асфодель, словно кающаяся грешница со склоненной головой, распростерта на полу и умоляет своего учителя понять, над чем она трудилась денно и нощно. Асфодель – глаза ее полны слез – молит этого старого дурака выслушать ее, перестать видеть в ней только округлые формы и юное лицо и услышать ее, потому что разве алхимия не учит использовать каждую из мириадов частиц всего сущего для создания лучшего мира? А отказ женщинам в праве входить в высшие эшелоны Конгресса только ограничивает их, заведомо преуменьшая то, чего они могут достичь. Но Дэниелс, старый дурак, отворачивается.)
– Так это правда? – спрашивает Дэниелс, делая осторожный шаг навстречу Риду. – Ты преуспел?
– Доктрина живет, – отвечает Рид. – Она уже ходит среди нас, запертая в человеческом теле, податливая, молодая и глупая. Мой день настанет. Я могу быть вашим другом или врагом, но я ее получу.
– Ты полагаешь, что сможешь ее контролировать? Силу настолько грандиозную, что она может изменить само течение времени?
– Полагаю, я уже ее контролирую.
Астролябия, вращение, перезапуск – о да, он будет ее контролировать.
Вселенная в его власти.
Некоторое время Дэниелс молча смотрит на него, затем склоняет голову в знак признания.
– Что ж, тогда добро пожаловать домой, алхимик, тебе предстоит многому нас научить.
Остальные выглядят встревоженно, не в силах поверить в происходящее. Рид улыбается и, быстрым шагом пройдя через ризницу, преклоняет колени перед старейшим алхимиком. Когда рука Дэниелса гладит его по голове, ему кажется, будто его касаются пальцы мумии, древние, как пергамент, источающий могильный запах бальзамических масел.
– Верь в наше дело, и мы поведем тебя к свету, – говорит Дэниелс.
(Асфодель перед смертью, истекающая кровью на полу: на лице выражение странного торжества, будто она всегда знала, какой ее ждет конец, будто она ждала его. Будто, проиграв, она каким-то образом выиграла. Это злит его, но уже слишком поздно. Она ушла, ушла, и, если это была ее победа, она унесла ее с собой в могилу.)
– И свет приведет меня домой, – подхватывает Рид.
Он склонил голову, но втайне он ликует.
Он знает, что, когда они догадаются, будет уже слишком поздно, и Асфодель, которая из-за этих узколобых дураков, стоящих сейчас вокруг него, была вынуждена создать его, своего убийцу, будет отомщена.
Остается только ждать – и его кукушата расправят крылья, и вселенная будет в его руках.
Астролябия
В кабинете никого; астролябия Асфодель продолжает вращаться. Планеты скользят по раз и навсегда установленным орбитам; звезды из драгоценных камней вычерчивают траектории, точные, как на самих небесах. Они совершают оборот за оборотом, кружатся, порой проходя всего в нескольких миллиметрах друг от друга, но все же не сталкиваясь, и кажется невозможным, что нечто настолько замысловатое, не связанное с реальным космосом, может существовать в физическом пространстве. Заглянув внутрь этого механизма, можно увидеть само время: дюйм за дюймом, день за днем он моделирует его, преобразуя в соответствии с ограниченным человеческим восприятием.
Когда астролябия замирает, пусть даже на мгновение, мироздание сотрясается. Когда она снова приходит в движение, время возобновляет свой ход.
Пока росток набирает силу, проходит слишком много дней, чтобы описывать каждый из них, поэтому астролябия вращается, круг за кругом, быстрее и быстрее; но вот семь лет позади, и Доктрина, распределенная между шестью телами, шестью потенциальными носителями, разбитыми на пары, в каждой из которых двое детей так далеко друг от друга, насколько позволяет география страны, – Доктрина становится достаточно зрелой, чтобы заявить о себе.
Невозможный город близко.
Девочка была ужасно бледной, в волосах и между пальцев босых ног запутались водоросли. Она вся блестела, переливаясь серебром, будто ее обсыпали блестками и отправили посмотреть, что творится на свете.
– Что ты такое? – спросила Циб, от восторга забыв про манеры.
Эйвери ткнул ее локтем в бок, но поздно – вопрос уже прозвучал.
– Меня зовут Нив, – ответила девочка. – Я живу в городе, что лежит в глубинах озера, и там так холодно, что лед тает раз в сто лет.
– Люди не живут в озерах, – сказал Эйвери. – Там нет воздуха. Только вода. Люди не умеют дышать водой.
– Да, но, видишь ли, там, откуда я родом, люди вообще не дышат. – Нив улыбнулась, показав жемчужно-белые зубы. – И только когда тает лед, мы поднимаемся на поверхность и смотрим, как живут другие люди. Но, когда я была на берегу и собирала камушки, налетела буря, появилась Паж застывших вод, схватила меня и отнесла Королю кубков. Он очень жесток, и он так долго держал меня при себе, что лед накрепко застыл, и теперь до следующей оттепели я просто утонувшая девочка без своего города.
– Сто лет – это так долго, – сказал Эйвери. Он постарался особо не задумываться о том, отчего так блестит ее кожа, или о том, что, по ее словам, там, где она живет, люди не дышат. Наверняка она пошутила. – Не будешь ли ты к тому времени слишком стара, чтобы плавать?
– Конечно нет. Когда я дома – я не дышу, когда я здесь – я не старею. Так что я точно смогу вернуться, нужно только не упустить момент.
Но Циб казалось, что есть вопрос поважнее:
– А кто такая Паж застывших вод?
Нив нахмурилась.
– Это самая ужасная из подданных Короля, потому что она одновременно любит его и ненавидит, и она делает все, чтобы ему угодить. Она повелевает ворóнами, и они выполняют все ее приказы. Она собирает для своего Короля все диковинки, которые попадают в Под-и-Над. Будьте осторожны, не то и вы попадетесь ей в руки.
Эйвери и Циб обменялись взглядами и встали поближе друг к другу. Они неожиданно испугались этой девочки в блестках и всего того, что могло последовать за их знакомством.
А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»
Книга II
Доктрина созревает
Приходится смиренно признать, что изобретения создаются не из пустоты, а из хаоса.
Мэри Шелли
Язык есть наиболее массовое и наиболее всеохватывающее из известных нам искусств, гигантская анонимная подсознательная работа многих поколений. [5]
Эдвард Сепир
Знакомство
– Ты уже сделал домашнее задание?
– Нет, – отвечает Роджер, пряча книгу под стол, пока мама не заметила. Ей нравится, что он много читает. Ей нравится, что он умный. Он не раз слышал, как мама хвасталась перед подругами своим «маленьким профессором», говоря, что «однажды он изменит мир, вот увидите». Но ей не нравится, если он читает, когда у него еще не сделана домашка, и в последнее время – после нескольких неприятных разговоров с его учительницей – она начала конфисковывать у него книги всякий раз, когда ей кажется, что ради чтения он отлынивает от других занятий.
На самом деле так оно и есть. Эти упражнения он должен был закончить еще час назад. Но в книге как раз было интересное место (в книгах каждое место – интересное), и казалось, что прочитать еще чуть-чуть важнее, чем перемножать дурацкие числа. В отличие от слов, числа в нем не нуждаются. Словам нужно придавать смысл, слова сами по себе ничего не значат – нужен тот, кто их понимает. Числа просто есть. В их мире он неуместен. «Неуместный» – одно из его новых любимых слов.
Роджеру Миддлтону семь лет, и он так влюблен в язык, что в его мире не остается места ничему другому. Он не занимается спортом, не ходит в поисках приключений в ближайший лес; он не мечтает о собаке и не хочет провести выходные в гостях у друзей. Он хочет только читать, вслушиваться, углублять понимание слогов, образующих окружающую его вселенную.
(Мама могла бы поступать гораздо строже. Она забирает у него книги, только когда видит, что он небрежно относится, например, к домашней по математике, но всегда возвращает их обратно, и она никогда не говорила ему: «Тебе это слишком рано». Наоборот, она обеспечивает его книгами в огромных количествах, находит все, что он просит, и, похоже, бесконечно рада видеть, как быстро он учится. Она даже подарила ему несколько книг на других языках, например на испанском, немецком и кантонском, и так смеется, когда он читает ей что-нибудь оттуда! Даже если не понимает ни слова – все равно смеется. Поэтому он уверен, что она им гордится. Наверняка гордится.)
Он смотрит на нее с надеждой и улыбается, и она тает. Это всегда срабатывает.
– Так и быть, мистер, – говорит она, усмехнувшись. – Вернусь через пятнадцать минут. У тебя должно быть сделано не меньше половины упражнений, иначе останешься без книг на два дня. Книги, которые ты прячешь в комоде, заберу тоже.
От такой ужасной перспективы Роджер судорожно вздыхает.
– Да, мэм, – говорит он и ради сохранения своих читательских привилегий принимается за тяжелую работу: склоняется над заданием и карябает ответы карандашом.
Десять минут спустя короткий всплеск продуктивности сходит на нет, и Роджер, уставившись на море чисел и математических знаков, снова размышляет, стоит ли рискнуть и достать из-под стола спрятанную книгу.
– Ответ – шестнадцать, – произносит девчоночий голос.
Нельзя сказать, что голос доносится по воздуху; кажется, будто он исходит из того самого места, где сейчас находится сам Роджер. И это не один из тех голосов, которые порой возникают у него в голове, когда он представляет себя знаменитым писателем, работающим над новой книгой, или прославленным учителем, объясняющим восторженной аудитории определение недавно появившегося слова. Это новый голос, голос извне, и точно не изобретение его собственного воображения.
Роджер напрягается. Голоса из ниоткуда не сулят ничего хорошего. Если ты умный и тихий, ты иногда слышишь, как мама хвастается твоей гениальностью перед подругами. А еще – как учителя говорят ей, что их очень беспокоит, что ты не играешь с другими детьми и предпочитаешь общаться не с людьми, а с книгами. Что, возможно, с тобой что-то… не так. Все это произносится шепотом и только тогда, когда они думают, что он их не слышит, но он слышит.
Он не хочет, чтобы с ним что-то было не так. Поэтому он ничего не говорит. Большинство людей просто уходит, если с ними не разговаривать.
Девочка раздраженно фыркает.
– Ты меня слышишь? Говорю же, шестнадцать, балда. Впиши ответ.
Роджер автоматически повинуется. Ответ возле восьмерки и двойки с маленьким «х» между ними, что означает умножение, выглядит правильным. Но Роджер по-прежнему молчит.
– Я могу за тебя сделать и остальное. Если хочешь.
– Правда? – Он зажимает рот рукой и встревоженно озирается: вдруг мама незаметно прокралась в комнату и услышала, что он разговаривает с пустотой. Понизив голос, он тихонько повторяет: – Правда?
– Конечно. Мне скучно. Можно?
– Ну ладно.
Она сыплет ответами так быстро, что он едва успевает их записывать; порой она опережает его на три-четыре примера, и ей приходится возвращаться. Она ничего не объясняет. Сейчас он не учится: он просто заполняет поля, словно дает ей возможность почесать странную болячку, которая страшно зудит, пока не сделаешь чужую домашнюю работу по математике. И вот они уже закончили, все до последнего примера, включая четыре дополнительных задания со звездочкой в самом низу листа, на которые он раньше даже не смотрел, – и он кладет карандаш и окидывает взглядом графитовые символы, покрывающие страницу.
– Вау!
– Чего? Это же самые простые примеры. Скукота. Лучше бы позанимались матанализом.
Роджер не выдерживает.
– Ты вообще кто? – спрашивает он. – Это какой-то фокус?
– Нет, глупенький, это математика. Математика – не фокус. В математике нет места фокусам. Да, порой возникают сложности, но у любой задачи всегда есть решение. Не то что на этой дурацкой литературе. – В голосе слышится досада. – Лягушки не носят одежду и не водят машину, а если тебя засосет торнадо, то ты станешь трупом и точно не окажешься в не пойми какой стране, а дорога не может быть невероятной. Все это куча тупой лжи для кучи тупых лжецов, но нас все равно заставляют ее учить. Это несправедливо.
Вот в этом-то Роджер разбирается.
– Это не ложь, – говорит он торжественно. – Это метафора, – он произносит это слово с ударением на «о»: «Метафóра». Но никто из них не замечает оплошности. (Много лет спустя, когда одним из его величайших страхов станет страх ошибиться в произношении, он вспомнит этот момент и поморщится, удивляясь, как они вообще смогли подружиться, если он начал знакомство с исковерканного слова.) – Это когда мы используем что-то невзаправдашнее, чтобы говорить о том, что есть на самом деле.
– Если что-то не истина, значит, это ложь.
– Не всегда. – У него не хватает словарного запаса, чтобы объяснить, почему это так: он просто знает, что это так, что иногда вещи служат символами для идей, и с их помощью эти идеи становятся чем-то бóльшим, что иногда неправда – это самая что ни на есть истина. – Я все еще не знаю, кто ты.
– Доджер Чезвич, – чопорно отвечает она. Ему знаком этот тон. Он не раз слышал его из своих собственных уст: так звучит голос самого умного ребенка в школе, когда ему задают бессмысленные вопросы. – Мы рифмуемся. Ро-джер и До-джер.
Роджер так и застывает. Откуда она знает, как его зовут? Она не может знать, как его зовут, разве только она правда внутри его головы, но если она внутри его головы, то с ним что-то не так. А он не хочет, чтобы с ним что-то было не так.
Но она продолжает говорить, поток слов не иссякает, и Роджер с легкостью успокаивается. Она существует на самом деле. Точно существует. Сам он ни за что не смог бы ее вообразить.
– Может быть, из-за того, что мы рифмуемся, я и могу делать твою домашку. Может быть, так у всех детей с именами в рифму. У тебя есть еще?
– Имена?
– Нет, балда. Еще задания.
– Нет, на сегодня все, – говорит он и с тихой радостью обнаруживает, что говорит правду: на пару с голосом в голове они полностью закончили рабочий лист. Более того, все сделано его рукой, поэтому почерк тоже его. Он хмурится. – Получается, я списал?
– Нет.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что я часто спорю с учителями о том, списываю я или нет, и они ни разу не говорили: «Если голос у тебя в голове диктует тебе ответы – это списывание». Поэтому ты не списал.
Этот ответ лишь порождает новые вопросы. У Роджера возникает стойкое ощущение, будто он убегает от настигающей его лавины. Девочка Доджер в его голове – девочка, которой не существует на самом деле, просто не может существовать: голоса в голове не существуют на самом деле – слишком утомляет его и вряд ли годится на роль хорошего воображаемого друга.
– Мне кажется, нам не следует этого делать.
– Да брось. Мне скучно. – В голосе сквозит раздражение. – Эта идиотка Джессика Нельсон на перемене запустила мне в лицо красным мячом, и теперь я должна сидеть в кабинете медсестры, пока мама не заберет меня домой. Я пропускаю математику и танцы, и я осталась без пудинга.
Все это совершенно не согласуется с представлениями Роджера о воображаемых друзьях. Также это не согласуется с тем, что ему доводилось читать о людях, которые слышат голоса. Но ее голос звучит так… так горько, и она помогла ему с домашкой. Поэтому он берет карандаш и чистый лист и говорит:
– Давай я поучу тебя метафорам.
Немного погодя мама, заглянув проверить Роджера, видит, что он, склонившись над бумажным листом, что-то пишет и бормочет себе под нос. Рядом с ним она замечает заполненный рабочий лист и улыбается. Может быть, в конце концов он научится делать то, что ему говорят.
Секунда за секундой в комнату прокрадывается полночь. Роджер сладко спит – ему снятся поезда, плюшевые мишки и таинственно скрипящая дверь кладовки, – как вдруг кто-то трогает его за плечо. Он резко подскакивает и таращит глаза в поисках непрошеного гостя.
Но никого нет.
– О, супер, – говорит знакомый голос. – Ты проснулся. Мне было скучно.
– Кто тут? – Он ошарашенно озирается.
Она вздыхает.
– Ку-ку, это Доджер. Почему в качестве воображаемого друга мне достался тупой мальчик, который не любит математику? Я бы хотела кого-нибудь поинтереснее. Например, слона.
Роджер снова откидывается на подушки и хмуро глядит в потолок. Он проспал около трех часов: светящиеся звезды на потолке уже потускнели. Несколько штук еще светятся, но слабо, будто он глядит на них через толщу воды.
– Я не слон.
– Я знаю. Почему ты спишь?
– Потому что уже полночь.
– Неправда. Сейчас только девять. Папа говорит, что мне надо ложиться спать, иначе я по утрам не в духе. – По голосу Доджер понятно, что это соображение мало ее заботит. – Я не виновата, что просыпаюсь раньше, чем он выпьет свой кофе. Чем занимаешься?
– Сплю, – шипит Роджер. – Я не твой воображаемый друг. Мне завтра рано вставать.
– Мне тоже. И ты точно мой воображаемый друг.
– Это почему?
– Потому что если нет, значит, я разговариваю сама с собой.
В ее голосе звучат знакомые нотки: страх. Она боится того, что это значит – когда человек разговаривает сам с собой. Роджер немного смягчается. Все это не имеет никакого смысла, но, быть может, это не так уж и плохо. Может, даже хорошо: будет с кем пообщаться.
– Как у тебя получается со мной разговаривать?
– Понятия не имею. – Он чувствует, как она пожимает плечами. – Я закрываю глаза, а там ты. Как будто снимаю телефонную трубку. Еще я могу видеть твоими глазами, если постараюсь. Как с математикой. У тебя есть что-нибудь еще?
– Нет. Погоди.
Он встает с кровати. Ноги будто ватные. Разум бодрствует, потому что Доджер не умолкает ни на секунду, но тело не желает просыпаться. Убедившись, что твердо стоит на ногах и может идти, Роджер, шаркая, выходит из комнаты в коридор. Кажется, что дом погружен в тишину, хотя на самом деле внизу на кухне, не переставая, тикают часы; ветка скребет по стеклу в прихожей; ветер свистит, задувая в карнизы. На всем лежит печать сна, и все вокруг кажется странным и непривычным, будто из другого мира.
(Смутно понимая, что то, что с ним происходит, должно казаться невозможным, он осознает, что сейчас для этого самое подходящее время. Два года назад он воспринял бы голоса в голове, помогающие сделать домашнюю работу, как нечто совершенно естественное, и разболтал бы о них всем и каждому, пребывая в блаженном неведении, что о некоторых вещах лучше помалкивать. Через два года, услышав в голове чужой голос, он бы подумал, что сходит с ума, и расшибся бы в лепешку, стараясь от него избавиться. А сейчас – самое подходящее время. Единственная точка на его личной ленте времени, когда подобный контакт может быть установлен безопасно и без психической травмы. Он не знает, откуда он это знает, он просто уверен, что плюс-минус два года – и все было бы совсем по-другому, но ему всего семь, и он принимает свое умозаключение, не задумываясь.)
Дверь в спальню родителей закрыта. Не спит только он. Ну и, конечно, Доджер – хотя она, наверное, не в счет? Она в другом доме, совсем в другом месте. Если вообще существует.
Он проводит рукой по стене, нащупывая знакомые потертости на обоях. Его пальцы прочерчивали их вечер за вечером. Когда он был маленьким, чтобы достать до обоев, приходилось тянуться, и он касался их на уровне ушей. Потом он стал выше, и рука опустилась до уровня плеч. Теперь, чтобы провести пальцами по тому же месту, нужно поднять руку чуть выше пояса. Иногда по утрам, когда он смотрит на эту вытертую полоску на обоях, он думает о том, что будет дальше: что скоро ему придется наклоняться. Что каждый день он понемногу растет, и ничто не вечно.
Большинство знакомых ему детей изо всех сил мчатся навстречу взрослой жизни, вытянув перед собой руки, пытаясь ухватить неизвестное будущее. Роджер хотел бы знать рецепт, как ему упереться пятками и задержаться в настоящем. Хотя бы ненадолго, чтобы лучше понять, что ждет его впереди.
Он нащупывает дверь в ванную, тихонько открывает ее и так же тихо закрывает за собой. Он слышит в своей голове сопение Доджер, быстрые взволнованные вдохи-выдохи девочки, которая понятия не имеет, что происходит, но не боится это выяснить. Она-то не станет медлить, он в этом уверен, наоборот, еще быстрее помчится к золотой финишной черте, к тому моменту, где заканчивается детство и начинается взрослая жизнь – страна под названием «все-что-хочешь».
– Закрой глаза, – говорит он, сам крепко зажмуривается и включает свет. Он настолько яркий, что ударяет по глазам даже сквозь сомкнутые веки. Роджер ждет, пока боль отступит, осторожно открывает глаза и поворачивается к зеркалу.
Роджер Миддлтон – худой и высокий для своего возраста мальчик с копной слишком длинных каштановых волос, которые не желают лежать аккуратно, сколько бы мама ни просила их расчесать. Он бледен – и потому, что редко бывает на улице, и потому, что всякий раз, стоит ему только приблизиться к двери, его обмазывают солнцезащитным кремом. Иногда он думает, не обгореть ли ему просто ради опыта. У него правильные черты лица, симметричные, самые обыкновенные. Это мальчик, который может слиться с любой толпой, если правильно оденется и будет вести себя нужным образом.
У него серые глаза, и чем дольше он на себя смотрит, тем больше они округляются – помимо его воли. И еще он чувствует, как его захватывает удивление Доджер. То, что казалось – по крайней мере, ему – таким логичным шагом, изумляет ее.
– Это ты? – спрашивает она.
В зеркале отражается все, что находится у него за спиной, и теперь он точно знает, что Доджер там нет; он в ванной один, и на нем пижама со шмеледведем и дыркой на правом рукаве. Его губы не двигаются. По крайней мере, пока он молчит.
– Да, это я, – подтверждает он. – Это я. А ты где?
– Я в постели. Родители еще не спят. Они заметят, если я встану. – В ее голосе неподдельное сожаление, похоже, ей не терпится повторить этот трюк для него. – У тебя глаза как у меня. Где ты живешь?
– В Кембридже. – Он не собирается называть свой адрес чужому, незнакомому человеку, но город – не адрес, да и может ли голос в голове действительно считаться чужим? Если ее не существует, это не считается, а если существует (хотя это невозможно; она – просто очень яркий сон, другого и быть не может), то ей не удастся найти его дом только по названию города. – А ты где?
– В Пало-Альто. – Должно быть, ее родители не сильно старались научить ее опасаться чужих людей, потому что она беззаботно продолжает: – Это в Калифорнии. Вот почему у тебя сильно позже, чем здесь. Кембридж – это же в Массачусетсе? Ты очень далеко. Совсем в другом часовом поясе.
– Что такое часовой пояс?
Он слышит, как она оживилась.
– Ты когда-нибудь ронял апельсин в бассейн?
– Чего?
– Он не погружается в воду сразу целиком. Без разницы, с какой силой ты его бросишь, все равно какая-то часть окажется в воде быстрее, чем другая. – Она говорит предельно по сути. Похоже, все на свете можно объяснить с помощью цитрусовых. – Свет – как вода, а Земля – как апельсин. День не наступает во всем мире одновременно. Поэтому между местом, где живешь ты, и местом, где живу я, существует разница во времени. А иначе кому-то пришлось бы вставать посреди ночи и притворяться, будто уже утро, а это вряд ли у них получилось бы.
В этот самый момент Роджер со всей ясностью понимает две вещи: Доджер существует и он хочет, чтобы она стала его другом. Он ухмыляется, и его отражение бодро, несмотря на поздний час, ухмыляется ему в ответ детской беззубой улыбкой.
– Это была почти метафора.
– Что? – ужасается Доджер. Он не знает, как она выглядит, но представляет выражение ее лица – обеспокоенное и очень сердитое, под стать голосу. – Неправда! Возьми свои слова обратно!
– Но это так. Земля – не апельсин, и нельзя бросить планету в бассейн. Ты придумала метафору. И это вовсе не ложь.
– Я… Ты… это… – Она замолкает, несколько секунд возмущенно пыхтит и наконец выдает: – Ты меня разыграл!
Роджер не может ничего с собой поделать. Он смеется, хоть и понимает, что смех может разбудить родителей. Но оно того стоит.
– Ты придумала метафору! Сама придумала метафору!
– Зачем я вообще с тобой разговариваю. Иди спать.
И сразу после этого ощущение, что он в ванной не один, исчезает; теперь он просто смеющийся мальчик в пижаме наедине со своим отражением. Он перестает смеяться. Улыбка гаснет.
– Доджер?
Нет ответа.
– Да брось. Я же просто дурачился.
Ответа все еще нет. Затем приходит мама, сонная и раздраженная, и ведет его обратно в спальню, и он послушно идет за ней, слишком растерянный, чтобы сопротивляться.
Утром он встанет, оденется и пойдет в школу. Сдаст домашнюю работу, включая заполненный рабочий лист по математике. Впервые с тех пор, как они закончили со сложением и вычитанием, он получит высшую отметку. Но все это в будущем, по ту сторону ночного океана, тихо проплывающего мимо. Здесь и сейчас Роджер Миддлтон спит.
Сложение
– Я немного переживала, как вы усвоите эту тему, – говорит мисс Льюис, самая прекрасная женщина в мире, и ее слушает весь класс, даже Марти Дэниелс, который обычно предпочитает читать комиксы под партой. У мисс Льюис смуглая кожа и темно-каштановые волосы, а глаза – будто небо вдали от ночных огней: такие черные, что могли бы оказаться абсолютно любого цвета.
Роджер ужасно в нее влюблен, и ему кажется, что, узнай она об этом, она бы не удивилась, потому что такая красавица, как мисс Льюис, должна понимать, что все вокруг ужасно в нее влюблены. Она живет в ореоле любви, благосклонно улыбаясь каждому, кто встречается ей на пути. Поступать иначе было бы просто жестоко, а жестокость ей совершенно не свойственна. Она лучший учитель второго класса во всей вселенной, и ему повезло, что он ее ученик. Все тесты, которые ему пришлось сдать, чтобы попасть в продвинутый класс, стоили того, потому что в награду он получил мисс Льюис.
И тут он замечает, что у нее в руках, и цепенеет. Обед закончился всего десять минут назад. Когда же она успела проверить домашку по математике?
У него будут проблемы. У него будут проблемы, у него на целую неделю отберут книги, и…
И она кладет перед ним на парту его работу, и на самом верху блестящими чернилами написано «100 %», а рядом нарисован смайлик. Смайлик. Редчайшее из сокровищ мисс Льюис, которое она вручает только за выдающийся прогресс или еще более выдающуюся работу. Он уже получал смайлики за правописание и за небольшие эссе, но никогда – за работу по математике. Никогда – за свою работу по математике.
– Но ты меня удивил, – продолжает мисс Льюис и улыбается, глядя прямо на него. – На этой неделе ты отлично выполнил домашнее задание, просто отлично. Мне кажется, ты теперь знаешь эту тему лучше меня!
Некоторые дети хихикают: разве можно знать тему лучше учителя? Но не Роджер. Теперь он даже не смотрит на мисс Льюис. Его взгляд прикован к оценке, и его желудок сжимается.
Он получил «отлично».
Он получил «отлично», потому что ему помогла Доджер.
Он получил «отлично», потому что ему помогла Доджер, но она исчезла. Или не исчезла.
Она там же, где была всегда, где-то в Калифорнии, до которой так же далеко, как до дурацкой луны. Он не знает ни ее адреса, ни телефона, ни школы, в которую она ходит, – ничего. Он не может ей позвонить и извиниться за свой смех. Не может сказать ей, как сильно он хочет с ней подружиться и как сильно ему нужна помощь с математикой.
Все, что ему остается, – смотреть на это «отлично» и чувствовать себя обманщиком и плохим другом.
На лист падает капля. Он машинально вытирает щеки, едва ли осознавая, что плачет, и поднимает руку.
Мисс Льюис замолкает и смотрит на него.
– Да, Роджер?
– Мисс Льюис, можно я… м-м-м… – Он запинается, щеки горят. Такие просьбы всегда даются тяжело, особенно когда остальные пялятся на тебя и хихикают так, будто сами никогда не пользуются уборной, будто их тела выше этого. Он видел, как на перемене те же самые мальчики, стоя у писсуара, стараются сбить струей муху в полете или соревнуются, кто громче пукнет. Наверное, девочки таким не занимаются. А может, и занимаются. Ведь сейчас они хихикают так же, как мальчики. – Можно я выйду в уборную?
– Можно, – сжалившись, отвечает мисс Льюис.
Будь на его месте другой ученик, она бы посмотрела на часы, стрелки которых показывают пятнадцать минут второго, и напомнила бы ему, что для некоторых дел, чтобы не мешать ходу занятия, существует обеденный перерыв. Но Роджер – тихий мальчик, он мало общается со сверстниками, и математика всегда давалась ему плохо. Если ему нужно время, чтобы осознать, что он в самом деле получил «отлично», она даст ему это время. Она так мало может сделать для самых ранимых учеников, что рада сделать хоть что-то.
Роджер сползает со стула и неуверенно, слегка пошатываясь, идет к двери, стараясь притвориться, будто его совсем не волнует, что на него все смотрят. Он понимает, что мог бы подождать, мог бы досидеть до конца уроков и спокойно попробовать связаться с Доджер из своей комнаты, возможно, даже с тарелкой свежих печенюшек в честь неожиданного «отлично» по математике. Мама печет лучшее в мире печенье, и от одной только мысли о нем – сладком, шоколадном, еще горячем после духовки – ему становится немного легче.
Но медлить нельзя. Это он тоже понимает, даже если ему пока не хватает слов.
Одно из таких слов – «прокрастинировать». Или еще «филонить». (Он узнал их этим летом от отца, когда его родители решили использовать как можно более сложные слова в разговорах, не предназначенных для его ушей. Но вышло не так, как они планировали. Роджеру кажется, что это общая проблема всех взрослых. Чем больше усилий они прилагают, решая, какими будут их дети, что они станут делать и думать, тем реже у них все идет по плану.) Он получил смайлик только потому, что Доджер помогла ему с математикой. Нет, не помогла – она сделала математику за него. А он над ней посмеялся.
Он должен извиниться. Чтобы она поняла, что он не хотел ее расстроить. Поэтому он чуть ли не бежит по коридору – минуя кабинеты (некоторые двери открыты, и, завидев его, ученики поворачивают головы и ухмыляются, думая, что он настолько тупой, что не сообразил сходить в уборную во время обеда, когда никто не обратил бы на это внимания), минуя туалеты, прямо к подсобке. Дверь гостеприимно приоткрыта.
Детям не положено здесь находиться. Он это знает. Но мистер Пол («Я мис-тер Пол, я мо-ю пол!» – так он представляется первоклашкам, слегка пританцовывая, будто под джаз, чтобы их не так пугала перспектива находиться под одной крышей с этой мощной татуированной горой мышц) не возражает, по крайней мере если Роджер не станет ничего трогать без спросу. Как и мисс Льюис, мистер Пол знает, в чем Роджер особенно чувствителен, – что-то из того, что ему известно, сам Роджер узнает только много лет спустя. Мистер Пол знает, что может случиться с ранимыми детьми, если взрослые вовремя не вмешаются. Конечно, то, что он закрывает глаза на несанкционированное использование подсобки в качестве тайного убежища, не избавляет школьников от издевательств и разбитых носов на игровой площадке, но он рад, что может хоть немного облегчить им жизнь (если только Роджер не станет пить отбеливатель или еще что-нибудь в этом духе).
Роджер проскальзывает внутрь; прохладный воздух пахнет цитрусовыми. Сам мистер Пол сейчас моет буфет и вряд ли появится раньше, чем через пятнадцать минут, но Роджер при всем желании не может потратить на «поход в туалет» так много времени, даже если, вернувшись в класс, скажет мисс Льюис, что ходил по-большому. (Мысль об этом – сущий кошмар, и он содрогается от отвращения уже потому, что она всего на секунду пришла ему в голову. Но он должен, должен извиниться.)
– Доджер? – Роджер закрывает глаза, краем сознания отмечая, что именно так делают герои его любимых мультиков, когда пытаются поговорить с кем-то, кого нет рядом. А еще они складывают руки и молятся, но это вообще-то святотатство (одно из его любимых слов), а он не хочет испортить отношения с Иисусом, пытаясь извиниться за то, что повел себя не лучшим образом. – Ты меня слышишь?
И тут мир словно смягчается по краям, и он вдруг видит перед собой тест по правописанию. Роджер потрясен, но в то же время выдыхает с облегчением. В поле его зрения попадает рука, сжимающая карандаш: тонкие пальцы, обкусанные до мяса ногти. Пилочкой Доджер явно не пользуется; на пальцах нет никаких украшений. Только веснушки, рассыпанные по бледной коже, словно бусинки по полу.
– Не обводи, это неправильный ответ, – говорит он, когда карандаш начинает двигаться. – Тебе нужен номер два. Р-О-Б-К-И-Й.
Рука замирает. Движется снова. Обводит правильный ответ. Доджер ничего не говорит – наверное, потому что она на уроке, – но он продолжает быстро диктовать, а она продолжает обводить ответы. Пару раз она выбирает неверные варианты. Оба задания на простую перестановку букв, и Роджер догадывается, что у нее, видимо, с правописанием еще хуже, чем у него с математикой, и отличная оценка вызовет подозрения. А сейчас все выглядит так, будто она просто хорошо подготовилась.
– Боже, какая ты умная, – восхищенно говорит он. – Я бы до такого не додумался.
Доджер поднимает руку, тянет ее изо всех сил, а другое плечо опускает, чтобы казалось, что рука еще выше. Учительница – не такая красивая, как мисс Льюис, и, кажется, даже вполовину не такая приятная – вздыхает.
– Да, мисс Чезвич?
– Я выполнила работу простите мне нужно выйти.
Слова так и вылетают из Доджер; она не запинается и не смущается, несмотря на то что сидящие вокруг дети зажимают рты руками, пытаясь сдержать смех. Роджер изумленно следит за тем, как Доджер обводит взглядом класс – и он вместе с ней, хотя его собственные глаза при этом остаются закрытыми. Сам он не может представить себя таким храбрым.
Учительница Доджер с сомнением смотрит на нее, подходит к ее парте и берет в руки тест. Она пробегает глазами ответы, и ее брови постепенно ползут вверх. Наконец, вернув работу на место, она смотрит на Доджер.
– Очень хорошо, мисс Чезвич. Я приятно удивлена.
– Я правда долго готовилась пожалуйста можно я в уборную? – Доджер слегка кривится для убедительности.
– Можно мне, – поправляет учительница. – Можно, только быстро, туда и обратно. Одна нога здесь, другая там, у фонтанчика не останавливаться. А то через пятнадцать минут будет та же история.
– Спасибо миссис Батлер, – говорит Доджер, продолжая тараторить со скоростью пулеметной очереди, будто объявив личную вендетту знакам препинания. Она встает с места и выходит из класса, очень быстро, пока учительница не передумала, но не срываясь на бег, чтобы не нарушать правила.
Как и Роджер, она проходит мимо туалетов, но, в отличие от Роджера, не останавливается у подсобки, а идет дальше, к библиотеке, и заходит внутрь. Библиотекарша поднимает взгляд, видит Доджер, сочувственно улыбается и не говорит ни слова. Доджер направляется в самый конец зала – прохладный уголок, пропитанный запахом старых книг. Там она опускается на пол, прижимает колени к груди и опускает на них голову, образуя малюсенькое личное пространство, ограниченное ее собственным телом.
– Ты что творишь?! – требовательно спрашивает она. – Я же в школе!
– Я знаю, – говорит он, хотя совсем не подумал об этом, когда отпрашивался из класса. – Сколько на твоих часах?
– Десять, – отвечает она. – У меня почти весь день впереди, а я теперь не смогу сходить в туалет. Миссис Батлер очень-очень сердится, когда кто-то выходит в туалет во время урока.
Слышно, что она воспринимает это как личное оскорбление: как будто любой, кто указывает, когда ей можно ходить по-маленькому, а когда нельзя, совершает преступление против природы.
Роджер начинает понимать, что ей вообще не нравится, когда ей указывают, что делать.
– Прости, – говорит он. – Я не знал, который у тебя час, но очень хотел извиниться.
Доджер замирает, а потом настороженно спрашивает:
– Извиниться за что?
– За то, что смеялся. Я понял, что ты из-за этого расстроилась, а я совсем не хотел тебя огорчать. Поэтому я прошу прощения.
– Ты извиняешься за то, что смеялся надо мной? – Голос Доджер звучит озадаченно. – Все вокруг только и делают, что смеются надо мной. Но никто ни разу не извинился.
– А сколько из них могут вот так с тобой разговаривать у тебя в голове? – хмыкает Роджер. Мама всегда говорит: когда ты улыбаешься, это можно услышать по голосу. Он хочет, чтобы Доджер почувствовала его улыбку. – А вот если бы могли – точно бы потом извинялись.
– Наверное, – говорит она. Недоумение прошло, но она все еще осторожна. – Ты правда извиняешься? И больше не будешь смеяться?
– Я правда извиняюсь. Но смеяться, наверное, буду. Друзьям ведь можно смеяться друг над другом, разве нет?
– Не знаю, – говорит она и меняет тему: – Спасибо, что помог мне с тестом. Ненавижу правописание. Глупый и бессмысленный предмет. Но я должна им заниматься.
– А мне нравится правописание, – говорит Роджер. – Иногда, если поменять местами всего две буквы, получается совершенно другое слово. Я могу помогать тебе с правописанием сколько хочешь, если ты поможешь мне с математикой.
– Договорились, – говорит Доджер.
– Ты здорово придумала – написать пару ответов неправильно. Мне это в голову не пришло.
Доджер пожимает плечами.
– Люди не доверяют тому, что выглядит идеально.
В этом утверждении есть что-то важное. Роджер будет мысленно возвращаться к нему снова и снова, пытаясь найти слабое место. А сейчас, понимая, что времени у них осталось совсем мало, он торопливо спрашивает:
– Как ты узнала, что можешь со мной разговаривать?
– От папы.
Ее ответ ничего не проясняет. После небольшой заминки Роджер говорит:
– Я не понял.
– Они с мамой спорили, почему у меня нет друзей, и боялись, что, может быть, со мной что-то не так, и думали отправить меня куда-нибудь, где я могла бы познакомиться с другими «одаренными» детьми – так говорят, когда не хотят говорить «ненормальными», – и мама сказала, что я это перерасту, а папа сказал, что «к нам даже ночевать никто не приходил, кроме этого ее воображаемого друга». А потом я спросила папу, что он имел в виду, а он мямлил и мялся, но потом все-таки рассказал, что, когда я была маленькой, я все время разговаривала с выдуманным мальчиком по имени Роджер, а потом перестала. Вот так я узнала твое имя. Я подумала, что если тот Роджер был настоящим и я могла с ним разговаривать, а сейчас говорю с тобой, то ты и есть Роджер.
Больше ей ни о чем не нужно рассказывать, потому что Роджер тоже умный, такой же умный, как она, и может сам заполнить все пробелы. Ему это так… знакомо. Она одинока. За ее нахальством, как и за его робостью, прячется одиночество. Он не помнит, что разговаривал с ней, когда был маленьким, но не слишком ли быстро он смирился с тем, что она существует? Когда она стала делать его домашку, он удивился, но не испугался. Как будто они разговаривали раньше: достаточно давно, чтобы сейчас это казалось детской выдумкой, но не слишком давно, потому что какая-то его часть еще помнит, что Доджер – его друг.
Она одинока, но она из тех детей, для которых одиночество становится своеобразным импульсом, заставляющим двигаться вперед семимильными шагами, бесстрашно исследуя все новые способы с ним бороться. Когда отец сказал ей, что у нее был воображаемый друг, у него было имя и он настолько ей нравился, что она разговаривала с ним часами, она попыталась его найти – так же, как и он, когда захотел извиниться. И она нашла его. А он – ее.
– Доджер?
Доджер поднимает голову. Роджер видит ее глазами, что к ним приближается библиотекарша. Это уже немолодая женщина, возможно, даже старше его мамы, и лицо у нее доброе: вокруг глаз тревожные морщинки, а на губах помада мягкого розового оттенка, так что, даже когда ей приходится отчитывать нарушителей тишины, она не выглядит слишком строго.
– С тобой все в порядке?
Доджер молча кивает.
– Все думают, что ты в уборной? – мягко спрашивает женщина.
Доджер уже не раз так делала – убегала и пряталась там, где не нужно было притворяться дерзкой, храброй, какой угодно, где хотя бы несколько минут можно просто побыть самой собой – маленькой испуганной семилетней девочкой.
Доджер снова кивает.
– Если ты сейчас не вернешься обратно, все подумают, что тебе стало плохо, и, когда учительница пойдет проверять уборную, она тебя потеряет. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
Она продолжает говорить очень мягко и осторожно. Роджер подозревает, что все взрослые мира говорят с умными детьми именно таким тоном – как будто перед ними не дети, у которых просто слишком много мозгов по сравнению с большинством ровесников, а гранаты с выдернутой чекой.
– Окей. – Доджер, которая только что сидела вся скрючившись, легко выпрямляется и встает. – Простите.
– Не извиняйся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты же сказала бы мне, если бы у тебя что-то случилось?
Конечно нет. Роджер знает Доджер всего один день – может, и дольше, если ее отец прав и раньше они уже дружили, просто забыли друг друга, – но уже понимает, что она не станет ничего рассказывать другим без крайней необходимости. Она держит свои секреты при себе. Именно так ей удается выжить в мире, в котором она гораздо умнее, чем положено, и гораздо ранимее, чем кажется.
– Конечно, мисс Макнилл, – послушно отвечает Доджер.
– Хорошо. А теперь возвращайся в класс, и, если кто-нибудь спросит, я тебя не видела. – Библиотекарша улыбается.
Доджер улыбается в ответ и бодрой походкой направляется обратно в класс. Роджер на все сто уверен, что она никогда не ходит прогулочным шагом.
У двери в кабинет Доджер останавливается и говорит громким шепотом:
– Сейчас десять. Я выхожу из школы в три. Можешь выйти на связь через шесть часов.
Затем она открывает дверь и, высоко подняв голову, заходит в класс, полный насмешливых, оценивающих взглядов.
Это ее тюрьма, не его. Поэтому Роджер выходит у нее из головы и возвращается в свою собственную – открывает глаза в сумраке подсобки. Он с трудом встает, чувствуя покалывание в онемевших ногах, отряхивает джинсы, чтобы никто не догадался, где он был, и выходит в коридор.
Никогда еще шесть часов не казались ему такими долгими. Роджер смотрит на часы, считая минуты. Когда у нее десять, у него – час, а ужинать его зовут в половине восьмого; значит, у них будет только полчаса, а потом ему придется спуститься вниз и рассказать родителям, как прошел день. Он уже сделал всю домашку, кроме нового задания по математике, которое еще сложнее предыдущего. Хуже того, раз за предыдущее он получил «отлично», теперь все будут ждать, что он и это выполнит хорошо. Может быть, не так хорошо, но…
Он знает много слов. Списывание, плагиат, ложь, ложь, лжец. Он не уверен, что слово «плагиат» можно применить к математическим примерам, а не к словам, но не хочет это выяснять; он не хочет, чтобы мисс Льюис смотрела на него с разочарованием или – еще хуже – с отвращением. Ему нужно подтянуть математику. Нужно, чтобы мисс Льюис продолжала ему улыбаться. Значит, ему нужна эта далекая девочка, с которой у них рифмуются имена, и, кажется, он тоже ей нужен: он мог бы стать для нее проводником в дебрях правописания и литературы. Они с Доджер могут друг другу помочь. Могут сделать друг друга лучше.
Стрелки показывают семь. Роджер Миддлтон закрывает глаза.
– Доджер? – зовет он.
Время идет, а ответа нет. Он не удивлен: с той самой секунды, когда все началось, он подсознательно ждал, что это скоро кончится, и кончится плохо, и это будет еще одним доказательством, что с ним что-то не так и мама не зря о нем беспокоилась.
А затем кто-то другой открывает глаза в чужой комнате, и он смотрит в зеркало, и в нем отражается веснушчатое лицо девочки с точно такими же серыми глазами, как у него. На ней рубашка с бабочками на груди. Доджер улыбается во весь рот, и на лице у нее смесь облегчения, радости и удивления.
Она рыжая. А рубашка желтая. И то и другое так необычно, что он глядит во все глаза, не веря, что ее мир такой яркий.
– Та-да! – говорит Доджер, и Роджер прыскает от удивления: она научилась этому трюку у него. Они уже учатся друг у друга. – Я подумала, ты захочешь меня увидеть.
– Ты когда-нибудь расчесываешься?
Доджер морщит нос.
– Только когда заставляют. Папа говорит, что у девочек должны быть длинные волосы, пока с короткими они похожи на мальчиков, поэтому мне приходится ходить с длинными, хотя я их терпеть не могу. Если бы мне разрешили, я бы тут же постриглась. А то они цепляются за все подряд.
– В смысле – за все подряд?
– За деревья. За кусты ежевики. За чьи-нибудь пальцы.
Ее лицо мрачнеет, как будто на него набежало облако. Роджер научился быть незаметным, чтобы его не задирали. Но Роджер – не девочка с огненно-рыжими волосами (как что-то может быть настолько рыжим?). Он никогда раньше не встречал такого насыщенного цвета – и такой страсти к математике. У нее просто не было шансов «проскользнуть незамеченной» – так подсказывает ему сердце. Ей пришлось пойти иным путем: стать проворной, как шарик ртути, и никогда не стоять на месте, чтобы ее не поймали.
И все же…
– Тебя дергают за волосы?
Его мутит от этой мысли. Девочек нельзя дергать за волосы. Иногда девочки толкаются, тогда их можно толкнуть в ответ, и в этом нет ничего плохого, но дергать их за волосы – мелочно и подло, и так делать нельзя.
– Если бы ты был девочкой, тебя бы тоже дергали, – будничным тоном отвечает она. – К девочкам-заучкам относятся еще хуже, чем к мальчикам-заучкам, потому что все говорят, что нас на самом деле нет, а если есть, то только потому, что мы пытаемся понравиться мальчикам-заучкам. Но ни один из таких мальчиков в нашей школе мне не нравится. Я умнее их всех, так что они относятся ко мне не лучше остальных.
Роджер мрачно кивает, забыв, что его тело находится в Массачусетсе, а ее – в Калифорнии и она не видит, что он с ней соглашается. Все, о чем она говорит, он испытал на себе. Родители и учителя ставят способных детей на пьедестал, а остальной класс собирается у его подножия и швыряет камни, стараясь их сбить. Те, кто говорит, что «словами нельзя ранить», не понимают, что иногда слова – те же камни, тяжелые, опасные камни с острыми краями; и бьют они куда больнее настоящих. Если кто-нибудь на игровой площадке бросает в тебя настоящий камень, остается синяк. Синяки заживают. Но синяки портят жизнь и самим обидчикам – из-за синяков их оставляют после уроков, вызывают в школу не слишком довольных родителей и ведут с ними за закрытыми дверями неприятные разговоры о травле и плохом поведении.
Слова почти никогда не приводят к таким последствиям. Слова можно прошептать быстро-быстро, пока никто не смотрит; они не оставляют ни крови, ни синяков. Слова исчезают бесследно. Вот что делает их такими могущественными. Вот что делает их такими важными.
Вот почему они ранят так сильно.
Доджер отворачивается от зеркала, которое, как он понимает, висит на внутренней стороне дверцы ее шкафа, – первое существенное различие между их комнатами. Стены у нее веселого желтого цвета, почти в тон рубашке. У него стены белые. На полу у обоих ковры, но у него ковер серый, совершенно невзрачный, а у Доджер ковер с ярким контрастным узором из цветов и бабочек, так что от буйства красок аж глазам больно. Бóльшую часть оттенков он видит в первый раз. Если бы у него на полу лежал такой ковер, он не смог бы заснуть. Не смог бы отвести взгляд.
(Пройдет довольно много времени, прежде чем он осознает, насколько много оттенков он впервые в жизни увидел в ее комнате, и начнет догадываться, что это значит.)
У него все стены в книжных полках, и каждая плотно забита всеми бумажками, когда-либо попадавшими ему в руки; у нее полки выше и глубже и завалены плюшевыми игрушками, куклами и прочими атрибутами беззаботного детства. Он удивляется, неужели взрослые – а в ее жизни точно присутствуют взрослые, она упоминала своих родителей, а к родителям обычно прилагаются тетушки с дядюшками и бабушки с дедушками – до сих пор не заметили, какой слой пыли покрывает все эти игрушки, особенно по сравнению с куда более аккуратно расставленными коробками с деревянными геометрическими фигурами, пластмассовыми детальками «Лего» и разными другими конструкторами. В углу комнаты Доджер построила башню из ярко-синих кубиков, и башня эта гораздо выше, чем, по его мнению, должна позволять гравитация.
Доджер смотрит на башню и самодовольно улыбается.
– Я придумала, как правильно расположить детали основания, чтобы конструкция вышла максимально устойчивой, – говорит она. – Думаю, я смогу надстроить еще шесть-семь этажей, прежде чем она развалится. На выходных проверю. Когда закончу, свяжусь с тобой, чтобы ты мог посмотреть.
– Окей, – отвечает Роджер, ощущая священный трепет. Вот бы тоже так уметь… – Гм. Я получил «отлично» по математике.
– Ты уже говорил.
– Я не хочу, чтобы учительница подумала, что я списал.
– Ты не списал, – убежденно говорит Доджер.
Она идет к кровати и садится, одну ногу поджимает, а другой болтает в воздухе. Роджер – только пассажир, не водитель, но он болезненно чувствует все ее движения, как будто кто-то записывает каждое изменение на бумаге, а потом зачитывает описание вслух, но с небольшой задержкой.
– В правилах ничего нет насчет голосов в голове, которые диктуют тебе ответы. Я проверила.
– Мне кажется, правила полагают, что все голоса у тебя в голове – твои собственные, – говорит Роджер.
Доджер пожимает плечами.
– Я не виновата, что правила не учитывают другие возможности.
– Не виновата. – Роджер делает маленькую паузу, а затем продолжает: – Если это не списывание, можешь помочь мне с математикой? Только не просто сделать ее за меня. Ну, то есть как. Мне нравится, когда ты делаешь ее за меня. Но может, ты поможешь мне в ней разобраться? Мне нужно научиться делать домашку самому.
– Если ты поможешь мне с литературой. И с правописанием. – Доджер кривится. – Ненавижу правописание. В нем нет никакой логики.
– Есть, если знать правила, – говорит Роджер. Он готов взлететь от облегчения. Так им станет намного проще, и, если она права насчет того, что это не списывание, в такой договоренности нет ничего плохого. Они могут помочь друг другу. Помочь заполнить пробелы. Он знает подходящие слова: кооперация, симбиоз, взаимовыгода. Слов так много, и он научит ее всем словам на свете – главное, чтобы она оставалась его другом.
– Окей, – говорит Доджер, внезапно смутившись. – Давай так и сделаем.
– Окей, – говорит Роджер и добавляет: – Я должен идти. Мне пора ужинать. Поговорим попозже?
– Окей, – снова говорит Доджер.
Роджер открывает глаза у себя в комнате в Массачусетсе. Мама зовет его к столу. Захватив с собой работу по математике, он спешит вниз – рассказать маме, как прошел день.
Доджер чувствует, как Роджер покидает ее сознание: как будто у нее из уха вынули ватный шарик, и неожиданную пустоту тут же спешит заполнить окружающий мир. Она ложится на спину и закрывает глаза, борясь с желанием позвать его по имени и нырнуть в его жизнь – точно так же, как он только что нырнул в ее. Это трудно. Но в конце концов она побеждает. Ей не привыкать к одиночеству.
Родители Доджер никогда не назвали бы ее одинокой, если бы кто-нибудь их об этом спросил. Конечно, она довольно много времени проводит одна, но у нее есть друзья. Они в этом уверены. Абсолютно уверены. Если бы Доджер когда-нибудь потрудилась объяснить родителям, насколько они заблуждаются, они бы ужаснулись.
Может, ей бы и удалось завести друзей, если бы она, как Роджер, разбиралась в книгах, языках, правописании и всяких таких вещах. Начитанной девочкой быть нормально – настолько, насколько для девочки вообще нормально использовать собственные мозги по назначению. Но иметь способности к математике – не то же самое. Способности к математике бывают только у тощих очкариков с карманными протекторами[7] и тонной научных фактов в голове. По крайней мере, так пишут в книгах. И показывают по телевизору. Об этом ей при каждом удобном случае напоминают одноклассники – например, каждый раз, когда она заканчивает очередной учебник по математике раньше всех. Доджер терпеть не могут даже те мальчики, у которых тоже хорошо с математикой, потому что она умнее, а с таким очень сложно смириться.
Она научилась делать вид, что ей все равно. Она не из тех, кто смешит класс (шутки и остроумные замечания – не ее конек), но при этом она громкая, нахальная и говорит без обиняков. Ее вызывали к директору, потому что она кривлялась и шумела громче половины мальчишек в классе, и так она заработала какое-никакое уважение, но в столовой она все еще сидит одна. Она не нравится своей учительнице, потому что нарушает порядок. А вот библиотекарша ее любит и позволяет ей прятаться в прохладной темноте. Доджер выживет. Она это точно знает. Она выживет – и выживет, победно улыбаясь, потому что Роджер вернулся. Роджер вернулся, он существует на самом деле, и она больше не одинока.
Дверь в ее комнату открывается. Доджер садится, разворачивается лицом к двери и видит маму. Та машет зажатым в руке листочком.
– Это что? – спрашивает мама.
Доджер напрягается.
– Это мое, – отвечает она. – Он лежал у меня в портфеле.
– Портфель ты, как всегда, бросила на лестнице, – говорит мама. – Я его подняла, и из него выпал этот листочек. Девяносто? Серьезно?
– Я готовилась.
Ложь легко слетает с ее губ. Так бывает всегда, когда соврать очень нужно. (Доджер так и не полюбит метафоры – даже после того, как они оба научатся произносить это слово правильно, – и многие годы будет пытаться объяснить Роджеру причины этой нелюбви, чтобы он понял, что врать нужно только тогда, когда это вопрос жизни и смерти, потому что иначе ложь становится менее убедительной, а неубедительная ложь тебя уже не спасет. Она всегда будет врать убедительнее, чем он. А он всегда будет лучше схватывать метафоры. Некоторые вещи настолько глубоко проникают в самую твою суть, что их уже не изменить, как бы ты этого ни хотел.)
– Готовилась? Точно?
Мать внимательно изучает ее лицо. Доджер отвечает честным взглядом: она абсолютно уверена, что ее обман не раскроют. Иногда ей кажется, что то, что ее удочерили, – огромная удача, потому что так проще обманывать родителей. Все ее знакомые утверждают, что родителей трудно обмануть, потому что они вечно говорят что-нибудь вроде «у тебя мамины глаза, а она всегда щурится, когда врет» или «о! щеки покраснели – значит, ты меня обманываешь».
У Доджер глаза свои собственные, не похожие ни на чьи, разве что, может быть, на глаза Роджера…
Ладно, она выдает желаемое за действительное. У нее свои собственные глаза, и сейчас они невинно распахнуты, и в них нет ничего, кроме детского восторга и триумфа.
Наконец мама сдается. Хезер Чезвич работает продавцом-консультантом неполный день (она начинает после того, как посадит Доджер на школьный автобус, а заканчивает так, чтобы вернуться домой за полчаса до нее), но все равно устает, и у нее не хватает энергии на долгое противостояние.
– Я же говорила: постараешься как следует, и все обязательно получится. Так ведь?
– Так, – соглашается Доджер. – Я тебя послушалась, и все получилось.
Она не язвит. Язвить она начнет позже – когда получит от мира больше пинков.
– Отец будет доволен.
Доджер оживляется.
– Папа придет к ужину?
Хезер смотрит, как лицо ее маленькой девочки озаряется надеждой, и где-то глубоко – там, куда никогда не добирается свет, – отмирает еще одна частичка ее души.
– Не думаю, что он сегодня вернется к ужину, милая. У него занятия, – отвечает Хезер, и Доджер тут же мрачнеет. Хезер с трудом выдавливает улыбку. – А сейчас, может, покажешь мне эту самую работу по правописанию?
Доджер показывает ей тест, и время течет дальше.
Фиолетовые звездочки
– Ты уверена, что в Калифорнии вообще бывает февраль? – спрашивает Роджер.
Доджер скользит вниз по насыпи, притормаживая внешней стороной стоп, и ныряет в заросли ежевики в овраге позади дома. Она стирает туфли до дыр; ей приходится менять их в пять раз чаще, чем ему, хотя родители покупают им обувь одного бренда. Еще несколько месяцев назад у них был одинаковый размер, но с тех пор ее рост сильно скакнул уже несколько раз, и ее мама начала задумчиво поглядывать в сторону спортивной обуви, у которой, возможно, будет хотя бы полшанса продержаться дольше одного месяца.
– Календарь утверждает, что да, а календари не врут, – говорит Доджер. При спуске она хватается за колючие ветки, сдирая кожу с ладоней.
Роджер сочувственно морщится, хотя сам не чувствует этой боли – только ее идею. Когда-то они могли ощущать тела друг друга: он мог почувствовать ее прикосновение к своему плечу, а она всегда знала, болит ли у него голова, – но сейчас такое происходит все реже. Он даже благодарен за это. Делиться все же стоит не всем.
Доджер бледнее его (они оба проводят мало времени на солнце, только она как бы играет с солнцем в прятки, а он просто вздыхает, когда оно выходит из-за облаков), поэтому у нее синяки заметнее. Порой она выглядит словно девочка-цветок, раскрашенный белым, фиолетовым и заживающим желтым, и кажется, будто эти поразительные цвета существуют только в Калифорнии. Она только смеется, когда он говорит ей быть аккуратнее. Никого больше не заботит ее содранная кожа, так зачем волноваться ей?
Он знает очень много слов, которыми можно описать очень много вещей. Его словарный запас безмерно вырос, и этому, пусть и косвенно, поспособствовала девочка, в чьей голове он сейчас находится. С тех пор как его баллы по математике начали расти, учителя стали с пониманием относиться к тому, что ему скучно. Обращаться со всесторонне развитым юным гением гораздо проще, чем с ребенком, гениальным только в одном предмете. Последние два года ему разрешается читать сколько угодно и что угодно при условии, что его оценки по всем предметам будут на высоте. Он изучает немецкий, французский и китайский. Он узнал множество новых понятий и слов, чтобы закрепить эти понятия на поверхности своей души, вечной и неизменной. Без слов многое ускользает – невозможно удержать то, что невозможно описать.
Он не знает, как сказать Доджер, чтобы она заботилась о себе. Она его лучший друг, и она знает это, но он не знает, как заставить ее понять, что, причиняя боль себе, она причиняет боль и ему. У него нет слов, чтобы передать ей очертания своего страха, и поэтому иногда он просто ничего не говорит. Хотя молчание для них – не самое естественное состояние. Для Роджера оно и вовсе непривычно и невыносимо, ведь для него слово – и жизнь, и смерть.
Доджер добралась до дна оврага и протискивается сквозь заросли ежевики. Год назад пробираться было легче, и даже полгода назад, до того, как ее бедра стали шире (хотя и не настолько, чтобы это было заметно, пока она не пытается куда-нибудь пролезть), и рубашки на ней сидят по-другому, так что теперь, когда она готовится ко сну, Роджер отворачивается. Он всегда знал, что она девочка и что, если бы она жила в Массачусетсе, их давно бы прозвали женихом и невестой. Он не чувствует к ней ничего такого, и она не чувствует ничего такого к нему; он это знает так же хорошо, как цвет ее волос или форму собственного носа. Но даже если не чувствуешь ничего такого, это не значит, что можно смотреть.
– Ты еще здесь? – спрашивает она, хотя точно знает ответ. Каждый из них отчетливо ощущает присутствие другого, а еще острее – отсутствие. Почти каждую ночь он не спит до тех пор, пока она не ляжет в постель, так что они засыпают вместе, а когда просыпается он, просыпается и она. Они живут с постоянным и непреложным чувством присутствия на периферии сознания. Иногда им приходится прикладывать усилия, чтобы отключиться и разделиться. И все же время от времени ей важно убедиться, что все в порядке.
– Я тут, – отвечает Роджер.
У него заведен будильник: через полчаса он должен спуститься вниз. Сегодня они семьей играют в «Монополию». Он не зовет с собой Доджер, потому что с ней он бы всех их разнес, но это нечестно: одно дело – иметь в голове репетитора и совсем другое – использовать его, чтобы обыграть маму в настолки.
(Мелинда Миддлтон относится к настольным играм крайне серьезно. Она играет в «Кэнди-Лэнд» с той же страстью, с какой иные играют в покер: крепко держит карты в руках, слегка хмурится, поджимает губы. Роджер думает, что вообще-то это забавно, хотя на самом деле ему скорее страшновато.)
– Отлично, – говорит Доджер и, скрестив ноги, садится на землю и кладет рюкзак на колени. Она достает оттуда блокнот, открывает его и смотрит на страницу так, будто что-то на ней читает. На самом деле она показывает свои записи ему.
Бумага испещрена какими-то закорючками, математическими символами и пугающим количеством букв. Чисел практически нет. В этом вся Доджер: она считает, что числа не имеют никакого отношения к настоящей математике. И страшнее всего, что, похоже, она права. Она все еще помогает ему с математикой, но сама уже перешла на университетский уровень – и даже выше.
У нее под кроватью лежат ксерокопии половины материалов справочного отдела местной библиотеки; они поглощают почти все ее карманные деньги. Рядом, вероятно, тоже половина материалов справочного отдела его местной библиотеки, Доджер переписала их от руки в Калифорнии, пока он в Массачусетсе водил глазами по строчкам, не представляя, что они значат.
– Я ничего не понимаю, – говорит он.
– Все нормально. Я и не ждала. – Доджер постукивает по верхней части страницы, где ее рукой выписано уравнение. Недавно она открыла для себя гелевые ручки, и теперь ее математические записи выглядят так, будто на бумагу в виде фигур, символов и непонятных выводов выплеснулась радуга. – Это очень известная задача ученого по имени Монро. За ее решение назначена награда. Ну, целая куча денег. Ее пытаются решить уже шестьдесят лет, и до сих пор никто не смог.
– А ты решила?
– Решила.
Доджер улыбается. На секунду она затихает, на секунду становится безмятежной.
Иногда Роджеру кажется, что такой видит ее только он, и он знает, как ему повезло, хотя было бы здорово, если бы у нее был еще кто-нибудь, кому она могла бы так доверять. Ведь он очень далеко. Они могут никогда не встретиться. Может быть, они вообще живут в разных мирах. Как только ты говоришь: «У меня есть подруга, я общаюсь с ней у себя в голове, я полностью уверен, что она существует, она знает то, чего не знаю я, а это точно значит, что она существует», – уже не так трудно сказать: «Я думаю, она живет в другом измерении». Если с ней когда-нибудь что-то случится, он ничем не сможет ей помочь. Он живо представляет, как звонит в полицию и пытается объяснить, что его воображаемая подруга, которая существует на самом деле, упала и сломала ногу. Скорее всего, его заберут в психушку, причем так быстро, что от него останутся только ботинки – как в мультике.
– Можешь мне рассказать?
– Нет. – В этом нет ничего обидного: просто она знает, что он не поймет, так же как он знает, что она не поняла бы, если бы он взялся объяснять этимологию какого-нибудь слова, хотя они оба его используют. Они бережно относятся к пределам друг друга, то есть прежде всего знают, где эти пределы находятся. – Но если я подам заявку и покажу свои расчеты… – Ее пальцы скользят по странице, как водомерки по поверхности пруда, – одновременно нерешительно и по-хозяйски.
– То награду дадут тебе?
Доджер довольно улыбается. Он чувствует ее улыбку.
– Должны дать. Я решила задачу, а по правилам любой может принять участие, если решит задачу и подаст заявку на рассмотрение. Это куча денег, Роджер.
– И сколько?
– Десять тысяч долларов.
На мгновение Роджер теряет дар речи, пораженный этой цифрой. Десять тысяч долларов – это куча книг, куча ксерокопий; о такой сумме даже взрослые только мечтают. У Доджер может появиться домашний компьютер – такая дорогущая машина, которая считает быстрее калькулятора и даже быстрее, чем Доджер; или приборы, которые позволят ей понять, как устроена вселенная (она показывала ему такие в научных каталогах).
– Я подумала, что если подам заявку и получу деньги… Я могла бы сказать, что ты мой друг по переписке. Что мы познакомились в прошлом году в шахматном лагере. Если ты пришлешь мне пару писем, будет понятно, откуда я знаю твой адрес, ну, чтобы не было странно. – Ее голос звучит неожиданно смущенно, как будто она сама не верит, что говорит все это вслух. – Десять тысяч долларов – это куча денег. Держу пари, родители не станут возражать, если часть я потрачу на то, чтобы купить билеты на самолет и съездить навестить друга. Мы могли бы приехать в Кембридж. Я и мои родители. Папа говорит, что на восточном побережье много исторических мест, где он хотел бы побывать, а маме нравится все, что нравится ему, и я бы с тобой встретилась. И ты бы встретился со мной. По-настоящему, не в голове.
Роджер молчит. Он переваривает услышанное. Все это слишком быстро, и что, если он отправит письмо, а оно так и не дойдет? Они уже предполагали, что они живут в разных измерениях и общаются через какую-то червоточину или складку в пространстве. И если они попытаются установить контакт – ведь проще простого, общаясь мысленно, обменяться номерами телефона или адресами, – есть шанс, что их ментальная связь разорвется и они останутся друг без друга.
В последние два года у Роджера стали появляться друзья. Он знает слова, которых от него ждут, и больше не боится кому-то не понравиться, потому что знает, что рядом всегда будет Доджер; если одноклассники скажут, что не хотят тратить на него время, вечное одиночество ему не грозит. Он не уверен, что сохранит это спокойствие, если ее потеряет. А Доджер…
Он не все время у нее в голове. Она ходит в школу, принимает ванну и прочее, как и он; иногда им приходится существовать поодиночке. Но ни разу, возникая у нее в голове, он не заставал ее за разговором, хоть немного похожим на дружеский, и, когда он спрашивал ее об этом, она отмалчивалась. Похоже, кроме него, у нее нет друзей. Это немного пугает.
– Роджер? – шепчет она.
– Ты уверена? – Он качает головой. Она не почувствует этого движения, но оно ему необходимо. Если он откроет глаза, связь разорвется. Он многое научился делать с закрытыми глазами. – Что, если… Помнишь, мы с тобой говорили о червоточинах и всяком таком? Что, если это правда?
– Не думаю, что одно письмо может нарушить квантовую запутанность, – отвечает Доджер. – Если ты его отправишь, а я не получу, мы будем знать, что живем в разных измерениях, и тогда больше пытаться не будем. Разве ты не хочешь встретиться по-настоящему?
Он не хочет. Эта связь между ними – такая странная и хрупкая, и это лучшая вещь в его жизни, но она поражает его и пугает до дрожи. Это ненормально. Доджер не волнует, считают ее нормальной или нет. А Роджера волнует. Ему нравится, когда к нему относятся так же, как к остальным детям, когда считают его просто умным ребенком, а не каким-нибудь уродцем, которому место в цирке. Что, если встреча прервет их ментальную связь, и тогда он снова превратится в однобокого гения, который спорит с профессорами о глагольных временах, но при этом ходит на математику для отстающих? Или если у них получится как в «Звездном пути», где прикосновение к тому, кто может читать твои мысли, делает связь более устойчивой, и они с Доджер уже не смогут отключиться друг от друга?
Он молчал слишком долго. В его поле зрения мелькает рука: Доджер вытирает глаза. Она плачет. Она спросила, хочет ли он с ней встретиться, а он не ответил, и теперь она плачет.
– Додж…
– Забудь. – Она захлопывает блокнот, сминая страницы. На обложке – от края до края – фиолетовыми и серебряными чернилами нарисованы блестящие звездочки: россыпь созвездий; она рисует их, когда нужно чем-нибудь занять руки. И от этого напоминания, что, пока его нет рядом, она все равно есть, что она не его воображаемый друг, о котором можно вспомнить или забыть, становится еще хуже. – Глупая была идея, ясно? Потрачу деньги на «Мир Диснея» или еще что-нибудь такое. Американские горки – та же математика, просто по ним можно кататься.
– Прости.
– Тебе пора, Роджер. Ты же сегодня играешь в настолки с родителями, разве нет? – Она поднимается, снова вытирает глаза. – Может быть, я упрошу папу сыграть со мной в шахматы. Ты все равно не любишь смотреть, как мы играем.
Роджер молчит. Он хорошо изучил, как меняется ее настроение. Когда она так расстроена, до нее не достучаться, и, может быть, сейчас это даже к лучшему – у него есть время придумать, что сказать, чтобы она не плакала. Это не значит, что ему плевать на нее и ее чувства, – он ее любит, как, наверное, любил бы сестру, – но порой лучше ничего не менять и оставить все как есть. Порой, если что-то поменять, это может вывести мир из равновесия.
– Ну? – требовательно спрашивает она.
– Я вернусь к девяти, – говорит он и, открыв глаза, видит потолок собственной спальни.
Вместо яркого калифорнийского полдня – снег за окном и серо-коричневые обои, которые он выбрал для своей комнаты, когда мама в последний раз делала ремонт.
Осторожно приподнявшись, Роджер проверяет, насколько затекло тело. Навещая Доджер, он не покидает свое тело, но все же он связан с ним меньше, чем положено обычному человеку. Он может вовсе забыть о своем теле, если отсутствует слишком долго. Иногда, вернувшись, он обнаруживает, что больше часа неудобно лежал на руке, и она жутко зудит и жжется, пока снова не придет в норму. Он уже не раз прикусывал губу, сдерживая стон, чтобы не привлечь внимание родителей. Мама и так уже начала опасаться, что у него нарколепсия. Ему пришлось сказать, что иногда у него просто болит голова, лишь бы уговорить ее не вести его к врачу.
(Это даже не совсем ложь: иногда у него действительно болит голова, и он не раз обращался к школьной медсестре, так что та охотно подтвердила его родителям, что ничего серьезного нет, просто дети так перегружают свой мозг, что иногда это вызывает боли. Если он просто посреди дня засыпает в темной комнате, беспокоиться не стоит. Роджеру не нравится, как она на него смотрит – с жалостью, как будто он уже практически инвалид и она, не давая отправить его к врачу, пытается спасти остатки его детства, – но родители успокаиваются и больше об этом не думают, и за это он ей благодарен.)
Он все еще сидит на кровати, потирая локоть, когда дверь распахивается и появляется отец. На нем брюки цвета хаки и белая рубашка, будто он только что вернулся из офиса.
– Роджер? – зовет он. – Готов к игре, дружище?
– Да, папа, – отвечает Роджер, улыбаясь во весь рот. Он соскакивает с кровати, ссора с Доджер уже почти забыта. Он вернется к ней позже, а сейчас лучше пусть мозг сам обдумает ситуацию, пока Роджер занимается другими делами. Все будет хорошо. Так всегда бывает. Они с Доджер уже ссорились раньше, и всегда все заканчивалось хорошо. Почему в этот раз должно быть по-другому?
Доджер сидит за кухонным столом, положив перед собой блокнот, и пытается донести до родителей свою мысль. У нее отчаянно горят кончики ушей, а щеки пылают: как бы она ни старалась, всегда находятся идеи, для которых у нее не хватает слов, мысли, которые у нее не получается выразить. И она хочет, чтобы Роджер пришел ей на помощь, и она ненавидит себя за свою слабость, за то, что он ей так нужен; и ненавидит его за то, что его здесь нет.
Отец, нахмурившись, смотрит в ее записи. Он уже несколько лет не вникал в ее «независимые исследования»; как всякий родитель, гордящийся своей дочерью, он с довольным видом прикрепляет к холодильнику ее школьные работы, но это уже точно не математика. Это поэма, написанная на незнакомом для него языке, и, глядя на исписанные листки, он чувствует себя маленьким и ненужным, как будто она ушла расшифровывать вселенную без него.
– Ты точно не скопировала это из какой-нибудь книги в библиотеке? – спрашивает он в третий раз. – Мы не рассердимся. Нет ничего плохого в том, чтобы скопировать что-нибудь чужое для собственных исследований. Плохо, только если ты пытаешься выдать чужое за свое.
Доджер думает о пачках копировальной бумаги у себя под кроватью, выпрямляется и качает головой.
– Нет, папочка, – говорит она. – Я ничего ниоткуда не копировала. Только уравнение наверху, оно написано фиолетовой ручкой. Это задача, которую пытались решить в институте Монро, и я ее решила. Я правда сделала все сама. Если хочешь, можем пойти в университет, и я повторю решение на глазах у какого-нибудь профессора математики.
Она не совсем понимает разницу между учителями и профессорами, за исключением того, что профессора знают гораздо больше учителей. Профессора – как волшебники: они создают вселенную. Если она покажет свое решение им, они точно не станут ее оскорблять, не то что мистер Блэкмор. Тот думает, что девочки не могут быть математиками. Когда он проверяет ее работы, он ни секунды не сомневается, что она списывает. Профессор бы так не подумал, ему бы это даже в голову не пришло.
(Если честно, где-то глубоко-глубоко внутри она вынашивает мечту, что, когда настоящий профессор увидит ее работу, он восхищенно воскликнет: «Эта девочка – гений!» – и заберет ее из начальной школы в университет, где она сможет заниматься математикой сколько захочет, и никто не будет шептаться у нее за спиной, не будет «случайно» бросаться в нее чем-нибудь за обедом, или потешаться над ее именем, или заявлять, что девочки должны любить кукол, а не десятичные дроби. Нужно только добраться до одного из профессорских кабинетов, и тогда для нее наконец откроется будущее.)
– Говоришь, за решение назначена денежная премия? – Питер Чезвич большую часть жизни провел в стенах университета, и идея награды за решение сложной задачи его не удивляет; на него самого раз-другой падала манна небесная, обычно за переводческие проекты или успешную разгадку какой-нибудь тайны прошлого. Он никогда не смотрел в сторону точных наук: математика – не самая сильная его сторона. Каракули в дочкином блокноте (фиолетовой ручкой, о как!) могут быть просто набором символов.
И все же…
И все же он достаточно хорошо знает свою дочь, чтобы понимать, что она всегда будет умнее, чем он, особенно когда дело касается математики. Они живут безбедно: его преподавательской зарплаты и того, что платят Хезер в магазине, достаточно, чтобы не нуждаться в деньгах. Но безбедно – не то же, что богато, и эта премия могла бы кое-что изменить.
Доджер кивает так энергично, что кажется, будто еще чуть-чуть, и голова у нее просто отвалится.
– Десять тысяч долларов, – говорит она и, неожиданно смутившись, добавляет: – Я тут подумала, мы могли бы всей семьей съездить в Кембридж.
– Почему в Кембридж?
– Там живет мой друг по переписке, – отвечает Доджер. Она все еще лучшая лгунья в этом доме: в голосе нет ни крупицы фальши. – Было бы здорово с ним встретиться.
Хезер и Питер обмениваются взглядами. Их девятилетняя дочь рассуждает о том, чтобы полететь на другой конец страны, чтобы встретиться с мальчиком, а они почему-то чувствуют только облегчение. В мире есть кто-то, с кем Доджер хочет повидаться. И это не знаменитый математик и не ведущий научно-популярной передачи. Хотя…
– А сколько лет твоему другу по переписке? – спрашивает Питер. Они стараются контролировать, чем она занята, но, если нужно, она умеет быть такой изворотливой. С нее станется написать какому-нибудь престарелому математику из Гарварда, а потом попытаться устроить так, чтобы родители помогли ей с ним встретиться. Доджер еще слишком мала, и Питер не переживает, что кто-нибудь попытается ей воспользоваться (хотя он считает, что Доджер красивая девочка, и придет день, когда к уже имеющимся страхам добавится еще одна паранойя), но это не значит, что он не против ее переписки с незнакомым взрослым.
– Девять, – отвечает Доджер. – Как и мне.
У них с Роджером не только одинаковые глаза, они и родились в один день. С математической точки зрения это значит, что им было суждено стать друзьями, как двум половинкам одного уравнения, созданным, чтобы дополнять друг друга. Но про день рождения она решает не говорить. Одно дело – решать свои проблемы, и совсем другое – самой их себе создавать. Второе ей дается гораздо лучше первого, но она учится. Учится изо всех сил.
– Если я попрошу кого-нибудь из моих коллег посмотреть на твое решение и если оно будет удостоено этой премии, тогда мы это обсудим, – наконец говорит Питер. – И бóльшую часть премии, если ты ее получишь, нужно будет отложить на учебу в университете.
Поскольку Доджер его дочь, если она поступит в Стэнфорд, за обучение платить не придется. Но нужно учесть остальные расходы: книги, тетради и все прочее, – и это при условии, что она будет жить дома, с ними, а не снимет отдельное жилье. Когда он был молод и еще только мечтал о семье, он и предположить не мог, насколько это дорого – воспитывать умного ребенка.
Но оно того стоит. На лице Доджер расцветает улыбка.
– Я могу встретиться с кем-нибудь из профессоров и поговорить о математике? Правда?
– Если я смогу это устроить, – отвечает Питер. Мысленно он уже рассматривает варианты, перебирает и отсеивает имена. Ему нужен кто-то, кто отнесется к Доджер серьезно, несмотря на ее возраст, кто увидит в ее работе ровно то, что в ней есть, и не позволит предрассудкам о способностях девятилетних девочек повлиять на вердикт. Он закрывает ее блокнот.
– Я его пока заберу, хорошо?
Доджер хочется ответить «нет»; хочется объяснить, что блокнот нужен ей, чтобы спокойно уснуть. Но она закусывает губу и кивает.
Питер улыбается.
– Даже если ты не получишь премию, малышка, я все равно тобой горжусь. Сыграем в шахматы?
– Я расставлю фигуры, – отвечает она, вскакивает со стула и вприпрыжку бежит за доской, бежит в будущее, наполненное профессорами и наградами, в будущее, где она наконец-то встретится с Роджером, и он поймет, что им было предначертано стать лучшими друзьями, друзьями на всю жизнь.
Вечером, добравшись до кровати, она сразу же засыпает. И уже не слышит, как Роджер пытается установить контакт. Она уже слишком далеко.
Изоляция
Девять тридцать утра. Сейчас Доджер должна быть в школе, но отец забрал ее, написав записку с извинениями, и теперь она идет рядом с ним – шагает навстречу другому миру. В отутюженном платье и бледно-розовом свитере она чувствует себя маленькой и неуклюжей. Она сама на себя не похожа: она привыкла одеваться совсем не так, и держаться совсем не так, и вообще… Она – это джинсы, блузки с короткими рукавами, кроссовки и футболки, разбитые коленки… А сейчас Доджер одета будто для похода в церковь на Пасху с бабушкой и дедушкой, на ней даже те же жмущие лакированные туфли. Будто ее нарядили для маскарада. Будто выставляют напоказ.
Но, как ни странно, она рада этому дискомфорту: он притупляет ее благоговение. Отец за руку ведет ее по коридорам Стэнфорда. Она здесь не впервые – он брал ее к себе на работу еще совсем маленькой, и Доджер знает эти коридоры и кампус как свои пять пальцев, – но она ни разу не бывала здесь по делу. Сейчас она собирается показать свою работу настоящему математику, и это даже круче, чем показать ее Бэтмену. Поэтому, хотя ее бесит это платье, бесит, что как раз когда ей нужно показать, чего она стоит, она сама на себя не похожа, – она рада, что на это можно отвлечься. Так ее руки почти не дрожат.
– Не забудь, о чем мы с тобой говорили, Доджер, – говорит отец. – Отвечай на все вопросы, которые задаст профессор, и только на них. Не вздумай болтать о том, до чего ему нет дела.
– Да, папочка.
– Он может попросить тебя посчитать что-нибудь на доске. Если попросит, не бойся и посчитай. Он просто хочет убедиться, что мы его не обманываем.
Ей кажется, что, если профессор Вернон попросит ее что-то посчитать на настоящей университетской доске, она в то же мгновение умрет от счастья. Она будет лежать в гробу, широко улыбаясь, и, возможно, все даже порадуются, что она ушла именно так. По крайней мере, все будут знать, что она умерла счастливой.
– Да, папочка.
– Не перечь ему и не спрашивай о его работе, если он сам об этом не заговорит.
– Да, папочка, – говорит она, и тут оказывается, что они пришли, они правда пришли, они у двери в класс, и человек, похожий на ее дедушку, уже ждет их, снисходительно улыбаясь, как взрослый, готовый увидеть, как ребенок покажет ему весьма впечатляющий фокус. Ноги Доджер вдруг будто наливаются свинцом, но она делает усилие, переставляет их и заходит в класс, навстречу своему будущему.
– Ну? – спрашивает Питер.
Профессор Вернон качает головой. Он напоминает лысеющего страуса – высокий, худой, с непропорционально длинными руками и ногами. Он много кого видел в этих стенах: гениев и глупцов, тех, кому плевать на математику, и тех, кому она необходима как воздух. Каждого он старался научить как можно лучше, поддерживал их всем, чем было нужно. Но такого он не видел никогда.
– Задачи она решает правильно, – отвечает он. – Не пользуется шпаргалками, не пасует перед заданиями, которые видит впервые в жизни. Возможно, в третьем номере она ошиблась, но скажу честно: я бы на всякий случай заглянул в учебник. Если ты говоришь, что она сама решила уравнение Монро, – я готов в это поверить. Она его решила. – Он качает головой. – Никогда не думал, что мне доведется такое увидеть. Тебе нужно перевести ее в класс с углубленным изучением математики.
– Она и так уже там.
– Значит, с еще более углубленным. Ей необходимы наставники, книги… Она гений, Питер. Такие умы, как она, рождаются раз в поколение, и то не факт. Говоришь, она сама узнала о премии?
– Она сначала решила задачу, а потом рассказала нам о премии, – говорит Питер. – Она хочет только одного: потратить часть денег, чтобы съездить в Кембридж повидаться с другом по переписке. Я страшно рад, что она не попросила купить ей пони.
Профессор Вернон на мгновение замирает, а затем спрашивает:
– Кембридж? Неужели?
– Ага… Она утверждает, что познакомилась с этим мальчиком прошлым летом, в шахматном лагере. Думаю, мы разрешим ей поехать. Доджер нелегко завести друзей среди сверстников. Такая поездка может пойти ей на пользу.
Питер не говорит – сейчас это ни к чему, – что, скорее всего, у ее друга по переписке те же проблемы. Поэтому, если свести этих детей вместе, они точно ничего не потеряют, а вот приобрести могут очень многое.
Доджер закончила решать задачки, которые дал ей профессор Вернон. Она поворачивается к ним, на руках и носу у нее следы мела, щеки пылают от гордости и напряжения.
– Проверите? – спрашивает она.
– Пожалуй, проверю, – отвечает профессор Вернон и окидывает взглядом ее вычисления, идеально отображающие тонкий слой бесконечности.
Чуть позже, когда Питер с дочерью уходят, профессор Вернон снова смотрит на доску. Девочка уже гораздо умнее, чем он ожидал. Он годами ждал этого «звонка» – новостей о том, что Доджер сделала что-нибудь из ряда вон выходящее для своего возраста, – но он и представить себе не мог, что это будет что-то настолько неожиданное, настолько судьбоносное. Если бы Питер не упомянул о друге по переписке…
Неважно. Мальчик был упомянут. И профессору Вернону не нужно гадать, с кем переписывается Доджер; он также знает, что ни один из них не написал ни единого письма. Доктрина ищет сама себя. Так происходило во всех итерациях, даже в неудачных – тех, что милосердно удалили из программы. Пара Миддлтон – Чезвич уже находила друг друга, и только благодаря преданной Риду няне алхимики смогли вмешаться, пока не стало слишком поздно.
Конгресс следит за ними, следит неусыпно. Они знают, что воплощенная Доктрина предоставлена самой себе, растет и развивается на свободе: дай им только шанс, и они ей завладеют. Дети пока еще слишком малы, чтобы впутывать их в эти разборки. Им нужно повзрослеть. Им нужно узнать, как много они должны человеку, который их создал.
Девочка телом и душой стремится к поставленным целям, слабое звено – не она. Откровенно говоря, он не хочет, чтобы она оказалась слабым звеном. У нее незаурядный ум. Профессор Вернон хочет побыть в тихой гавани ее благоговения, пока Рид не призовет ее в Невозможный город, где ей уготована роль ручного зверька. Профессор Вернон стал алхимиком, потому что жаждал власти; он стал математиком, потому что полюбил этот предмет. Возможность обучать девочку, которая однажды сама станет законами математики, слишком заманчива, чтобы от нее отказаться. Но вот мальчик…
Любой может научиться читать словарь. На этой стадии половина Доктрины, воплощенная в мальчике, – всего лишь эйдетическая память и любовь к текстам. На него можно надавить. Его можно использовать, чтобы прервать их общение, пока все не зашло слишком далеко – пока половинки не соединились сами по себе. Да.
В конце концов, он ведь защищает саму девочку. На этой стадии развития она еще слишком уязвима, и контакт с мальчиком может опустить ее до его уровня. Чтобы парить, ей нужна свобода.
Наметив план действий и найдя для себя оправдание, профессор Вернон отводит взгляд от доски. Пришла пора сделать звонок.
На проводе
– Ясно, – говорит Рид. – Что ж, ваша верность не останется незамеченной; да, я подумаю о том, чтобы позволить вам быть наставником девочки. Благодарю за вашу преданность.
Он вешает трубку на рычаг, не дожидаясь, когда человек на том конце провода закончит благодарить его, запинаясь от ужаса. Вернон не ожидал, что к телефону подойдет сам Рид, он думал, что сообщит неприятные новости какому-нибудь подмастерью или, еще лучше, лаборанту. Именно из-за таких моментов Рид и старается по возможности всегда быть на другом конце провода. Ничто так не пугает подчиненного, как необходимость общаться с тем, кто действительно может причинить боль.
В висках стучит гнев; в груди бушует непрошеный, неожиданный страх. Схватившись за край стола и опустив голову, он ждет, когда припадок пройдет.
Краем глаза заметив движение, Рид поднимает взгляд и видит девочку. Она немного старше его кукушат, но только немного. Пройдет время, и она сможет сойти за их сверстницу.
Девочка одета в бесформенное ситцевое платье в цветочек, у нее рыжевато-золотистые волосы – в бутылке этот цвет выглядит гораздо лучше, чем на голове. Она смотрит на него испуганно и серьезно. Она боится его, и он это знает. Одного этого достаточно, чтобы его паника рассеялась, по крайней мере частично. Она боится его, и все же она здесь, смотрит на него и ждет.
– В чем дело? – спрашивает он.
– Что-то сломалось, – отвечает она голосом раненого животного, полным боли и страха. – Что-то не так.
Конечно. Девочка из небольшого проекта Ли, второстепенное воплощение простой управляемой силы. Она не первое из таких воплощений и вряд ли будет последним.
– Что сломалось, дитя? – спрашивает он.
Она поднимает дрожащую руку и показывает на стену. Он недоуменно хмурится, но затем замирает. Там, за стеной, – астролябия.
– Она все крутится, и крутится, и крутится, но никак не вернется в правильное положение, – говорит она. – Это больно. Так не должно быть.
– Нет, не должно, – соглашается он и осторожно спрашивает: – Ты знаешь, как ее починить?
Она удивленно открывает рот. Закрывает снова. Наконец качает головой и говорит:
– Она слишком большая. Я не могу увидеть, как далеко уходит поломка.
– Но ее можно починить?
На этот раз она кивает.
Рид улыбается.
– Иди сюда, девочка. – Он протягивает руку.
Ее страх – будто маяк, сияющий свет, на который почти невозможно смотреть, но все-таки она послушно подходит к нему и берет его за руку.
– Куда мы идем? – спрашивает она.
– К твоей создательнице. У меня есть для нее задание.
Он выходит из лаборатории, и девочка молча идет рядом, ее босые ноги неслышно ступают по кафелю. Очаровательная малышка, хотя и диковатая: Ли не хватает простых социальных навыков, необходимых для воспитания детей; кроме того, Ли, как сорока, слишком легко отвлекается на последние достижения алхимиков по части созидания или разрушения. Возможно, пора более активно включиться в жизнь этих второстепенных воплощений. Когда девочка станет старше, а ее создательница наконец станет ему не нужна, иметь под рукой само олицетворение Порядка будет не так уж плохо. В самой идее, что Ли своими руками создала себе преемника, есть что-то приятное и поэтичное.
Да. Об этом стоит подумать.
Ли в своей лаборатории отмеряет алкагест в вольфрамовую колбу, которую держит угрюмый темноволосый мальчик; все его движения кажутся какими-то дергаными. Увидев свою пару, девочка вырывает руку из руки Рида, пересекает комнату и тихонько встает рядом с мальчиком, наблюдая, как драгоценная пожирающая плоть жидкость капля за каплей перетекает из одного сосуда в другой. Рид ничего не говорит. Субординацию важно соблюдать, но алкагесту нет дела до того, главный ты или нет. И достойных, и недостойных он уничтожит одинаково охотно.
Плечи Ли чуть напряжены – и это единственный признак того, что она заметила его присутствие. Закончив начатое, она осторожно ставит контейнер с алкагестом обратно на полку и забирает у мальчика колбу.
– Эрин, Даррен, бегите к себе, – командует она. Их имена образуют несовершенную рифму, лишь слегка неточную, и, конечно, это сделано намеренно: воплощение Хаоса не вынесло бы совершенства. Наконец она смотрит на Рида. – Мне нужно работать, а дети будут мешать.
Девочка – Эрин – хватает мальчика за руку, и они бегут прочь от этих опасных взрослых, подгоняемые инстинктом самосохранения, так быстро, как только способны их маленькие тела.
Рид поднимает бровь.
– Прячешь их от меня?
– Они еще не созрели. Эрин полезна, но Даррен… Он мне сопротивляется. Я могу использовать его только в задачах, сопряженных со смертельной опасностью, потому что он боится, что Эрин останется одна. В остальных случаях он все портит. – Ли ставит колбу в подставку. – Зачем вы пришли?
Дело с кукушатами довольно срочное. Но все же он задает еще один вопрос:
– Они пара, но не связаны, правильно?
– Да, это разные воплощения. Порядок может выжить без Хаоса. Просто будет несчастлив. – Ее глаза темнеют. – А что?
– Если убрать мальчика, девочка созреет быстрее?
Ли медлит пару секунд, прежде чем ответить:
– Возможно. А что?
– Она мне понадобится. И довольно скоро.
– Как скажете. Так зачем вы пришли?
– Третья пара кукушат опять установила контакт.
Ли открывает было рот, чтобы возразить, но Рид жестом останавливает ее.
– Это проверенная информация. Об этом сообщил профессор Вернон, а он все эти годы ждал, когда девочка проявит свой потенциал. Он не стал бы бить ложную тревогу.
Ли хмурится.
– Что вам нужно от меня?
– Исправь это. Пока Конгресс не узнал, что они связались друг с другом с разных концов континента; не хочется потерять эту пару из-за старых дураков, которые не знают, когда нужно держать руки при себе.
– Рано или поздно все равно придется с ними разобраться.
Разобраться с кукушатами или с Конгрессом – неважно, ее слова равно относятся и к тем, и к другим.
– Да. Но сейчас мне нужно, чтобы ты разорвала связь. Причем основательно, так, чтобы им даже в голову не пришло попытаться ее наладить, пока мы не будем готовы.
– А их можно ломать?
Если их разделить, они в самом деле могут сломаться. Придется рискнуть.
– Только в крайнем случае. Начни с Миддлтона. Его родители проследят, чтобы он ходил по струнке, когда поймут, что поставлено на кон. Если это не сработает, можешь навестить девочку.
– Да будет воля ваша, – говорит Ли, склоняя голову.
– Когда вернешься, поговорим насчет… Даррена? Так его зовут?
Ее кивок – образец неприязни.
– Отлично. Возможно, он больше не нужен.
Рид хочет, чтобы девочка, способная наблюдать за движением астролябии, даже не видя ее, созрела как можно скорее. Она ему пригодится.
Если у тебя есть цель, власть и готовность разрушить мир ради этой цели, есть много способов быстро добраться куда угодно. От Огайо до Массачусетса путь неблизкий, но, когда два часа спустя Роджер возвращается из школы, его родители, оба, сидят в гостиной, в руках у них чашки кофе, а на лицах застыло скорбное выражение. Запах кофе почти невыносим. (Годы спустя, когда он будет чувствовать себя неуютно без чашки кофе в руке, а его зубы приобретут желтоватый оттенок, он вспомнит, где все началось: именно тогда кофе стал символом зрелости и авторитета, который нужно было завоевать и присвоить себе. Но все это в далеком будущем, а сейчас он робеет и дрожит.)
В комнате есть еще один человек – незнакомая женщина, невероятно красивая; короткие волосы зачесаны назад, не как у милой библиотекарши, а скорее как у школьного психолога, чья задача – объяснить, почему тебе не дадут того, чего ты, по-твоему, хочешь, и что на самом деле ты вообще этого не хотел. На ней практичный брючный костюм и столь же практичная нитка жемчуга, и он никогда в жизни так не боялся незнакомого человека.
– Роджер.
Мама хочет встать, но рука отца прижимает ее обратно к дивану. Ее лицо побледнело и осунулось; кажется, она плакала.
Сердце Роджера замирает. Он еще очень юн – паника ему неведома. Страх – да, но черед паники придет позже, когда он потеряет эластичность мышления.
– Что-то с дедушкой? – спрашивает он взволнованно. – У него снова был инсульт?
Роджер любит дедушку с бабушкой. Они живут далеко, во Флориде (но не там, где «Мир Диснея», который Роджер считает пустой тратой времени, которого и так мало, чтобы побыть с бабушкой и дедушкой), и он видит их всего дважды в год, но любит яркой, всепоглощающей любовью.
– Нет, сынок, – отвечает отец, указывая на единственный свободный стул в комнате – не на свободное место на диване, где Роджер мог бы прижаться к маме и укрыться от всего, что может причинить ему боль. – Садись.
Сердце снова замирает, и начинает кружиться голова. Может быть, так себя чувствуют люди, когда умирают?
Может быть, это у него сейчас инсульт, и скоро они пожалеют, что так напугали его, – когда у него начнутся судороги, и он перестанет дышать, и губы посинеют, и они осознают, что вот у них был сын, единственный сын, а сейчас он мертв, и все потому, что они его напугали.
На негнущихся ногах он пересекает комнату и садится. Он не знает, куда деть руки, они вдруг сделались огромными и неуклюжими. В конце концов он просто кладет их на колени и, переводя взгляд с отца на мать, ждет, чтобы кто-нибудь объяснил ему, что происходит.
– Роджер, это доктор Барроу, – говорит мама, бросая взгляд на женщину с практичной прической. При этом ее слегка передергивает. Доктор вряд ли это заметила, но доктор не знает Мелинду Миддлтон так хорошо, как Роджер. Он всю жизнь изучал ее лицо и сейчас различает гримасу отвращения так же явственно, как и испуг. – Доктор Барроу пришла, потому что получила тревожный звонок от медсестры из твоей школы. В нашем соглашении с агентством по усыновлению, где мы… где мы тебя нашли, указано, что, если возникает подозрение, что с тобой что-то не так, она имеет право прийти и обсудить это с нами.
– Ради твоей безопасности, – говорит доктор Барроу ядовито-масляным голосом. (Он не помнит этот голос, но знает, точно знает его и боится.) Она поворачивается к Роджеру с легкой участливой улыбкой, но ее глаза не улыбаются. – Здравствуй, Роджер. Приятно познакомиться.
– Здравствуйте, – машинально отвечает он: воспитание берет верх над замешательством. Он настороженно смотрит на нее, ожидая плохих новостей. Он ясно видит, что его родители в ужасе. Его мама очень смелая. А папа – самый смелый из всех, кого он знает. Если они так испугались, значит, случилось что-то по-настоящему плохое.
– Роджер, ты знаешь, что тебя усыновили?
– Да.
– Твои родители когда-нибудь рассказывали тебе об обстоятельствах, при которых это произошло?
– Нет.
– Пожалуйста, не беспокойся, я здесь не для того, чтобы вернуть тебя твоей биологической матери, – такого никогда не случится. Но тебя отдали в эту семью на некоторых условиях. Одно из условий гласит, что, если в какой-то момент появятся признаки того, что твое душевное здоровье под угрозой, мы будем вынуждены забрать тебя из этой семьи и передать в новую. – Доктор Барроу продолжает смотреть на него с фальшивым участием; руки у нее заняты кружкой с кофе.
Его родители прижались друг к другу, их почти что трясет.
– Роджер, нам поступил весьма тревожный звонок. Медсестра из твоей школы утверждает, что ты разговариваешь сам с собой. И это не похоже на игру, в какую часто играют дети, ты в самом деле разговариваешь сам с собой, как будто беседуешь с кем-то, кого нет рядом. Ты хочешь об этом что-нибудь рассказать?
Его мгновенно захлестывает горячий, всепоглощающий ужас. Он не хочет, чтобы его забрали, он даже не подозревал, что такое может случиться. Он здесь счастлив: у него есть своя семья, свои вещи, свой привычный маленький мир. Если он солжет, она сможет доказать, что он лжет: наверняка в школе найдется кто-то, кто видел, как он разговаривал с Доджер. Ложь только подтвердит правоту этой женщины, и его семья будет в опасности. Поэтому единственный вариант – пойти менее привлекательным путем.
– Я не разговаривал сам с собой, – говорит Роджер и видит, что отец расслабился, совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы придать ему уверенности: он на верном пути. Он сосредотачивается на докторе Барроу и торжественно заявляет: – Я говорил с моей подругой Доджер. Она живет в Калифорнии, и мы общаемся через квантовую запутанность. Поэтому я слышу ее голос у себя в голове, а она – мой.
Мама, судорожно всхлипнув, утыкается лбом в папино плечо. Теперь на лице доктора Барроу появилось выражение понимания и, что куда тревожнее, жалости.
– Роджер, солнышко, – говорит она, – что ж ты сразу не сказал. Что ж ты сразу никому не сказал об этой галлюцинации. Ведь взрослые в твоей жизни для того, чтобы о тебе заботиться.
– Пожалуйста, – стонет мама, поднимая голову, – пожалуйста, мы не знали, мы ничего такого не замечали, пожалуйста. Мы ему поможем. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось. Только не забирайте у нас нашего мальчика, пожалуйста.
– Мам? – тонким голосом зовет Роджер.
– Нужно будет провести тесты, – говорит доктор Барроу. – Возможно, его придется ненадолго госпитализировать. Мы бы хотели по возможности избежать длительного лечения, чтобы не подвергать такой блестящий ум, как у вашего мальчика, риску побочных эффектов от нейролептических препаратов.
Раздается еще один стон. Роджер с удивлением и ужасом понимает, что он исходит от папы.
– Но, если Роджер готов работать вместе с нами и избавиться от этой галлюцинации, думаю, забирать ребенка из дома будет нарушением его интересов. – Доктор Барроу вновь переводит острый сверкающий взгляд на Роджера. – Итак, Роджер? Что для тебя важнее – несуществующая девочка или твоя семья?
– Я никуда не хочу уезжать! – Он сам не понимает, как оказался между родителей, но, пулей пролетев через комнату, он вцепился в них так крепко, как никогда в своей жизни ни за что не цеплялся. Здесь его место, здесь его дом, и да, он любит Доджер, но семья важнее, чем лучший друг. Она поймет. Она должна понять. Это несопоставимые величины.
Он поворачивает залитое слезами лицо к доктору Барроу.
– Моя семья. Моя семья важнее всего на свете. Я сделаю все, что вы скажете. Девочка ненастоящая, я просто и-играл и заигрался, мне очень жаль, простите, я больше никогда не буду с ней разговаривать, простите. Не забирайте меня.
Доктор Барроу улыбается.
Откажи мне
Когда Ли возвращается, все еще обряженная в нелепый костюм, надетый, чтобы съездить к Роджеру Миддлтону и заставить его бояться любой тени – тени Рида, – тот уже ее ждет.
– Итак? – требовательно спрашивает он.
– Дело сделано, – отвечает Ли. Она останавливается посреди коридора и смотрит на Рида. – Он не станет снова выходить на контакт. Он слишком напуган. Нам бы стоило забрать его из приемной семьи. Вернуть сюда. Сломать. У этой пары все еще есть потенциал – чертовски большой потенциал, если они без нашей подсказки поняли, как выйти на невероятную дорогу, – но их необходимо направлять. Их необходимо контролировать.
– Звучит так, будто ты сомневаешься в моих решениях, Ли. Ты знаешь, что бывает, когда ты сомневаешься в моих решениях.
Ли хмурится, от нее веет разочарованием.
– Они дети, Рид. Беспокойные. Непредсказуемые. Их нужно заставить повиноваться. – Сама Ли не была ребенком. Женщины, из которых ее собрали, когда-то были детьми, но для существа, составленного из их тел, их воспоминания бледны, призрачны, почти невесомы. – Вы хотите распоряжаться моими детьми. Почему мне нельзя участвовать в воспитании ваших?
– Твое здесь только то, что я позволяю тебе иметь. Ни больше ни меньше, – холодно говорит Рид. – Эти дети никогда не были твоими, Ли, только номинально.
– Я… – Ли делает шаг назад. Она чувствует, что играет с огнем. – Я не так выразилась. Простите.
– Хорошая девочка. – Его улыбка сверкает, как лезвие ножа. – А что до моих кукушат, пока в них еще слишком много реальности. Нам нужно, чтобы они пересекли границу вымысла. Чтобы они превратились в нечто большее. Только тогда они найдут невероятную дорогу и приведут нас в Невозможный город. Разве ты не хочешь попасть в Невозможный город?
Видно, что Ли задели его слова.
– Конечно, хочу.
– Невозможный город станет явью, только если мы восстановим проект Бейкер, – продолжает Рид. Он говорит спокойно, но по глазам видно, что терпение его на исходе. – Когда она описала, как этот город должен быть устроен с алхимической точки зрения, ей не было равных, никто не мог с ней поспорить, и на нее ополчился весь этот чертов Совет. Баум, Лавкрафт, Твен из кожи вон лезли, стараясь переписать ее учение, и преуспели. Мы не можем идти против того, во что все верят. Чтобы изменить мир, нужен рычаг побольше.
– Мы можем обойтись и без…
– Нет.
Это слово – стена. Ли упирается в нее и не может пройти дальше. Рид подходит к ней.
– Мы не можем обойтись без Невозможного города. Город – это ключ. Мы возьмем его и подчиним себе, иначе, даже захватив всю страну, мы будем знать, что в нашей обороне дыра размером с каньон. Город должен стать нашим, иначе все наши труды напрасны, а чтобы войти в город, мы должны изменить правила. Нам необходима Доктрина. Мы сделали очень многое, мы можем получить богатство, власть, бессмертие, но без Невозможного города мы никогда не станем богами. Разве ты не хочешь стать богом?
Ли Барроу – возможно, последнее существо в мире, которому можно доверить божественную силу или позволить менять законы вселенной – вздыхает.
– Хочу.
– Тогда оставь их в покое. Верь мне.
– Мне нужно пустить кому-нибудь кровь.
Рид кивает.
– Да на здоровье.
Ли улыбается.
Шах и мат
Когда их команда по академическому десятиборью получила билеты на игру гроссмейстеров, всем было ясно, что это значимое событие. Им говорили, что это настоящий праздник, спорт для умных, поэтому о том, чтобы отказаться от поездки, не могло быть и речи. Роджеру даже не нравятся шахматы (слишком много чисел, слишком многое зависит от знания типичных позиций), но ему нравятся товарищи по команде, и особенно Элисон О’Нил, которая ходит на углубленную физику и математику, играет в шахматы, а еще иногда опускает глаза и загадочно улыбается ему уголком рта. Элисон в восторге от предстоящей игры еще с тех пор, как куратор только предположил, что им, возможно, удастся поехать, и, поскольку Элисон в восторге, Роджер полагает, что и он сможет найти в себе толику энтузиазма.
Роджеру Миддлтону четырнадцать – будет через две недели, но это, в общем, одно и то же, – и за последние восемнадцать месяцев девочки очень изменились. Или он сам изменился. Он знает подходящие слова: пубертат, гормоны, переходный возраст, – но в этих словах нет и крупицы от того возбуждения, что охватывает его, когда Элисон касается его запястья или когда он улавливает запах ее шампуня. Все меняется. И он как будто не против.
Их места расположены недалеко от входа, в зоне, отведенной для местных гениев из средних и старших классов, которых может вдохновить горстка людей, несколько часов переставляющая фигуры по шахматной доске. Здесь все как на стадионе, только меньше, и организаторы мудро устроили по четыре матча одновременно, каждый в своем секторе арены и со своим комментатором, поясняющим ход игры. Пока они занимают свои места, игра в их секторе – пожилой китаец против юного латиноамериканца – как раз завершается. Мужчина двигает фигуру. Комментатор объявляет «шах и мат», соперники жмут друг другу руки и уходят, а доску готовят к новой игре.
– Оу, – говорит Роджер. – Как-то мы не вовремя.
Элисон морщит нос.
– Шутишь? Мы увидим игру целиком! Нам так повезло!
Затем она берет его под руку, и Роджер ни за что, даже мысленно, не решился бы отстраниться.
Помощники уже приготовили стол к игре, и вот они исчезают, открывая путь следующей паре игроков. Первый – белый мужчина, кажется, ровесник их учителя; на нем рубашка, вельветовые брюки и красный галстук-бабочка, и все вместе выглядит довольно нелепо. Порядок игры, видимо, определен заранее, потому что он сразу садится за доску со стороны черных.
Его соперница – девочка-подросток с белой, словно фарфоровой кожей, подстриженная «под пажа»: волосы обрамляют лицо и не лезут в глаза. Она выглядит так, будто целый год не выходила на солнце. Похоже, на ней форма какой-то частной школы, только непонятно какой: серая плиссированная юбка, белая блузка, короткий синий галстук. На ногах лакированные туфли, и они скрипят при ходьбе.
Роджер понимает, что слишком пристально ее разглядывает, понимает, что не должен этого делать, но не может отвести взгляд. Он ее знает. Он смотрит, как Доджер – девочка, от которой он отвернулся пять лет назад, – занимает место рядом с белыми фигурами. Она бьет по часам, двигает первую фигуру, и игра начинается.
Он понимает, что Элисон что-то рассказывает, но впервые с тех пор, как он понял, как она красива, он не слышит ни слова из того, что она говорит. Все его внимание сосредоточено на Доджер: каждый раз, когда приходит ее очередь, ее руки двигаются так быстро, что за ними невозможно уследить. Если Роджер встанет рядом с ней, он будет примерно на дюйм выше («Когда она успела?» – лихорадочно думает он, вспоминая, как мир взлетал на головокружительную высоту каждый раз, когда он смотрел на него ее глазами; за этой мыслью следует другая, приводящая в отчаяние: «Как же много я упустил»), и плечи у него шире, но они все еще удивительно похожи. У них одинаковые глаза. Он мало понимает в шахматах, но все же видит, что она сильна, по-настоящему сильна; это показательная игра настоящих мастеров, и Доджер загоняет в угол мужчину вдвое старше себя, неустанно преследуя его фигуры по всей доске. Она играет так, будто на кону ее жизнь, холодно и безжалостно, с ровным выражением лица. Она не улыбается, даже когда перестает играть и начинает выигрывать.
Их партия заканчивается в два раза быстрее, чем остальные три. Даже когда соперник Доджер признает поражение и встает пожать ей руку, ее взгляд не отрывается от доски, она словно продолжает анализировать игру, выискивая ошибки, чтобы в следующий раз сыграть еще быстрее, четче, безупречнее. Она ни разу не взглянула на зрителей.
Неожиданно Роджер обнаруживает, что Элисон трогает его за локоть. Он поворачивается к ней и видит, что она смотрит на Доджер с холодной ненавистью.
– Понравилась игра? – спрашивает она.
– Да, – отвечает он и улыбается ей, надеясь, что улыбка выглядит достаточно искренней, достаточно убедительной, потому что не знает, что еще можно сделать. Доджер не существует. И никогда не существовало. Он в этом уверен, как и в том, что, если он позволит себе усомниться, его жизнь будет разрушена. – Научишь меня играть?
И Элисон неожиданно снова улыбается, и все будет хорошо.
Когда он бросает взгляд обратно на арену, Доджер уже ушла. Если подумать, это и к лучшему. Ему надо жить своей жизнью.
Они шли уже довольно долго – достаточно долго, чтобы на туфлях Эйвери появились царапины, а Циб успела забраться на три дерева и с каждого упасть, – когда Кварц жестом дал им понять, что надо остановиться. Обычно смешливое лицо этого будто хрустального человека вдруг стало угрюмым.
– Что вы, по-вашему, сейчас делаете? – спросил он.
– Мы идем в Невозможный город, чтобы Королева жезлов отправила нас домой, – ответил Эйвери и нахмурился, потому что в этой фразе будто бы не было никакого смысла.
– Нет, не идете, – сказал Кварц. – Чтобы попасть в Невозможный город, вам нужно идти по невероятной дороге.
– Мы и идем! – возмутилась Циб.
– А вот и нет, – возразил Кварц. – Все, что вы делали до сих пор, было обычным и вероятным. Если вы хотите попасть на невероятную дорогу, нужно сначала ее найти.
Циб и Эйвери переглянулись. Похоже, все оказалось еще сложнее, чем они думали…
А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»
Книга VII
Конец…
Я утешаюсь тем, что с окончаньем дняОт мук освободит ваш приговор меня[9].
Уильям Шекспир «Комедия ошибок»
Шахматы – это жизнь.
Бобби Фишер
Волеизъявление
Так много крови.
Доджер не шевелится уже примерно минуту, ее рука вытянута, будто она вот-вот продолжит собственной кровью писать цифры на выщербленном кирпиче; на лице выражение тихого смирения. Она дышит, но совсем слабо, и эти вдохи – медленные, едва различимые – все меньше существуют в реальности и все больше – в его воображении.
Ему нужно закончить уравнение, которое она писала, когда упала, нужно восстановить ход ее мыслей и довести дело до конца, но он не может. Доджер не занималась с ним математикой с тех пор, как им было девять, с тех пор, как его убедили – лживыми угрозами, которым никогда не суждено было сбыться, – прекратить с ней общение. Он – гений. Он знает все слова: вундеркинд, полиглот, самородок – но она была гением в совсем другой области, и он просто не понимает все эти символы, расходящиеся от ее неподвижных пальцев.
Они проиграли. Они даже не догадывались, что это была игра, и все-таки проиграли. Они лишились детства, которое могли бы провести вместе, лишились равновесия, которое могли бы найти друг в друге, а теперь лишатся и жизни, и все потому, что он не знает, как закончить расчеты, покрывшие все вокруг; а они уже высыхают, красный превращается в коричневый, и грудь его сестры вздымается все слабее и слабее и вот-вот замрет навсегда. Он не может удержать их на невероятной дороге. Не в одиночку. Ни один из них не смог бы совершить это путешествие в одиночку.
Когда она перестанет дышать, его собственное сердце последует за ней в темноту. Он знает это так же твердо, как все, что когда-либо знал, как разницу между мифом и чудом, между легендой и ложью. Конец близок.
Звуки стрельбы снаружи совсем не похожи на те, что можно услышать в кино, – не такие громкие и впечатляющие. Словно шепот во время грозы, но, чтобы их убить, достаточно и этого шепота. В общем грохоте иногда угадывается пистолет Эрин, и либо у нее не слишком хороший глушитель, либо его вовсе нет, но Роджер отчетливо слышит каждый ее выстрел.
И слышит, когда ее пистолет замолкает.
Что ж, значит, это конец. Они проиграли, все кончено. Эрин мертва, Доджер истекает кровью, и он никогда не попадет в Невозможный город и никогда не вернется домой. Это конец их пути. Он тянется к сестре и, не заботясь о том, что может ей навредить, крепко прижимает к себе – так, как должен был прижать уже очень давно. Все равно он ее не убьет. Она уже мертва. Просто еще не знает об этом.
– Доджер. Эй, Додж. Ну же, очнись. Мне нужна твоя помощь. Нам нужно остановить кровотечение.
Ее глаза по-прежнему закрыты. Только поверхностное дыхание подсказывает, что она еще с ним.
Так много крови.
– Давай, Додж. Ты что, решила со мной поквитаться? Не оставляй меня, мы же не соревнуемся, кто кого.
Его собственные раны не так тяжелы. Одна пуля пролетела возле головы, оторвав кусочек уха. Кровь лилась ручьем, но артерии не задело, и, если бы он не чувствовал, как неминуемая смерть Доджер нависла над ним черной тучей, он бы решил, что выкарабкается. Но теперь уже слишком поздно.
– Не уходи. Ты не можешь просто уйти. Я только снова тебя нашел. Слышишь? Ты не можешь уйти. Ты мне нужна.
Ее глаза по-прежнему закрыты.
Так много крови.
Если не можешь выиграть, опрокинь доску. Он не помнит, кто это сказал. Может быть, его первая девушка, Элисон, которой одинаково нравились шахматы и ссоры по пустякам. Может быть, кто-то другой. Это неважно, потому что они шли к этому с самого начала. Это единственный способ. Ее грудь едва вздымается, и крови так много, так много крови, и неважно, сколько слов он знает. Отсюда ее вытащат именно слова.
– Я не справлюсь один. Прости. Я не справлюсь.
Он наклоняется к ней, почти к самому уху, обрамленному прядью коротких, пропитанных кровью волос. Он двигается осторожно, стараясь не запачкать кровью лицо в крови. Когда они умрут, надо, чтобы один из них был как можно чище.
– Доджер, – шепчет он. – Не умирай. Это приказ. Это команда. Это требование. Делай что угодно, ломай что угодно, только не умирай. Это приказ. Это…
Это ее веки – они вздрагивают, но им не хватает сил, чтобы распахнуться: высохшая кровь, перемешанная со слезами, приклеила ресницы к щекам.
Это тишина – выстрелов больше не слышно. Они не смолкли постепенно, а просто прекратились, будто кто-то нашел, где у мира кнопка выключения звука.
Это мир становится белым.
Это конец.
Мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы ошиблись мы
Сова смотрела на Эйвери и Циб. Эйвери и Циб смотрели на сову. Они сразу заметили ее длинные когти, острый клюв и огромные оранжевые глаза. Смотреть прямо в эти глаза было все равно что играть в гляделки со всей хэллоуинской нечистью.
Эйвери мысленно предположил, что эта сова не стала бы раздавать лакричные конфетки или яблоки в карамели. Скорее уж дохлых горностаев и глубокие царапины.
– Вы ужасно шумите, – наконец сказала сова. – Если вы собрались препираться весь день, не могли бы вы делать это под деревом у кого-нибудь другого?
У совы был мягкий и приятный голос, словно у няни. Циб и Эйвери растерялись и синхронно моргнули.
– Я не знала, что совы умеют разговаривать, – сказала Циб.
– Конечно, совы умеют разговаривать, – сказала сова. – Все умеют разговаривать. Просто нужно научиться лучше слушать…
А. Дебора Бейкер «За лесоградной стеной»
Книга II
Перезагрузка
Ни одна физическая теория локальных скрытых параметров не может воспроизвести все предсказания квантовой механики.
Теорема Белла
Звонили из вашего дома.
Городская страшилка
Шах и мат
Доджер играет в шахматы так же, как когда-то скатывалась в овраг за домом, – быстро и решительно, словно опасаясь, что даже небольшая потеря темпа может стать фатальной. Каждое движение – атака. Когда Доджер не касается фигур, она застывает и будто вовсе не дышит – как хищник, чье спокойствие – одна видимость. Она – мраморная статуя, которая притворяется девочкой и оживает, только когда позволяют правила игры.
Соперник делает ход; она отвечает стремительно, без малейшего колебания, словно опытная участница дебатов, защищающая какой-нибудь недоказуемый тезис. За игрой следит целая толпа зрителей, но это не имеет значения. (Так же как не имеет значения, что тренер просил ее – практически умолял – быть помедленнее, хоть немного потянуть с ответными ходами, чтобы зрителям было на что посмотреть. «Если им хочется яркого зрелища, пусть идут в океанариум», – отвечала она каждый раз, когда он затрагивал эту тему, и, не меняя ответа, не меняла и стиля игры – безжалостного, нацеленного только на результат. Рок-звездой ей не стать, но, во всяком случае, она уйдет в небытие, держа в каждой руке по трофею. Этого ей вполне достаточно.) Значение имеет только победа.
Побеждать она может без посторонней помощи.
Последняя фигура передвинута; противник кладет своего короля, признавая ее победу. Она наконец поднимает на него взгляд и протягивает руку для обязательного традиционного рукопожатия. Кто-то в толпе – огромной, безликой, чудовищной толпе – меняет позу, и это почему-то привлекает ее внимание.
Она машинально пожимает руку соперника холодными вялыми пальцами, а затем отстраняется от него и совершает немыслимый поступок. Доджер Чезвич, которая однажды сыграла три игры подряд с сильнейшим пищевым отравлением, так что она выходила между ходами, и ее рвало, которой нужно готовиться к следующей игре, которая все шесть долгих недель турнира (ее соперник слышал, как она называла этот турнир «выставкой гениев» без малейшей иронии в голосе) обращала внимание только на доску… Доджер Чезвич уходит.
Затем она переходит на бег, но это уже даже не так удивительно. В конце концов, сценарий все равно нарушен, подумаешь – чуть больше, чуть меньше…
Она бежит, не отрывая взгляда от паренька с длинноватыми каштановыми волосами и слегка загорелой кожей, на которой ярко выделяются многолетние веснушки. Очки кажутся слишком большими для его лица, и в них он похож на растерянную мультяшную сову, которая внезапно влезает в серию, говорит что-нибудь умное и сразу же исчезает. На нем футболка с цитатой из Шекспира и джинсы, а на локте – властная рука стоящей рядом блондинки. Все в блондинке буквально кричит: «Прочь, он мой!» – и, если бы у Доджер было достаточно слов, она смогла бы как-нибудь ей объяснить, что он ей не нужен, вернее, нужен, но не так. Но слов у нее нет и никогда не будет. Вместо слов у нее в голове числа, вероятности, целая вселенная различных возможностей – и, согласно теории вероятностей, шанс, что она права, один на миллион.
Это не он. Это не он. Просто кто-то очень похожий, вернее, она думает, что сейчас – через пять лет после того, как он перестал отвечать ей, перестал выходить на связь, – он выглядел бы именно так. Она знает, что это не он, и все же перестает бежать, только ударившись об ограждение – со всего маху, так, что перехватывает дыхание. Пальцы судорожно хватаются за низкие перила, не дающие маленьким детям случайно упасть под ноги конькобежцам, акробатам и на кого там еще можно поглазеть на этой неделе в перерывах между шахматными партиями, которые вряд ли занимают много времени.
Он встает. Затем делает шаг навстречу.
Она открывает рот. Она хочет произнести его имя. Она хочет выкрикнуть его, чтобы выплеснуть пять лет бессонных ночей, пять лет борьбы за то, чтобы стать лучшей во всем, потому что это она виновата в том, что он замолчал. У нее не получается издать ни звука. Она пытается изо всех сил, но не может даже пискнуть. Она может только смотреть ему в глаза и надеяться, что он услышит в ее молчании крик.
– Доджер.
Его голос звучит как-то сдавленно, будто ему так же больно говорить, как ей – молчать. Блондинка все еще держит его под локоть, но, когда он стряхивает ее руку, она уходит, даже не пытаясь спорить, только на ее лице постепенно проступает обида. Доджер ее не знает, но она знает про нее все: единственная умная девочка на целый класс умных мальчиков (не то чтобы девочки реже бывают умными, нет, просто их чаще поощряют скрывать свой ум), она так же плохо социализирована, как и ее одноклассники, и просто не знает, как себя вести, когда на ее территорию заходит другая девочка. Доджер встречала таких девочек сотни раз и сама не превратилась в одну из них только потому, что ее совершенно не волновало, кому достанутся мальчики. На это просто не было времени. В ее мире слишком много места занято математикой.
Она вцепилась в перила и не сводит глаз с мальчика, который назвал ее по имени. «Конечно, он знает, как меня зовут, – молча ругает она себя. – Они же объявили меня в начале игры, они объявляют меня перед каждой игрой, глупая, глупая…»
– Доджер, – снова говорит мальчик и выходит в проход. Ноги у него дрожат, он побледнел; кажется, что он вот-вот упадет в обморок.
Ограждение слишком высоко, чтобы Доджер смогла через него перелезть, но она все равно пытается, встает на цыпочки, хватается за край и подтягивается, будто в самом деле собирается перемахнуть на трибуны. Поверженный соперник все еще стоит у нее за спиной, наблюдая за происходящим, и он уже не один: к нему присоединились несколько других игроков – все хотят поглазеть на спектакль, который устроила Доджер Чезвич, девочка-несмеяна: она морщится от боли, пытаясь дотянуться до невзрачного мальчика, который выглядит так, будто увидел привидение.
Она начинает издавать высокий пронзительный звук, как койот, угодивший лапой в капкан. От него сводит скулы, но, похоже, она этого не замечает.
Зато замечает Роджер.
– Доджер, – наконец кричит он и срывается на бег, больше похожий на беспорядочное мельтешение костлявых конечностей – проклятье, которое преследует большинство парней от тринадцати до тридцати. Доджер все еще пытается вскарабкаться на ограждение, когда он подбегает, перегибается через перила и так порывисто хватает ее за руки, что у них просто не остается времени хорошенько подумать. Он просто здесь, он крепко ее держит, а она смотрит на него широко распахнутыми глазами, и в них столько потрясения и такое беспросветное одиночество, что это кажется преступлением. Это и есть преступление – на суде души, где невинных карают вместе с виновными.
– Это ты, – всхлипывает она, высвобождая запертый голос, и он с каждым словом становится все громче и громче. – Это ты, Роджер, это ты что ты здесь делаешь ты узнал что это я и пришел посмотреть на мою игру прости меня я не знаю за что но прости меня я не хотела я больше никогда так не буду ты только…
– Подожди, – говорит он.
В его голосе слышатся одновременно извинение и сожаление, и она сразу же замолкает и только смотрит на него огромными печальными глазами. Утром у нее на пальцах ног появятся синяки оттого, что она слишком долго стоит на носках туфель, которые совершенно для этого не предназначены. Но сейчас ее это не волнует. Сейчас ничто не может ее волновать.
Роджер неловко смеется.
– Ого! – говорит он. – Как ты выросла.
Доджер моргает. Затем – как-то, где-то – находит в себе силы улыбнуться в ответ.
– По-моему, ты теперь выше, – говорит она. – Догнал меня наконец.
– Так бывает.
Блондинка, оправившись от шока, сбегает по ступенькам и встает у Роджера за спиной. Она окидывает Доджер оценивающим взглядом. Изучает соперницу. Доджер ранит такое отношение, как и рассеянность на лице Роджера. Он не понимает многозначительных взглядов, которыми обмениваются девочки, и Доджер задается вопросом, есть ли у мальчиков такой же тайный язык, который она просто не замечает и, может быть, никогда и не заметит.
«Если такой язык есть, он его выучит», – свирепо думает она, и ни разу в жизни она не была так уверена в истинности своей мысли.
– Привет, – говорит блондинка, вмешиваясь в разговор. – Я Элисон. Вы с Роджером знакомы? Откуда?
Она снова берет его за руку, слегка касаясь пальцами запястья. Если она еще не его девушка, то завтра точно ей станет.
Доджер хочет за нее порадоваться и порадоваться за него. Роджеру будет хорошо, если у него будет девушка. Она помнит, как он растерянно говорил, что девочки выбивают его из колеи, и чувствовалось, что он на самом деле чего-то хочет, но даже приблизительно не может объяснить, чего именно. Она помнит, как сильно его это раздражало: даже тогда ему уже хотелось иметь для всего название. По крайней мере, теперь он знает, что хочет девушку, и есть девушка, которая как раз претендует на это место. И даже если для этого должна была появиться другая девушка – «соперница», хотя кого-кого, а Доджер соперницей уж точно не назовешь, – возможно, она и правда ему подходит. Роджер слишком умен, чтобы влюбиться в девушку, которая ему не подходит.
– Мы в детстве были друзьями по переписке, – говорит она, и ложь слетает с языка так легко, что вполне могла бы оказаться правдой, потому что все равно не существует слов, чтобы описать, чем они были друг для друга на самом деле. Он был голосом у нее в голове, голосом, который научил ее не просто читать слова, а считывать смыслы, он был ее лучшим другом, тем, кто не давал ей сойти с ума.
Он первый разбил ей сердце, и это тоже был важный урок. Именно Роджер показал ей, что мир жесток, а ей было крайне необходимо это усвоить.
– Да, – говорит Роджер, подхватывая ее реплику. Это всегда хорошо ему удавалось. Она впервые увидела со стороны, как слегка раздуваются его ноздри, когда он решает, в какую сторону повести разговор, как он по-особому располагает плечи, перед тем как солгать. Он – открытая книга, но мало кто умеет ее читать. Наверное, она должна гордиться тем, что входит в число избранных. Но сейчас она чувствует лишь усталость. – Мы, э-э, да, мы переписывались. Несколько лет. А потом просто… наверное, потеряли связь.
Она хочет на него накричать, напомнить, что это он замолчал, бросил ее одну в этом слишком шумном, слишком жестком, слишком беспощадном мире. Но она не кричит. Она опускается на пятки, и ее пальцы выскальзывают из его рук. Когда их пальцы разъединяются, она ничего не чувствует, так же как ничего не чувствовала, когда они соприкоснулись. Они касались друг друга. Теперь не касаются. Линейное время может многое, но к подобным вещам оно сочувствия не испытывает.
– Ты специально пришел? Посмотреть на мою игру? – спрашивает Доджер.
К ее стыду и радости (потому что с чего ей это вообще пришло в голову? Почему это даже на секунду могло прийти ей в голову? Но даже если он пришел не специально, она не обязана переставать злиться: математика говорит, что она может держаться за свою злость сколько захочет), Роджер качает головой.
– Нет. Нашему классу достались билеты, и эта поездка идет в зачет, а еще Элисон играет в шахматы.
– А! – Доджер переключает внимание на блондинку – Элисон, – позволяя себе ровно секунду, отвратительно самовлюбленную секунду посмотреть на эту девушку так же, как та смотрела на нее, – как соперница; как конкурентка в игре, которую общество навязывает им с самого рождения, и неважно, хотят ли они играть.
«Элисон начнет разыгрывать один из закрытых дебютов: она не станет жертвовать фигурами, даже если в конечном счете это сослужит ей плохую службу, – решает она. – Мат в десять ходов или и того меньше. Даже жаль тратить время, чтобы ее унизить». Это холодная мысль, и Доджер становится стыдно прежде, чем она успевает додумать ее до конца.
Она улыбается и думает про себя, что эта улыбка ничем не хуже тех, что обычно появляются у нее на лице. Она не задумывается о том, почему ее фальшивые улыбки выглядят так же, как настоящие.
– Ух ты. Похоже, нам просто повезло. Приятно познакомиться, Элисон.
– И мне тоже, – нехотя отвечает Элисон, пользуясь моментом знакомства, чтобы снова взять Роджера под руку, еще более явно обозначая свои притязания. – Мне кажется, я в первый раз встречаю человека с именем «Доджер».
– Мой папа преподает историю Америки, – говорит Доджер, отточенным движением пожимая плечами, – она делает так всякий раз, когда люди говорят что-то про ее имя, а она не знает, что им ответить. История Америки ни при чем: таково было условие удочерения, выдвинутое ее биологической матерью, которую она никогда не видела и вообще редко ей интересовалась. Эта женщина подарила ей жизнь и отказалась от нее, а Доджер считает, что отказаться от нее можно только один раз.
И Роджер уже это сделал.
Она выпрямляется, все еще продолжая улыбаться отработанной фальшивой улыбкой.
– Рада была тебя видеть, Роджер. Надеюсь, вам понравилась игра и вам дадут кучу зачетных баллов. У меня через час следующая партия, так что я лучше пойду готовиться.
Роджер беспомощно смотрит, как она разворачивается и уходит – напряженная, с высоко поднятой головой. Он понимает, что снова теряет ее, но не знает, как ее остановить. Он не может ничего сказать вслух, пока рядом Элисон: в лучшем случае он прослывет ненормальным, а в худшем – этаким стремным бывшим. Ни того ни другого он не хочет.
Но еще он не хочет, чтобы Доджер ушла.
Поэтому он закрывает глаза и нащупывает в темноте дверь, которую не искал долгие годы, дверь, которую он запретил себе искать, когда его семья оказалась под угрозой. Но теперь ему уже не девять, а четырнадцать; он гораздо больше знает о том, как устроен мир, он много читал о законах усыновления и о контрактах, потому что усыновление – это часть его жизни, и ему хотелось ее понимать. Какой бы контракт ни подписали его родители, ни один суд в мире не может его у них забрать, если все его преступление состоит в том, что он с кем-то поговорил, особенно если этот кто-то стоит прямо перед ним. Она настоящая – реально, взаправду настоящая, и значит, оттого что он с ней говорит, он не становится сумасшедшим, а если он не сумасшедший, нет ничего плохого в том, чтобы признать ее существование.
Он «стучится». Она не открывает. Она не позволяет ему войти. И поэтому он ломится изо всех сил. Пытается силой пробить себе путь.
Может, дело в квантовой запутанности, а может, и нет, но под настойчивыми ударами его мысленных рук дверь поддается, и мир окрашивается в яркие цвета, и он видит арену снизу. Угол зрения Доджер раздражающе неправильный. У него начинает кружиться голова. Если бы контакт не прерывался, он бы привык к такой перспективе, как раньше привыкал видеть мир с большей высоты – когда они были маленькими и выше была она.
(И еще он ужасный, неизлечимый дальтоник. Когда был младше, он этого не понимал, и, возможно, никогда и не понял бы, если бы не то, что она дальтоником не была: когда он смотрит ее глазами, он видит тысячи оттенков, которых обычно нет в его жизни, и он немного обижается на нее за то, что ей досталось столько цветов, а ему нет, хотя он жадно бросается сопоставлять эти цвета с их академическими названиями, которые раньше были только идеями, никак не привязанными к реальному миру.)
– Пожалуйста, не уходи, – шепчет он как можно мягче, и его голос звучит у нее в голове так же громко и ясно, как раньше.
Доджер спотыкается, но не падает: шок нарушает координацию, но ей удается справиться. Она останавливается и, продолжая стоять спиной к зрителям, спрашивает:
– Почему это? Ты же ушел. Теперь моя очередь.
– Потому что мне очень жаль, я не должен был так поступать, и, пожалуйста… Не уходи.
– Мне нужно идти. Мне скоро снова играть. Мы в одном часовом поясе; выходи на связь в девять.
И она уходит, на этот раз быстрым шагом, как будто опасается, что кто-то попытается ее догнать.
Роджер не хочет быть тем, от кого нужно убегать. Он отступает, открывает глаза и с привычной высоты смотрит, как она исчезает за дверью в задней части арены. Элисон тянет его за руку. Он поворачивается и по ее взгляду понимает, что их отношения изменились: появление другой девушки заставило Элисон посмотреть на него так, как он смотрел на нее уже целую вечность. Часть его ликует. Другая часть растеряна и смущена: он не знает, как справиться с той бешеной скоростью, с которой меняется все вокруг.
– Хочешь газировку? – спрашивает он, и в награду на ее лице расцветает улыбка, и быть может, в конце концов все не так уж и сложно.
Доджер в этот день играет еще три партии и выигрывает все три, хотя две победы даются не так просто, и ей это не нравится; после третьей партии, когда она собирает вещи, к ней подходит организатор – поблагодарить за то, что она вспомнила о зрителях и сделала игру интереснее. Доджер, перед которой после каждого хода соперника расстилаются математические вероятности, а в голове каждый раз, когда она берет пешку, будто разворачивается карта, ничего не отвечает. Она не может играться с соперниками, как просят организаторы, и не может отвлекаться во время каждой партии; и то и другое было бы несправедливо по отношению и к ней самой, и к тем, с кем она играет. Когда она садится за стол, ей нужно быть уверенной, что люди, которым она бросает вызов, будут сражаться изо всех сил. Иначе это было бы просто жестоко.
(Это ее первый шахматный турнир. Она участвует в нем ради зачета в колледже и еще потому, что папа пообещал, что, если она в этом семестре сделает что-нибудь вне учебной программы, он разрешит ей прослушать один из курсов профессора Вернона. Она обожает профессора Вернона. Он стал ее наставником, и она думает, что переживала бы потерю Роджера куда тяжелее, если бы не возможность обратиться за поддержкой к профессору Вернону. Но также это ее последний турнир. Она могла бы стать любимицей публики, людям такое нравится – маленькая девочка, которая никогда не улыбается и уничтожает всех своих соперников, – но саму ее такой успех вряд ли порадовал бы, а без радости она не видит в этом никакого смысла. Шахматы – это священнодействие, а не фокус, совершаемый на потеху публике, которая с тем же удовольствием наблюдала бы за тюленем, вращающим мячик на кончике носа.)
Вечером она возвращается в отель. Так как она младше всех остальных участников, ей выделили собственную комнату, смежную с той, в которой спит сопровождающая. Первые две ночи она должна была оставлять дверь между комнатами открытой, чтобы сопровождающая в любой момент могла убедиться, что Доджер в постели и с ней все в порядке. Но потом Доджер стала жаловаться, что ей сложно заснуть, и, всячески подчеркивая нежелание покидать свою комнату после комендантского часа, обеспечила себе некоторые привилегии, и прежде всего – возможность закрывать дверь, так что теперь у нее есть необходимое уединение.
Она аккуратно переодевается, меняя форму для соревнований на фланелевые пижамные штаны и выцветшую футболку с «Парком юрского периода». Динозавры норм, но по большому счету она носит эту футболку в честь доктора Яна Малькольма, вымышленного математика и рок-звезды, который не раз снился ей в путаных подростковых снах. Она столько лет носит эту футболку, что швы местами уже разошлись. Так что вид у нее непривлекательный, и это явно не то, что следует надевать, когда приглашаешь мальчика к себе в комнату и тем более к себе в голову. Но футболка уютная, в ней комфортно. Здесь и сейчас только это и важно.
Ей хочется разозлиться. Хочется закрыться от него и влепить ему тем самым по самое не хочу, как выражается папа, чтобы он понял, как сильно он ее ранил и что она не из тех девушек, которые готовы все простить, только позови. Но она не может. Как бы сильно он ее ни ранил, как бы больно ей ни было до сих пор, скучала она по нему в два раза сильнее. У нее нет слов, чтобы описать, что она сейчас чувствует, – а ведь было время, когда, если она не могла найти какое-нибудь слово, она позвала бы Роджера, и он помог бы ей восполнить недостающий кусочек словесной мозаики. Последние пять лет она справлялась в одиночку. И он тоже, но обойтись без математики проще, чем без слов. Слова повсюду. Слова ранят.
Она аккуратно вытягивается на кровати, закрывает глаза и складывает руки на животе. Такое чувство, будто она снимает с себя мерку для собственного гроба. Ей должно быть не по себе, но здесь и сейчас это просто параметры, и с ними все становится лучше. Шесть футов на три фута на два фута – размеры мира. Глубокий вдох, выдох, мир заполняется воздухом. Пусть все остальное уйдет. Пусть все остальное исчезнет.
Она лежит уже довольно долго (семнадцать минут тридцать одну секунду), когда мир наконец смещается и с той стороны глаз появляется новая тяжесть.
– Ты опоздал, – говорит она. Она не говорит «привет», а говорит только то, что чувствует: он опоздал. Опоздал на семнадцать минут и пять лет, и она была в одиночестве слишком долго.
– Мне пришлось сказать, что у меня разболелась голова, чтобы объяснить, почему я так рано ложусь спать, – говорит Роджер извиняющимся тоном.
Доджер расслабляется и ненавидит себя за это. Ей так сильно хочется на него разозлиться, но она чувствует только проклятое облегчение, будто ей повезло, что он все-таки решил вернуться, хотя до этого сам же решил уйти. Ей хочется кричать, бушевать, отгородиться от него и посмотреть, как ему это понравится. Но она ничего такого не делает. Все это рискует закончиться плохой математикой, порождающей уравнения, которых ее сердце может просто не выдержать.
– Я не только про сегодняшний день, – говорит она, и в ее голосе слышится лишь подобие, лишь тень того гнева, которым она бы хотела его наполнить. Он звучит слабо, потерянно и одиноко.
Роджер вздыхает.
– Прости.
– Почему ты бросил меня?
– Они сказали… Эта психолог пришла к нам домой и сказала, что кто-то в школе видел, как я разговариваю сам с собой. Она сказала, что это значит, что со мной что-то не так, и что по контракту об усыновлении, который подписывали мои родители, меня могут забрать и поместить в другую семью.
Доджер хмурится.
– Ты что, поверил ей? Роджер, это же глупо. Усыновление так не работает. Зачем бы им забирать больного ребенка обратно? Даже для здоровых детей сложно найти приемную семью.
Он снова вздыхает. Когда он начинает говорить, его голос звучит разбито, и она впервые осознает, что не только она одна все эти пять лет была одинока.
– Сейчас я это понимаю. Я прочитал кучу юридической литературы и теперь точно знаю, что такой контракт нельзя привести в исполнение, даже если они правда его подписали, а я ни разу его не видел. Но мои родители думали, что можно. Они ошибались, но, наверное, у родителей страх иногда затуманивает разум, а они ужасно боялись ту женщину, Додж, и это была моя вина: ведь это из-за меня она пришла к нам домой и так их испугала. Мне было девять. Я сделал неправильный выбор. Прости.
– Я не спала три месяца.
Признание настолько простое, настолько неприукрашенное, что Роджер замирает и пытается подобрать ключ, который помог бы постичь смысл ее слов. Но ключа нет. А он не привык, чтобы слова не имели смысла.
– Что ты имеешь в виду?
– Только то, что сказала. Я не спала три месяца, потому что ждала, что ты вот-вот перестанешь злиться и снова начнешь со мной разговаривать, и я не хотела пропустить этот момент. – Голос Доджер звучит отстраненно. – Я не могла лечь в кровать, потому что тогда я начинала засыпать, так что я сидела за столом и колола пальцы канцелярскими кнопками, чтобы боль не давала мне спать. Родители заметили через месяц, когда у меня появились галлюцинации. Они умоляли меня поспать. В конце концов меня отвели к врачу, и он прописал мне таблетки, которые должны были меня вырубить. Прошел еще месяц, пока они догадались, что я их выплевываю, и еще месяц, прежде чем они заставили меня прекратить причинять себе боль. Но к тому времени я уже почти сдалась. Я не спала просто потому, что забыла, как это делается. И все время думала, что, наверное, я сделала что-то не так, и поэтому ты ушел. Я думала, я все это заслужила.
– Доджер, прости. Ты не… Я не… Они угрожали моей семье. – Роджер уже отвык тихо разговаривать сам с собой, и ему пришлось приложить ощутимые усилия, чтобы на последнем слове не сорваться на полную громкость. – Они сказали, что меня заберут. Ты была моим лучшим другом. Ты вообще самый лучший друг, который у меня когда-либо был. Но ты бы сделала то же, если бы они пришли в твою семью. Тебе бы пришлось.
– Нет, не пришлось бы, – возражает она. – Я бы соврала. Я бы сказала: «Ой, но это же просто игра, я и не думала, что кто-то может из-за этого беспокоиться», – и я бы пообещала никогда больше так не делать и просто стала бы осторожнее. Я сказала бы им, что все в прошлом, а сама продолжила бы общаться, потому что ты был мне важен. Я думала, что тоже тебе важна. Ты ведь все время это говорил. Так что я бы солгала ради тебя, потому что лучше так, чем оставлять тебя в одиночестве.
Роджер молчит.
– А ты так и сделал, Роджер. Оставил меня одну. Ты бросил меня, даже… даже не объяснив ничего, не сказав, что все наладится. Ты говорил, мы друзья навсегда, и я тебе поверила. Я никогда никому не верю, но тебе я поверила, а ты оставил меня одну. Ты решил за меня, что я больше не заслуживаю быть твоим другом. Может, это эгоистично – злиться на тебя, потому что ты боялся за свою семью, и мы были маленькими, и ты думал, что я сильнее, чем оказалось. Не знаю. Мне плевать. Ты меня бросил. И я не могу тебя за это простить, как бы сильно тебе этого ни хотелось. И неважно, как сильно я сама этого хочу.
Доджер замолкает. Слезы жгут ей глаза, размывая зрение. Все, что доступно взгляду Роджера, нечетко, смазано, как на плохой акварели. Все кажется зыбким. Все началось с девочки, которая заговорила у него в голове, а он думал, что она ненастоящая; может, и правильно, что сейчас все кажется нереальным. Может, так и должно быть.
– Прости, – говорит он. – У меня нет других слов, только эти. Я поступил так, как был должен – как мне тогда казалось. Я знаю, что я ошибся. Но я не могу вернуть все эти годы назад. Время так не работает.
Доджер смутно подозревает, что время могло бы так работать, если только она поймет, как подкрутить числа. Ей все больше начинает казаться, что время – это замысловатая головоломка, и у нее есть к ней ключ; он спрятан где-то между дыханием и биением сердца, и это такая же часть ее тела, как кровь, кости и костный мозг. Она ничего не отвечает. Теперь ее очередь молча ждать, что скажет Роджер. Она произнесла длинную речь и выдохлась. Слова никогда не были – и не будут – ее сильной стороной.
– Но не только тебе было больно, и не только ты пострадала оттого, что я закрыл дверь. Я оставил тебя одну. Но я тоже остался один.
Доджер знает, что это неправда, она видела доказательство – девочку, которая смотрела на нее с подозрением и по-хозяйски держала Роджера за локоть, будто стоило ей ослабить хватку, как она бы его потеряла. Но говорить об этом не стоит. Потому что, если она признается, что никто ни разу не смотрел на нее так, как эта девушка смотрела на Роджера, может показаться, что она жалуется, особенно если она попытается объяснить, как много времени проводила сама с собой, дрожащая, загнанная в ловушку, на грани собственной жизни.
И это неважно. Он попросил прощения. Он воспользовался магией извинений. Доджер закрывает глаза, погружая их обоих в темноту.
– Ладно, – говорит она. – Но больше так не делай.
На другом конце города Роджер улыбается.
– Зуб даю, и провалиться мне на этом месте, – говорит он; и теперь все будет хорошо.
Калибровка
– Магистр Дэниелс. Какой приятный сюрприз.
Сюрприз далеко не приятный. Это беда, опасность, катастрофа во всех смыслах этого слова. Рид стоит на пороге с совершенно прямой спиной, совершенно неподвижно, закрывая собой проход, насколько это возможно при его худощавой комплекции. Как часто он жалел, что Асфодель не нашла времени создать ему более мощное тело: он высокий, стройный, привлекательный, но это все не те характеристики, что заставляют принимать тебя всерьез. Если алхимики, сопровождающие магистра Дэниелса, захотят отодвинуть его с дороги, им это удастся.
(Ли могла бы их остановить. Когда ему нужно, маленькая Ли становится стремительной и абсолютно смертоносной и режет, словно скальпель, который использовал ее создатель, собирая ее по кусочкам. Но сейчас Ли внутри, в глубине лаборатории, обеспечивает защиту экспериментам, которые эти люди не должны увидеть, запирает двери, которые нельзя открывать. Эти люди вообще не должны были здесь оказаться. Эти люди вообще не должны были найти это место.)
– Неужели, Джеймс? – Голос магистра Дэниелса звучит мягко и устало. Ему не нравится быть здесь, в Огайо, посреди отливающих изумрудом кукурузных полей под сапфировым небом.
Он предпочитает не покидать свои комнаты, где преобладают оттенки сепии, а стены пропитаны духом значительности совершавшихся в них событий.
– Похоже, здесь, в этой глубинке, ты хранишь от меня какие-то тайны. Похоже, нам следовало лучше за тобой приглядывать. Но мы недоглядели, и ты сам себе навредил, и за это прими мои искренние извинения. Мы были обязаны относиться к тебе лучше. Мы в долгу перед тобой и перед Асфодель.
– Перед магистром Бейкер.
Впервые магистр Дэниелс выглядит растерянно.
– Прости?
– Для вас она – магистр Бейкер, из ваших уст ее имя должно звучать только так. Она была величайшим алхимиком своего времени. И с тех пор ее никто не превзошел.
Алхимиков, сопровождающих магистра Дэниелса (Рид не знает их имен, и ему нет до них дела; им нет места в его грандиозных планах), его слова сперва удивляют, затем оскорбляют. Один из них делает шаг вперед.
– Не забывайся, – резко бросает он. – Мы позволили тебе примкнуть к нашим рядам, но это не дает тебе право лгать.
– Я не лгу. Я говорю только чистую, золотую правду, которую вы так долго безуспешно пытались превратить в примитивный свинец. – Рид бросает на Дэниелса убийственный взгляд. – Если вам обязательно нужно о ней говорить, говорите с уважением, которого она заслуживает.
– Она никогда не была магистром нашего ордена, Джеймс, – мягко говорит Дэниелс.
– Потому что вы ей в этом отказали. Потому что вы и люди вроде вас разрушили все ее замыслы, до которых смогли дотянуться, лишь бы не признавать, что и вас, и все ваши стремления превзошла какая-то женщина! Потому что вы…
– Это ты ее убил, – говорит Дэниелс.
Рид замолкает.
– Если в этом и есть доля нашей вины, если мы хоть как-то ответственны за ее смерть, то только потому, что позволили ей создать тебя. Обращение мертвых в живых всегда давалось женскому полу гораздо легче. Так что, сотворив тебя, она ничего не доказала, а лишь окончательно подтвердила, что мы в ней не ошибались. Талантливая – да. Одаренная – вне всяких сомнений. Но она была дилетанткой. Она едва отплывала от берега и не представляла, какие опасности таятся в глубинах.
Дэниелс улыбается. Наверное, он думает, что проявляет доброту. Наверное, для него эта речь – своеобразное отпущение грехов: «Ты убил свою создательницу и наставницу, но, видишь ли, ты всегда был выше ее. Она тебе только мешала».
Рид стискивает челюсти до боли в зубах и пытается представить, как будет звучать смерть Дэниелса.
– Ты был ножом. Она своей рукой тебя наточила. Это странная, изощренная форма самоубийства, но это все же самоубийство. Обычная ошибка таких, как она.
– И каких же? – Голос Рида звучит так, будто кто-то пилит кости ржавой пилой.
– Слабых. Недалеких. – Глаза магистра Дэниелса вспыхивают. – Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать мисс Бейкер, как бы ты ни старался нас отвлечь. Мы здесь, чтобы поговорить о тебе. Ты правда хранишь тайны, Рид?
– Я сказал вам, что воплотил Доктрину. Мы просто ждем, когда она созреет.
– Но ты не даешь нам проверить ее состояние. Почему?
– Условия для правильного созревания…
– Мы знаем, что значит тонкая работа. Мы тоже в своем роде люди науки. Нас вполне можно подпустить к твоему эксперименту.
Магистр Дэниелс делает шаг вперед, оба сопровождающих встают у него по бокам.
– Позволь нам войти, Рид. Мы все на одном пути к просветлению.
Но – нет, не все. Рид уже давно сошел с пути просветления. Невероятная дорога – это совсем другое. Невозможный город не несет просветления, он дает нечто гораздо большее, потому что просветленным не нужна власть, а Город – само воплощение власти. Тот, кто владеет Невозможным городом, владеет всем миром.
– Я не приглашал вас в свое святилище, – отвечает он. – Уходите, и я прощу вам это вторжение.
– Я не могу уйти, дитя, – говорит магистр Дэниелс.
– Что ж, мне жаль, – Рид подает знак, и из кукурузы выходит подросток. Он очень худой, даже тощий, у него темные волосы и недоверчивый взгляд. Руки безвольно висят по бокам, словно плети. На вид ему лет четырнадцать.
– Что это? – удивленно спрашивает магистр Дэниелс. – Ты не сообщил мне, что взял ученика.
– Даррен, – спокойно говорит Рид, – убей их всех.
Мальчик кивает и делает стремительный бросок.
То, что происходит дальше, было бы даже забавно, если бы не было столь смертельно серьезно. Первый алхимик достает что-то из кармана пальто – флакон, наполненный каким-то ужасным дымом, который клубится, словно живой. Он швыряет флакон в мальчика, но того почему-то уже нет на прежнем месте, почему-то мальчик оказывается в другой стороне, и вот уже его рука с ужасающей быстротой швыряет флакон обратно к его создателю. Флакон ударяется о его ребра, разбивается, и вырвавшийся на свободу дым пожирает всю его плоть до самых костей, а он все кричит, и кричит, и…
Второй алхимик в ужасе смотрит на товарища, который упал на колени и раздирает себе лицо, на глазах становящееся все меньше и меньше. Пауза длится всего несколько секунд. Несколько секунд – это достаточно долго. Даррен уже рядом с ним, неожиданно в его руке возникает нож, и вот уже горло второго алхимика – открытая книга, и открытая так широко, что все ее содержимое выплескивается на землю.
Рид не двигается с места. Магистр Дэниелс не двигается с места.
Даррен разворачивается и, метнувшись к магистру Дэниелсу, заносит над ним нож, чтобы выполнить поручение до конца. Старик зачерпывает из кармана горсть пыли и бросает ее мальчику в глаза. Даррен коротко вскрикивает и в судорогах падает навзничь. И больше не встает.
– Ты меня разочаровал, – говорит магистр Дэниелс, снова поворачиваясь к Риду.
Но Рид исчез.
Времени хватает только на то, чтобы осознать и смириться, и вот уже острие из закаленного серебра со спины пронзает старика в самое сердце; иссохшее тело, обмякнув, беззвучно падает рядом с остальными трупами. Один только Рид, слегка задыхаясь, остается стоять; на руках у него кровь.
Он смотрит на Даррена, и в его глазах проскальзывает что-то похожее на сожаление. Этого не должно было случиться. Придется извиняться перед Ли, оправдываться перед его парой. И все же у девочки огромный потенциал, а мальчик был годен только на то, чтобы убивать.
– Ты даже не догадывался, сколько в твоем ордене людей, верных мне, – говорит он трупу мужчины, который собирался лишить его того, что принадлежит ему по праву рождения. – Самолет, который должен был доставить тебя домой, разобьется. Так загадочно. Так печально. Тело так и не найдут, и ты будешь забыт.
Это самое страшное проклятие из всех, что он знает. С чувством глубокого удовлетворения он разворачивается и идет к сараю, откуда можно попасть в его владения. Он заходит внутрь и спускается вниз.
Воздух под землей холоднее, чем на поверхности, и пахнет не кукурузой, а химикатами. Рид расслабляется. Здесь его королевство, подземный лабиринт лабораторий, камер и странных алхимических алтарей. Здесь он уже победил.
– Ну что? – требовательно спрашивает Ли, возникая из темного дверного проема, словно дурной сон. – Все кончено? Мне нужен Даррен. У Эрин что-то вроде панической атаки, и только он может ее успокоить.
Благодаря годам практики ему удается не вздрогнуть. Важно никогда не показывать страха перед такими, как Ли. Она чует его за версту. И не прощает. Она бы мгновенно проглотила его, если бы только могла: этакая змея, пожирающая солнце. Она – его личный Фенрир, готовый в любой момент устроить конец света, и он в равной степени любит ее и боится.
Без нее он не смог бы продвинуться так далеко, и они оба это понимают. Асфодель дала ему знания и указала путь, но ему не хватало необузданной силы кого-нибудь вроде Ли Барроу, созданной, чтобы служить проводником для энергии звезд.
Она смотрит на него и замирает, ее лицо темнеет, как небо перед грозой.
– Где он?
– Это была отличная работа, – отвечает он. – Ты должна собой гордиться.
Ее лицо становится еще темнее.
– Ты сломал его, – обвиняет она его.
– Прежде чем Дэниелс с ним расправился, он убил двух подмастерьев, практически магистров, и, даже умирая, дал мне возможность, которая была мне нужна. Зрелище было поистине впечатляющее.
Ли колеблется: в ней борются гнев оттого, что с ее собственностью так обошлись, и гордость. В конце концов она, нахмурившись, сообщает:
– С вашими кукушатами что-то произошло. Сразу с двумя парами. Если это не синергия, то я не знаю, что это.
Сердце в груди у Рида подпрыгивает. Кукушата делают успехи как раз в тот день, когда пал барьер на пути к его собственному успеху.
– Что за пары?
– Средняя – Сет и Бет; младшая – Роджер и Доджер.
Произнося имена, она морщит нос. У Ли есть свои странности, и ненависть к рифмованным именам кукушат – самая незначительная.
– Что случилось со средней парой?
– Несчастный случай. – Ее голос остается ровным, но в глазах плещется безмолвная ярость. – Бет – у которой контроль в паре – убедила семью поехать на каникулы в «Мир Диснея». Разумеется, это была уловка.
– Разумеется, – соглашается Рид.
Это были дети Земли и Воздуха. Бет поместили в семью в центральной части Канады, в Саскачеван, а Сета – в семью в самой южной точке Флориды, на остров Ки-Уэст. И если она убедила приемных родителей поехать во Флориду, это могло означать только одно: они каким-то образом установили контакт – и пытались встретиться.
– Похоже, это и правда несчастный случай. Отец вел арендованную машину, слишком устал после перелета и не справился с управлением. Они перевернулись и разбились в полумиле от «самого счастливого места в мире». – Ли горько улыбается, и в этой улыбке столько же радости, сколько холодного праведного гнева. – Бет погибла на месте. У Сета случилась аневризма во время презентации на школьном академическом совете. Бедного парня обвиняли в плагиате. Он умер, даже не успев упасть на пол.
– Что с телами? – вопрос звучит резко, и Ли, заметив это, берет себя в руки.
– Уже на пути сюда, – отвечает она уже более спокойно. – Девочка довольно сильно изуродована, но мы сможем получить достаточно ткани для анализов. Мальчик полностью цел, за исключением кровоизлияния в мозг. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что, если убить кого-нибудь одного из пары, есть немалый шанс, что тем самым мы убьем и второго. Через несколько лет это значительно облегчит задачу снайперам. – Она делает паузу, а затем добавляет: – Теперь понятно, почему Эрин в таком состоянии. Но она была не так сильно привязана к своей паре и, скорее всего, выживет.
– Ты сказала, что есть новости и по поводу младшей пары.
– Роджер Миддлтон и Доджер Чезвич. Да. Они восстановили контакт.
Повисает тишина. Не легкая приятная тишина между друзьями и даже не колюче-проволочная тишина между врагами. У этой тишины зубы и когти, она готова броситься на свою добычу и уничтожить ее. Эта тишина причиняет боль.
– Что значит «они восстановили контакт»? – медленно спрашивает Рид.
– Чезвич участвовала в шахматном турнире. Они играли в Бостоне. Миддлтон оказался в числе зрителей. Видели, как они разговаривали после игры. Она выглядела расстроенной.
– А он?
– Он… Вы представляете выражение на лице ребенка сразу после того, как его любимый щенок превратился в кровавую лепешку посреди шоссе? Когда он не может осознать, что произошло, и просто стоит в шоке и ступоре, пока кто-нибудь не скажет, что он должен чувствовать? Он выглядел именно так. Словно его застигли врасплох. – Ли качает головой. – В их паре контроль у него, а он не может взять себя в руки, всего лишь встретив своего воображаемого друга. Мы должны убрать их, начать все заново и создать что-нибудь повыносливее. И вырастить в лабораторных условиях. Мои подопечные…
– …не являются предметом обсуждения, – резко обрывает ее Рид. – Это все? Они договорились встретиться? Их видели вместе после этого?
– Нет. Девочка ушла. Мальчик ушел с другой девочкой – она хорошенькая, совершенно натуральная, без всяких штучек, мы могли бы подстроить ее под наши нужды, если бы начали прямо сейчас, – и ей явно не понравилось, что он разговаривал с мисс Чезвич. Учитывая, как ведут себя мальчики в подростковом возрасте, возможно, ситуация разрешилась сама собой.
– Ты говоришь о единственной паре птенцов, которая смогла установить независимую связь без физического контакта, – говорит Рид. – Они нашли друг друга, потому что были одиноки и нуждались друг в друге. Ты представляешь, какой это огромный скачок?
– Меня не волнует, какой это огромный скачок, – отвечает Ли. – В проекте не предусмотрена такая линия развития событий. Это небезопасно, это неправильно, и для успешного проявления Доктрины в этом нет необходимости. Это не то, что мы планировали. Мы не можем это контролировать. Мы должны признать их негодными экземплярами. К этой встрече нужно отнестись со всей строгостью.
Совершенно ясно, что представляет собой эта «строгость»: у Ли нет полумер. Если бы он позволил, она бы разобрала этих кукушат по кусочкам – до самых атомов, чтобы выискать место, где свинец превращается в золото, а плоть становится космическим началом вселенной. Рид холодно глядит на нее. Он не скажет ей «нет», во всяком случае прямо, потому что Ли редко бывает полностью неправа; она понимает глубинные переплетения проекта так, как понимает разве что он сам. И ее взор не застилает туман человеческого милосердия.
Но соглашаться на ее предложение он тоже не собирается. Они потратили слишком много времени, слишком много ресурсов, чтобы оборвать все в шаге от блаженной победы. Пока проект не представляет настоящей опасности, он продолжит развиваться. Дорога к Невозможному городу всегда принимала случайных путников. Порой ему кажется, что это и есть единственный способ на ней оказаться.
– Как они осваивают свои характеристики?
Ли смотрит на него угрюмым ненавидящим взглядом и молчит.
Рид вздыхает. Иногда, как это ни тоскливо, приходится напоминать ей, кто она, и кто он, и почему она здесь находится.
– Тебя можно заменить, Ли. Это будет горькая утрата, я буду по тебе скучать, но тебя можно заменить.
– Мальчик говорит на семи языках и хочет заниматься еще больше, – говорит Ли, и ее глаза все еще горят ненавистью. – Мягкое небо у него осталось подвижным, и он может произнести любой звук. Он еще не догадался, насколько это необычно и что с точки зрения природы он урод. Может, никогда и не догадается. Смотря сколько времени он будет оставаться в рабочем состоянии. Девочка играет в шахматы на уровне гроссмейстера. Она могла бы сделать карьеру, но ей это неинтересно; она предпочитает заниматься чистой математикой. Вероятно, она и будет ей заниматься, когда ее родители прекратят настаивать, чтобы она вела нормальную жизнь. Как будто у нее был шанс на нормальную жизнь.
Ли источает яд, и он не связан ни с чем из того, о чем она только что говорила; что-то сидит у нее внутри – холодное и нечеловечески жестокое.
Рид ничего не говорит. Он смотрит на нее и ждет.
Долго ждать не приходится.
– Это неудачный эксперимент, – наконец взрывается она. – Мальчик уже мог бы стать королем – он может заставить кого угодно сделать что угодно, стоит ему только щелкнуть пальцами и выразить желание вслух, – а он чем занимается? Академическое десятиборье, подружки, мертвые языки… Мы же собирались делать орудия, инструменты, а не ученых, которые боятся собственной тени. А девочка! Она социально не адаптирована, она замкнулась в себе и не способна нормально функционировать, она ни разу не смеялась с тех пор, как мы прервали контакт. Нужно вычистить это поколение и начать заново.
– Это ты предложила разорвать первоначальный контакт, Ли. Это ты обращалась к астрологическим картам Галилея и доказывала, что, если их орбиты пересекутся слишком рано, это пагубно скажется на их развитии. Я к тебе прислушался, потому что раньше ты оказывалась права. Теперь ты говоришь, что разрыв контакта мог им навредить и поэтому нужно изъять их из проекта. Так что из этого правда? Когда мы их разделили, мы послужили Доктрине во благо или во вред?
– Я говорила держать их на расстоянии друг от друга, а не отправлять в реальный мир. Если мы и помешали проявлению Доктрины, то только потому, что они не были сделаны должным образом, – говорит Ли. – Если кувшин лопается при охлаждении, это не значит, что его не надо было охлаждать. Обожженное изделие всегда нужно охлаждать. Но иногда в самом процессе изготовления что-то идет не так, и появляются места, где глина не схватывается, как надо. Я не виновата, что глина плохая. Я не виновата, что они не выдерживают обжига.
– Может быть, и нет, но я считаю, ты слишком торопишься признать их непригодными, – говорит Рид. Теперь он понимает, почему ей хочется избавиться от этих кукушат, понимает гораздо лучше нее самой. Ли жаждет разрушения, возможности сломать старое и освободить место новому, потому что ее истинная цель – совершенство, та грань, за которой больше нечего улучшать. Для нее их кукушата – новый виток на спирали эволюции, но они все еще несовершенны.
– А я считаю, что вы слишком торопитесь признать их идеальными.
– Чего ты от меня хочешь?
– Давайте начнем сначала. Теперь мы знаем гораздо больше; у нас есть четкие представления о том, что мы лепим: какие нам нужны формы, какие углы. Мы можем сделать их лучше.
Все это правда. Нужно найти компромисс.
– Я позволю тебе создать следующее поколение кукушат, и пусть они тоже участвуют в гонке, но ты должна оставить все мысли об устранении этой пары. Я хочу посмотреть, чего они смогут достичь, если предоставить их самим себе. Они развиваются, становятся чем-то новым. Когда Доктрина проявится, это тоже будет нечто совершенно новое.
И в то же время это будет самая древняя вещь на свете – та нота, что зарождается сама по себе, проникает всюду и творит реальность. Невозможно сказать, как близко эта пара кукушат подошла к воплощению, – корабль плывет в неизведанных широтах. Нет ни карты, ни компаса. Есть только проект, расстилающийся перед всеми, кто в него вовлечен, незыблемый и неизменный.
Это алхимия совершенно иного рода, и магистры могли о ней только мечтать. Парацельс, Пифагор, Бейкер – никто из них не поднялся так высоко и даже близко не подошел к осуществлению всех своих замыслов.
Мгновение Ли просто смотрит на него, но затем склоняет голову и соглашается:
– Пусть живут.
– Хорошо. – Он наклоняется к ней и целует в лоб, воображая, что слышит, как в клетке из слоновой кости – ее скелете – шуршат перья и опавшие листья. Она опасна, эта конструкция из мертвых женщин и живых паразитов. Она яркая, гениальная, и, если он не будет осторожен, она однажды убьет его. Если он ей это позволит. – Помни о том, что предначертано. Верь.
– Я всегда верю, – отвечает она.
– А сейчас позови своих людей. Я хочу, чтобы беспорядок наверху убрали прежде, чем взлетит самолет.
Он разворачивается и уходит.
Ли Барроу умеет сохранять спокойствие. Она родилась в неподвижности, а умрет в движении. Между этими двумя крайностями – напряжение сжатой пружины, нож за миг до броска, затишье перед бурей. Она спокойно и холодно смотрит вслед уходящему Риду – своему наставнику, возлюбленному, хозяину и сопернику, все вместе под несовершенной человеческой оболочкой.
Только когда он сворачивает за угол и исчезает, она приходит в движение, потенциал превращается в действие, и, развернувшись, она, словно кошка, бежит по темному коридору. Она не включает свет. Даже если бы она не так хорошо видела в темноте, она все равно знает этот путь наизусть. Она ходит здесь каждый день уже много лет. Ей не нужны визуальные опоры, чтобы понять, куда двигаться, а если бы они были, она бы не знала, что с ними делать.
Ли знает, что в основу ее существования заложено противоречие. Она существует как человек, ученый; она помнит с полдюжины аспирантур и сверх того еще с полдюжины дополнительных дисциплин. Ее кости были изъяты из могил или со смертного одра у тринадцати блистательных женщин – и, если их смерть была делом рук давно почившего алхимика, а не частью естественного хода природы, она им не сочувствует. Чтобы она появилась, они должны были умереть. Она – женщина-палимпсест, жительница страны Под-и-Над, вызванная к свету и блеску современного мира, и, если женщины, из которых ее сделали, не хотели умирать, им следовало быть более осторожными. Им следовало запереть двери и закрыть окна, а не впускать в них тень, которая может проскользнуть внутрь, как тать в ночи, с ножами в руках и жаждой наживы в сердце. Им следовало знать
