Рассказчик
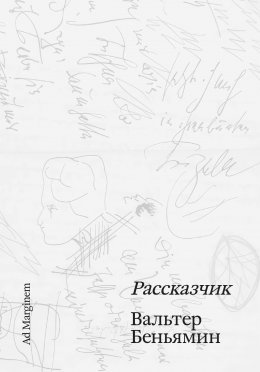
Walter Benjamin
Der Erzähler
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Рассказчик
Размышления о творчестве Николая Лескова
I. Рассказчик – как бы знакомо это слово ни звучало – всё же не явлен нам сегодня всецело в своей живой деятельности. Рассказчик – нечто от нас уже далекое и всё больше отдаляющееся. Вывести как рассказчика того же Лескова[1] означает не приблизить его к нам, а напротив, увеличить дистанцию между ним и нами. При взгляде с известного отдаления простые, крупные черты, определяющие рассказчика, в нем возобладают. Или, лучше сказать, они проступят в нем так, как для смотрящего, взявшего нужную дистанцию и верный угол зрения, в каменной скале может показаться человеческая голова или фигура зверя. Эту дистанцию и этот угол предписывает нам опыт почти каждодневный. Он учит нас, что искусство рассказа близится к своему концу. Всё реже встречаются люди, которые умели бы что-нибудь порядочно рассказать. Всё чаще замешательство охватывает компанию, когда кто-нибудь просит рассказать историю. Как будто у нас отнимается то состояние, которым мы, казалось, владели безраздельно и неотчуждаемо, вернее верного: мы теперь не в состоянии больше обмениваться опытом.
Одна из причин этого явления очевидна: опыт упал в цене. И кажется, что падению этому не будет конца. Достаточно заглянуть в свежую газету, чтобы убедиться, что оно достигло нового дна, что за ночь образ не только внешнего, но и нравственного мира претерпел такие изменения, в возможность которых никто в жизни бы не поверил. С началом Мировой войны заявил о себе процесс, с тех пор не останавливавшийся. Разве не заметили мы к концу войны, что с поля боя люди возвращались онемевшими? Не богаче опытом, который можно было бы передать, а беднее? То, что уже спустя десять лет выплеснулось половодьем военной литературы, было чем угодно, но только не изустным опытом. И неудивительно. Ибо никогда еще опыт не опровергался так основательно, как оказался стратегический опыт опровергнут позиционной войной, экономический – инфляцией, телесный – механизированными боями, нравственный – властителями. Поколение, еще ездившее в школу на конках, стояло теперь под открытым небом в таком пейзаже, где прежнего не осталось ничего, кроме одних облаков, – а под ними, в силовом поле разрушительных токов и разрывов – маленького, хрупкого человеческого тела.
II. Опыт, переходящий из уст в уста – это источник, из которого черпали все рассказчики. И среди тех, что свои истории записали, величайшими будут те, чья запись менее всего отступает от речи сонма безымянных рассказчиков. Нужно заметить, что эти последние делятся на две группы, всячески, конечно, друг с другом пересекающиеся. И полную осязаемость фигура рассказчика получит лишь для того, кто представит себе обе эти группы. «Кто проделал дальний путь, тот найдет что рассказать», – говорят в народе[2] и рассказчика себе представляют как человека, явившегося издалека. Но с не меньшей охотой слушают и того, кто, честно добывая свой хлеб, оставался в родном краю и знает его истории и предания. Если мы пожелаем представить обе эти группы в лице их архаических представителей, то одна получит свое воплощение в оседлом земледельце, а другая – в торговце-мореплавателе. В самом деле, две эти жизненные сферы произвели, можно сказать, каждая свою породу рассказчиков. И обе породы сохранили некоторые свои качества и в последующих столетиях. Так, среди новейших немецких рассказчиков Гебель[3] и Готтхельф[4] принадлежат к первой, а Силсфилд[5] и Герштекер[6] – ко второй. Впрочем, как уже сказано, речь в обоих случаях идет лишь об основных типах. Реальный охват царства повествований во всём его историческом размахе немыслим без глубочайшего взаимопроникновения двух этих архаических типов. Такому проникновению особенно способствовало Средневековье с его ремесленным укладом. Оседлые мастера и странствующие подмастерья трудились вместе в одних каморках; и всякий мастер успевал постранствовать подмастерьем, прежде чем оседал в родном или чужом краю. И если крестьяне и мореплаватели были древними корифеями рассказа, то ремесленная мастерская стала его высшей школой. В ней вести о чужих краях, которые приносит домой много странствовавший, сплетались с вестями из прошлого, что охотней всего открываются оседлому жителю.
III. Лесков чувствует себя как дома в чуждых краях как пространства, так и времени. Он принадлежал к греко-православной церкви, будучи притом человеком, искренне интересовавшимся религией. Был он, однако, и не менее искренним противником церковной бюрократии. А так как светское чиновничество претило ему не меньше, то официальные посты, на которые он попадал, оказывались недолговременны. Для творчества его, по-видимому, больше всего пользы принесло то место, на котором он долго продержался в качестве русского представителя одной крупной английской фирмы. По делам этой фирмы он объездил всю Россию, и поездки эти весьма способствовали как его знанию жизни, так и знакомству с положением дел в России. Тогда-то он и получил возможность познакомиться с русским сектантством. Оно оставило свой след в его рассказах. В русских легендах Лесков увидел союзника в той борьбе, которую вел против православной церковной бюрократии. У него есть целый ряд рассказов-легенд[7], в центре которых стоит праведник; реже это будет аскет, а по большей части – простой и трудолюбивый человек, который как бы самым естественным в мире образом делается святым. Мистическая экзальтация – не его стихия. Как ни любил Лесков порой увлечься чудесным, в самом своем благочестии он всегда предпочитает осязаемо-натуральное. Образец он видит в человеке, который прочно стоит на земле, не слишком при этом за нее цепляясь. Ту же позицию выказывал Лесков и в мирских делах. Вполне соответствует ей то, что писать он начал поздно, двадцати девяти лет от роду. Произошло это после его торговых поездок. Первая его публикация называлась «Почему в Киеве дороги книги?»[8]. Ряд последовавших работ о рабочем классе, о пьянстве, о полицейских врачах[9], о безработных торговцах[10] предвосхищал его рассказы.
IV. Нацеленность на практический интерес – отличительная черта многих прирожденных рассказчиков. Куда более выражена, нежели у Лескова, была она у того же Готтхельфа, который своим крестьянам давал советы по хозяйству[11]; ее же видим мы у Нодье, который подвергал себя опасностям газового освещения[12]; в том же ряду окажется Гебель, вложивший в свой «Ларчик» краткие естественнонаучные наставления для читателей. Всё это указывает на то, как обстоит дело со всяким подлинным рассказом. Он, в явном или скрытом виде, несет с собой пользу. Польза эта может скрываться иной раз в морали, иной раз в практическом наставлении, или в пословице, или в жизненном правиле – во всяком случае рассказчик есть тот, кто знает, как быть, и умеет дать слушателю совет. Если же «знать, как быть» на наш сегодняшний слух начинает звучать старомодно, то виной здесь то, что всё более снижается сообщаемость опыта. Вот и не знаем, как быть – ни нам, ни другим[13]. Ведь совет о том, как быть, – не столько ответ на вопрос, сколько предложение возможного продолжения некой истории (как раз сейчас развертывающейся). Чтобы спросить совета, прежде всего надо хотя бы уметь эту историю рассказать. (Не говоря уж о том, что человек лишь постольку открыт к советам, поскольку он умеет высказать свое положение.) Совет, вплетенный в ткань живой жизни, есть мудрость. Искусство рассказа клонится к концу, ибо умирает эпическая сторона истины, мудрость. Этот процесс, однако, начался давно. И не было бы ничего глупее, чем пытаться усмотреть в нем одно только «явление упадка» или тем более явление «современное». Нет, это лишь побочное явление секулярных исторических производительных сил, которое понемногу изъяло повествование из области живой речи и одновременно с тем дало в исчезнувшем ощутить новую прелесть.
V. Первый признак того процесса, с завершением которого совпадает гибель рассказа – это появление в начале Нового времени романа. Роман от рассказа (и вообще от эпического в узком смысле) отличает его сущностная привязка к книге. Распространение романа становится возможно лишь с изобретением книгопечатания. Устно передаваемое, это достояние эпоса качественно отличается от того, что составляет сущность романа. Роман на фоне всех прочих форм прозаического сочинительства – сказки, саги, даже новеллы – выделяется тем, что не выходит из устной традиции и в нее не перетекает. Однако прежде всего это отличает его от рассказывания. Рассказчик то, что рассказывает, берет из опыта – из собственного или ему поведанного. Всё это он вновь превращает в опыт – опыт тех, кто его истории слушает. Романист от людей удалился. Родильная палата романа – это индивид в своем одиночестве, который о самых насущных своих заботах уже не может высказываться в пример другим, который сам растерян и никому ничего не умеет посоветовать. Писать роман – значит в изображении человеческого бытия до предела доводить несоизмеримость. Посреди жизненной полноты и через представление этой самой полноты роман возвещает глубокую растерянность живущего. Первая великая книга этого жанра, «Дон Кихот», с порога учит нас, что великодушие, отвага, сострадание одного из благороднейших мужей – собственно, Дон Кихота – совершенно растерянны и не несут ни малейшей искры мудрости. Если с течением столетий вновь и вновь предпринимались попытки – а самая удачная, быть может, в «Годах странствий Вильгельма Мейстера» – вложить в роман поучение, то эти попытки всякий раз доводили до искажения самой романной формы. Роман воспитания, напротив, никоим образом не отклоняется от принципиальной романной структуры. Интегрируя общественный жизненный процесс в развитие личности, он дает самое хилое из возможных оправданий для определяющих этот процесс порядков. Их легитимация идет вразрез с их действительностью. Именно в романе воспитания недостаточность становится событием[14].
VI. Преобразование эпических форм следует представлять себе совершающимся в ритмах, сравнимых с ритмами тех превращений, которые в ходе тысячелетий претерпела земная поверхность. Едва ли где формы сообщения у людей выстраивались медленнее, и едва ли где они медленнее утрачивались. Роману, корнями уходящему в античность, потребовались сотни лет, прежде чем он в становлении буржуазии нашел те элементы, что способствовали его расцвету. С появлением этих элементов рассказ тут же начал понемногу отступать в архаику; он, хотя и овладел всевозможным новым содержанием, однако по-настоящему им не определялся. С другой стороны, мы видим, как с завершившимся оформлением господства буржуазии, к важнейшим орудиям которой в эпоху развитого капитализма принадлежит пресса, на первый план выступает такая форма сообщения, которая, сколь бы давними ни были ее истоки, никогда до сих пор не оказывала решающего влияния на эпическую форму. Теперь она это делает. И обнаруживается, что рассказу эта новая форма чужда не менее, однако куда более для него опасна, чем для романа – которому она, впрочем, тоже со своей стороны готовит кризис. Эта новая форма сообщения есть информация.
Вильмесан, основатель «Фигаро»[15], сущность информации определил в известной формуле. «Для моих читателей, – говаривал он, – пожар на чердаке в Латинском квартале важнее революции в Мадриде». С разительной ясностью следует отсюда, что теперь усерднейшего слушателя найдут уже не вести, приходящие издалека, а информация, дающая точку опоры для ближайшего. Вести, приходившие из дальних краев – будь то пространственно дальние края чужих земель, будь то по времени дальние края традиции, – имели такой авторитет, который давал им силу даже там, где они не поддавались проверке. Информация же заявляет притязание на мгновенную перепроверяемость. Тут первейшим делом будет то, чтобы она представала «понятной сама по себе». Информация зачастую бывает не более точна, чем вести минувших столетий. Но в то время как последние нередко черпали из запасов чудесного, информация непременно должна звучать достоверно. Тем самым она оказывается несовместима с духом рассказа. Если искусство рассказа сделалось редкостью, то решающую роль в этой ситуации сыграло распространение информации.
Каждое утро приносит нам новинки со всего света. И всё же на замечательные истории мы бедны. Это оттого, что до нас не доходит уже ни одного события, не пересыпанного объяснениями. Иными словами: из происходящего почти ничего не остается рассказу, и почти всё достается информации. Ведь искусство рассказа наполовину состоит в том, чтобы, передавая историю, избавить ее от объяснений. В этом Лесков – мастер (вспомним вещи вроде «Обмана» или «Белого орла»). Необычайное, чудесное пересказывается с величайшей точностью, но психологическая укладка происходящего читателю не навязывается. Он волен уяснять себе дело так, как сам его понимает, и тем самым повествование достигает такого размаха, какого информация лишена.
VII. Лесков учился в школе древних. У греков первым рассказчиком был Геродот. В четырнадцатой главе третьей книги его «Историй» есть история, которая может многому научить. Это история о Псаммените[16]. Когда египетский царь Псамменит был разбит и пленен царем персов Камбисом, Камбис вознамерился Псамменита унизить. Он повелел усадить Псамменита на дороге, по которой должно было пройти триумфальное шествие персов. А затем устроил так, чтобы пленный царь увидел, как его дочь в рабском платье с кувшином пройдет мимо него по воду. В то время как все египтяне при виде этого зрелища плакали и стенали, Псамменит один стоял безмолвно и неподвижно, вперив глаза в землю; и всё так же недвижим он оставался, когда вслед за тем увидел своего сына, которого вели с триумфальным шествием на казнь. Однако увидав затем в рядах пленников одного из своих слуг, старого, лишенного всего человека, он стал бить себя по голове кулаками и выказывать глубочайшую скорбь.
Из этой истории можно видеть, как обстоит дело с подлинным рассказом. Информация вознаграждается в то мгновение, в которое она нова. Она жива лишь в этом мгновении, она должна целиком отдаться ему во власть и, не теряя времени, перед ним объясниться. Не то – рассказ; он себя не растрачивает. Он свои силы хранит в сосредоточении и способен развернуться еще спустя долгое время. Так Монтень вернулся к рассказу о египетском царе и спросил себя: «Отчего он плачет только при виде слуги?» Монтень отвечает: «Так как он уже был переполнен скорбью, надо было добавить самую малость, и тогда плотина прорвалась»[17]. Так говорит Монтень. Но можно было бы сказать и так: «Царя не трогает судьба царевны с царевичем, ибо это его собственная судьба». Или: «Нас на сцене трогают многие вещи, не трогающие нас в жизни; этот слуга для царя – просто актер». Или: «Большая боль накапливается, и лишь расслабление прорывает запруду. Вид этого слуги принес расслабление». Но Геродот ничего не объясняет. Его повествование из всех самое сухое. Потому эта древнеегипетская история столетия спустя еще способна вызывать изумление и побуждать к размышлению. Она подобна семенам, что тысячи лет пролежали наглухо запертыми в кладовых пирамид и до сегодняшнего дня сохранили всхожесть.
VIII. Нет ничего, что надежнее преподавало бы истории нашей памяти, чем эта стыдливая сжатость, уводящая их от психологического анализа. И чем естественней рассказчику удастся обойтись без психологической нюансировки, тем вернее его истории займут место в памяти слушателя, тем ловчее они приладятся к его собственному опыту и с тем большей готовностью он в конце концов в один прекрасный день, близкий или далекий, перескажет их другим. Этот процесс ассимиляции, протекающий на глубине, требует расслабленного состояния, которое нынче всё больше становится редкостью. Если сон есть высшая точка телесного расслабления, то высшая точка духовного расслабления – скука. Скука – это птица мечты, высиживающая яйцо опыта. Шорох газетной листвы гонит ее прочь. Ее гнездовья – занятия, тесно со скукой связанные, – в городах уже исчезли и в деревне тоже пропадают. С ними утрачивается дар слушания и исчезает сообщество слушающих. Ведь искусство рассказывать истории – это всегда искусство их пересказывать, и когда люди перестают эти истории запоминать, оно пропадает. Пропадает оно, потому что, слушая истории, люди уже больше не прядут и не ткут. Чем самозабвеннее слушающий, тем глубже в нем отпечатывается услышанное. Когда он захвачен ритмом труда, истории он слушает так, что дар пересказывать их достается ему сам собой. Вот, стало быть, как устроена сеть, в которую уложен дар повествования. И вот как сегодня она, сплетенная тысячелетия назад в сфере древнейших форм ремесла, распускается по всем краям.
