Алексей Иванов. Бронепароходы. Рецензия
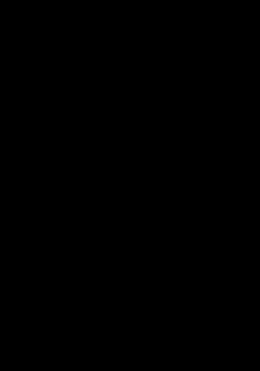
Впечатления
Итак, я начинаю «Бронепароходы» Алексея Иванова. Признаюсь, мне даже страшновато. Счётчик в читалке показывает тысячу сто с лишним страниц. Если бы я читал в бумаге, цифры были бы поскромнее, но всё равно. Вот уж, «труд этот, Ваня, был страшно громаден…» От меня, видимо, потребуются тоже вполне титанические усилия – это я так настраиваюсь.
Почему всё же Иванов? Видимо, решение отчасти интуитивное, потому что я продолжаю задавать себе этот вопрос.
Иванова я читал пока только «Географа…», который был написан ещё в 95-ом, и открытые источники до сих пор называют его лучшей книгой автора.
Всё, что написано после Географа в основной массе глубоко историческая проза. При этом историки ее, вроде как, не слишком жалуют. Ну а я исторический фикшн вообще не очень, а уж если я начинаю подозревать, что там вообще (страшно представить) ещё и фэнтези. Чур меня, одним словом.
Но при этом всё-таки Иванов адски популярен. Не в последнюю очередь, наверное, благодаря Косте Хабенскому. Экранизация, безусловно, сделала Географа эдаким лонгселлером. Но ведь и после Географа автор отчеканил уже изрядно. Видимо пришло время и мне проверить на зуб. Поэтому я здесь.
А роман между тем уже начался, и начался он с весьма художественного описания эпохи. На этом месте вполне мог бы располагаться какой-то бунинский пейзаж с видовыми названиями растений, формой листьев и другими терминами из ботанического справочника. У Иванова же здесь в принципе почти тоже самое, но вместо явлений природы – войны и революционные вихри, народные массы и уходящий в прошлое уютный патриархальный быт. Такая вот ботаника.
Что там с первым впечатлением? – Ну норм. Отторжения нет.
Я уже знаю, что одновременно с художественной эпопеей автор выпустил нечто документальное про речфлот вообще и вроде как такое же нескромное по габаритам. Поэтому я заранее готов к тому, что привкус ивановская ботаника будет иметь вполне конкретный. К речфлоту же у меня никакой аллергии. Читаем дальше.
Что ж, не хочу торопиться с выводами на полутора процентах прочитанного, но мне пока всё нравится. Уже упомянул вполне поэтично обозначенный хронотоп. Далее сцена расстрела Великого князя довольно четко конкретизирует время и место. Может не слишком самобытно, скорее по-ремесленному, но определенно мастеровито и с должным вниманием к деталям. Начинаю думать, что может мне и не всегда требуется испытывать множественных восторгов от сверх таланта безумной яркости, но испытывать спокойное лучистое счастье от добротно сотканной прозы, в которой всё на месте и ничто не раздражает. Скажете, это дурновкусие? Я вот пока не решил. Возможно, настроение такое, а может описываемая эпоха располагает к подобному восприятию.
Ну а автор тем временем к наспех загрунтованному холсту хронотопа начинает неспеша примётывать действующих лиц. Делает он это на мой взгляд аккуратно, и мне опять не к чему придраться. У каждого отчётливый ореол своей предыстории. Имена не путаются, событийная канва прорисовывается и оживает. Р – ремесло! Да, с большой буквы, никак не иначе.
Ну вот почему так? Вроде же всё нормально шло, и читается бодро и гладко. Почему я все время нахожу, к чему прицепиться?
Наверное, это в какой-то степени неизбежно. Описывая значительные временные пласты автору, просто приходится вываливаться изнутри непосредственного действия в ту или иную форму укрупненного пересказа событий. Иначе даже в десять тысяч страниц не уложиться. Ну а раз появляется пересказ, неизбежно возникает и голос самого автора. И вот к нему у меня вопросики. Точнее к его интонации. Она вроде бы нейтральная, но не совсем. Вернусь к ней, когда смогу поточнее сформулировать.
Ну а здесь я уже понял, что меня выносит. Здесь у этих описаний в интонации прячется эдакая усмешечка «в усы»:
«На заводе он познакомился с большевиками – и наконец-то понял, как стать особенным без особенных усилий. Большевики готовили мировую революцию, устраивали стачки, запасались оружием, печатали прокламации, сидели в тюрьмах. Тюрьма Ганьку не пугала – он везде сумеет поставить себя. А человек, пострадавший за убеждения, неизбежно обретал уважение и славу.»
То есть вроде бы понятно, что речь идёт о крайне драматичных и даже трагических событиях. До этого уже мы успели прочесть сцену жестокого и циничного расстрела. Ну и совершенно не вяжется эта легковесность и неуместная ирония.
Прочитав чуть дальше, я начинаю ощущать себя внутри приключенческого романа века, скажем, девятнадцатого. Ага, такой слегка замедленный, как в рапиде, экшн – с избыточными разъяснениями хода мысли, планов и намерений. Да с этими лекалами приключенческого жанра хорошо сочетается облегчённое преподнесение мировых войн и кровавых революций.
Неужели Бронепароходы – это всего лишь гигантский отечественный «жюльверн» для подростков, где главное действующее лицо тот самый речфлот и его могучие паровые машины?
Впрочем, тут я, скорее всего, забегаю вперёд. Может ещё и образуется. Я поправлюсь тут же. Напраслину возводить не стану.
