Правосудие в современной России. Том 1
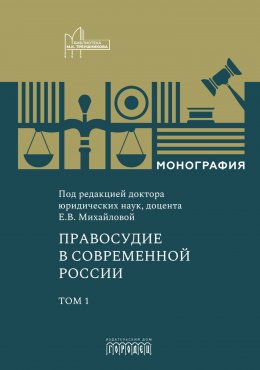
© Коллектив авторов, 2025
© ИГП РАН, 2025
© ИД «Городец», оригинал-макет (корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2025
@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Editor-in-Chief:
Mikhailova Ekaterina Vladimirovna – Doctor of Law, Associate Professor, Chief Researcher of the Procedural Law Sector of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences.
Reviewers:
Reshetnikova Irina Valentinovna – Doctor of Law, Professor of the Department of Civil Procedure of the V.F. Yakovlev Ural State Law University;
Zaitsev Oleg Vladimirovich – Doctor of Law, Professor, Dean of the Higher School of Jurisprudence of the Institute of Public Administration and Management (IPAM) of the Presidential Academy;
Potapov Vasily Jonovich – Doctor of Law, Professor, Director of the Law Institute of the Pitirim Sorokin Syktyvkar State University.
Justice in Modern Russia. Vol. 1: Мonograph / еd. by E.V. Mikhailova. – M.: Publishing House “Gorodets”, 2025. – 728 p.
This monograph is an interdisciplinary study of the problems that arise in the exercise of justice in various categories of cases. The authors proceed from the general idea that the judicial system of the Russian Federation is designed to protect not only individuals and legal entities, but also public legal entities. The monograph outlines the conceptual foundations of domestic justice and explores the current issues of civil, arbitration, administrative, and criminal proceedings.
The monograph will be useful for representatives of the legislative, judicial, and law enforcement systems of our country, prosecutors, notaries, scientists, teachers, postgraduate students, and students of law schools and faculties, as well as a wide range of readers interested in the problems that arise in the exercise of justice.
© The team of authors, 2025
© IGP RAN, 2025
© ID “Gorodets”original layout (layout,
proofreading, editing, design),
printing execution, 2025
Авторский коллектив
Екатерина Владимировна Михайлова – доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник и исполняющий обязанности заведующего сектором процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. I: § 1–7 гл. 1, § 8 гл. 1 (в соавторстве с А.А. Савенковым));
Артем Александрович Савенков – кандидат юридических наук, докторант Института государства и права Российской академии наук (разд. I: § 8 гл. 1 (в соавторстве с Е.В. Михайловой));
Михаил Иванович Клеандров – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института государства и права и член-корреспондент Российской академии наук (разд. I: гл. 2);
Никита Александрович Колоколов – доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, заведующий кафедрой судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского университета имени А.С. Грибоедова, судья Верховного Суда Российской Федерации в почетной отставке (разд. I: гл. 3);
Владимир Васильевич Дорошков – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации в почетной отставке (разд. I: гл. 4);
Вадим Вадимович Лошкарев – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области (разд. I: гл. 5 (в соавторстве с М.Ф. Мингалимовой));
Марьям Фердинандовна Мингалимова – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева (разд. I: гл. 5 (в соавторстве с В.В. Лошкаревым));
Андрей Александрович Соловьев – доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, профессор Московского педагогического государственного университета, председатель Арбитражного суда Московской области (разд. I: гл. 6);
Игорь Эдуардович Мартыненко – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса учреждения образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) (разд. I: гл. 7);
Константин Леонтьевич Чайка – доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. I: гл. 8 (в соавторстве с Е.Б. Дьяченко));
Екатерина Борисовна Дьяченко – доктор юридических наук, старший научный сотрудник сектора международного права Института государства и права Российской академии наук, советник судьи Суда Евразийского экономического союза (разд. I: гл. 8 (в соавторстве с К.Л. Чайкой));
Евгений Парфирьевич Губин – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Заслуженный юрист Российской Федерации (разд. II: гл. 1);
Светлана Алексеевна Чеховская – кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (разд. II: гл. 2);
Игорь Михайлович Мацкевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник прокуратуры (разд. II: гл. 3);
Сергей Федорович Афанасьев – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой арбитражного процесса, адвокатуры и нотариата Саратовской государственной юридической академии, заведующий сектором теории и отраслевых проблем правовой политики Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук, судья в отставке (разд. II: гл. 4 (в соавторстве с В.Ф. Борисовой));
Виктория Федоровна Борисова – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии (разд. II: гл. 4 (в соавторстве с С.Ф. Афанасьевым));
Максим Евгеньевич Поскребнев – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева (разд. II: гл. 5);
Алексей Евгеньевич Солохин – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук, государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда Российской Федерации (разд. II: гл. 6);
Василий Андреевич Лаптев – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, главный научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского права Института государства и права Российской академии наук, судья Арбитражного суда города Москвы в отставке (разд. II: гл. 7 (в соавторстве с С.Ю. Чучей));
Сергей Юрьевич Чуча – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. II: гл. 7 (в соавторстве с В.А. Лаптевым));
Нина Ивановна Соловяненко – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. II: гл. 8);
Константин Александрович Лебедь – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. II: гл. 9);
Григорий Вачаганович Вердиян – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (разд. II: гл. 10);
Маша Мишкович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белградского университета (Республика Сербия) (разд. II: гл. 11);
Петр Петрович Ланг – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета, судья Арбитражного суда города Москвы (разд. III: гл. 1);
Наиля Равильевна Сафаева – судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (разд. III: гл. 2);
Наталия Валерьевна Летова – доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. III: гл. 3);
Диана Аслановна Кокова – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, нотариус Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (разд. III: гл. 4);
Анна Викторовна Пушкина – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. III: гл. 5);
Лилия Владимировна Борисова – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук (разд. III: гл. 6);
Марина Николаевна Илюшина – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), заслуженный юрист Российской Федерации (разд. III: гл. 7);
Елена Михайловна Глушкова – кандидат юридических наук, доцент, член Комиссии по международному сотрудничеству Федеральной нотариальной палаты России, нотариус г. Екатеринбурга (разд. III: гл. 8);
Владимир Петрович Скобелев – кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям юридического факультета Белорусского государственно университета (разд. III: гл. 9).
Научные редакторы
Пушкина Анна Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук;
Лебедь Константин Александрович – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора процессуального права Института государства и права Российской академии наук.
Список основных сокращений
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 (с поправками от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, от 04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6-ФКЗ, от 04.10.2022 № 7-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ)
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации: Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)
КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
УГС – Устав гражданского судопроизводства от 20.11.1864
Прочие сокращения
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости
ЕКПЧ – Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод
ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека
Интерпол (Interpol) – Международная организация уголовной полиции
ООН – Организация Объединенных Наций
РАН – Российская академия наук
РФ – Российская Федерация
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СМ СССР – Совет Министров СССР
США – Соединенные Штаты Америки
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ФАС – Федеральный арбитражный суд
ФАС России – Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
ФНС РФ – Федеральной налоговой службы Российской Федерации
ЮНСИТРАЛ – Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
Иные сокращения
абз. – абзац(ы)
гл. – глава(ы)
п. – пункт(ы)
подп. – подпункт(ы)
разд. – раздел(ы)
ст. – статья(и)
ч. – часть(и)
Введение
Роль правосудия в правовом государстве переоценить нельзя. Можно с уверенностью утверждать, что без правосудия нет и самого государства. И напротив – справедливый суд (что, в общем-то, и есть правосудие!) свидетельствует о высокой степени социальной направленности государства, о его заботе о своих гражданах и об их правах, о его надежности и силе.
Четкого, единого понятия правосудия ни в законах, ни в научной литературе не отыскать. И это не случайно. Базовые, основополагающие понятия определить крайне трудно, почти невозможно. Что, например, есть добро и зло? Подспудно, однако, каждый человек ощущает, что есть добрый поступок, а что – злой. Так и с правосудием – каждый интуитивно связывает его с торжеством закона и порядка, с защитой, со справедливостью и непредвзятостью. Поэтому уровень доверия к суду – один из ключевых индикаторов состояния законности в обществе.
Представленная вашему вниманию научная монография посвящена не только поиску определения сущности правосудия. Ее основная цель – раскрыть порядок судопроизводства по самым разным категориям дел, выявить проблемные моменты, предложить пути их решения. Мы хотели, чтобы наша работа была в первую очередь полезной, и каждый, кто возьмет в руки нашу книгу, мог бы найти ответ на свой насущный вопрос.
Структура монографии отвечает конституционно закрепленным средствам отправления правосудия. В ней нашли отражение наиболее актуальные вопросы гражданского и арбитражного судопроизводства, уголовного судопроизводства, административного судопроизводства. Предваряет исследование раздел, посвященный фундаментальным основам правосудия.
Разумеется, правосудие – это судьи. Именно они его вершат. Поэтому наша работа была бы невозможна и совершенно бессмысленна без участия представителей судейского сообщества России. Мы бесконечно благодарны им – тем, которые в своей тяжелой, ответственной и необходимой всем и каждому работе нашли время и подготовили свои разделы. Свидетельствую, что ими двигало бескорыстное желание принять участие в совершенствовании действующей отечественной системы защиты прав, свобод и законных интересов, большой научный интерес и стремление внести свой вклад в юридическую науку. Выражаем глубокую признательность председателю Арбитражного суда Московской области, доктору юридических наук, профессору Андрею Александровичу Соловьеву, судье Арбитражного суда города Москвы, доктору юридических наук, доценту Петру Петровичу Лангу, судье Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиле Равильевне Сафаевой, председателю Тамбовского областного суда, кандидату юридических наук Наталии Анатольевне Бурашниковой.
Работа над монографией объединила, как уже было отмечено, специалистов самых разных отраслей права. Это признанные ученые, специализирующиеся в гражданском и арбитражном процессе, в административном судопроизводстве, в уголовном праве и уголовном процессе, в семейном праве, в трудовом праве и в праве социального обеспечения, исследователи проблем цифровизации правовой сферы и правосудия.
Отдельная благодарность адресуется нашим зарубежным коллегам, которые с радостью приняли участие в работе и познакомят читателя с отдельными вопросами правового регулирования отправления правосудия в Республике Беларусь (РБ) и Сербии. Это – заведующий кафедрой гражданского права и процесса учреждения образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь), доктор юридических наук, профессор Игорь Эдуардович Мартыненко, заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям юридического факультета Белорусского государственно университета, кандидат юридических наук, доцент Владимир Петрович Скобелев, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белградского университета (Сербия), кандидат юридических наук, доцент Маша Мишкович.
Основополагающие, фундаментальные вопросы, связанные с общетеоретическими проблемами определения сущности правосудия, его цели и задачи освещены судьей Конституционного Суда РФ в отставке, доктором юридических наук, профессором Михаилом Ивановичем Клеандровым и судьей Верховного Суда РФ в почетной отставке, доктором юридических наук, профессором Никитой Александровичем Колоколовым.
Особую ценность работе придает участие в ней наших коллег из ведущих центров высшего юридического образования в России. Фундаментальные вопросы, связанные с защитой прав и интересов субъектов предпринимательской и экономической деятельности, были раскрыты заведующим кафедрой предпринимательского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктором юридических наук, профессором Евгением Парфирьевичем Губиным. Вопросы, связанные с судебной и внесудебной защитой в цифровой предпринимательской среде, осветила ведущий научный сотрудник центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук Светлана Алексеевна Чеховская.
Об особенностях рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного действиями нотариуса, написала заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции, доктор юридических наук, профессор Марина Николаевна Илюшина. Нотариальные аспекты рассмотрения различных категорий споров раскрыли и сами нотариусы.
Раздел, посвященный административному судопроизводству, подготовлен благодаря усилиям наших коллег из Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде Российской Федерации – заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, доктора юридических наук, профессора Сергея Васильевича Никитина и членов возглавляемой им кафедры, а также декана юридического факультета Воронежского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Юрия Николаевича Старилова.
Вопросы, связанные с отправлением правосудия по уголовным делам, раскрыты в трудах начальника Юридического управления Росфинмониторинга, доктора юридических наук Ольги Николаевны Тисен; судьи Верховного Суда РФ в почетной отставке, профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ, доктора юридических наук, профессора Владимира Васильевича Дорошкова; профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ, доктора юридических наук, профессора Александра Викторовича Гриненко.
Мы также рады сотрудничеству с Луганской академией Следственного комитета Российской Федерации в лице ее ректора, кандидата юридических наук, доцента Сергея Николаевича Хорьякова и его коллег.
Представленная работа была бы неполной, если бы в ней не были отражены наиболее актуальные аспекты участия органов прокуратуры России в цивилистическом судопроизводстве и уголовном процессе. Выражаем глубокую благодарность за представление интереснейшего материала и сотрудничество ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору Игорю Михайловичу Мацкевичу и сотрудникам Университета прокуратуры Российской Федерации.
Выражаем глубокую признательность Мадине Муссаевне Долгиевой, доктору юридических наук, старшему прокурору второго отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за значительный вклад в настоящее исследование и представление интереснейшего и чрезвычайно актуального материала об уголовном производстве по делам, связанным с использованием дипфейк-технологий.
Выражаем благодарность за сотрудничество и содействие прокуратуре Самарской области и лично начальнику уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области, кандидату юридических наук, доценту Вадиму Вадимовичу Лошкареву.
Разумеется, правосудие по уголовному делу возможно только при условии законного, полного, правильного и своевременного расследования уголовного дела. Исключительный вклад в работу внес ректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент Алексей Александрович Бессонов.
Традиционно представляющие немалую сложность как для ученых, так и для судей вопросы судебно-экспертной деятельности, осуществляемой в рамках правосудия, раскрыты заведующим кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктором юридических наук, профессором Еленой Рафаиловной Россинской.
От души благодарим всех научных сотрудников Института государства и права Российской академии наук, принявших участие в этой работе: судью Арбитражного суда города Москвы в отставке, доктора юридических наук, доцента Василия Андреевича Лаптева; судью Арбитражного суда города Москвы в отставке, доктора юридических наук, профессора Сергея Юрьевича Чучу; судью Суда Евразийского экономического союза в отставке, доктора юридических наук Константина Леонтьевича Чайку; советника судьи Суда Евразийского экономического союза, доктора юридических наук Екатерину Борисовну Дьяченко; доктора юридических наук, профессора Сергея Федоровича Афанасьева; доктора юридических наук, профессора Сергея Борисовича Россинского; доктора юридических наук Наталию Валерьевну Летову; кандидата юридических наук Нину Ивановну Соловяненко; советника отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда РФ, кандидата юридических наук Алексея Евгеньевича Солохина; кандидата юридических наук, доцента Анну Викторовну Пушкину; кандидата юридических наук, доцента Лилию Владимировну Борисову; кандидата юридических наук Константина Александровича Лебедя.
Между тем не будет преувеличением сказать, что при самых благоприятных условиях наша работа не состоялась бы без того неоценимого научного и общечеловеческого вклада, который внесла и в Институт государства и права Российской академии наук, и в развитие сектора процессуального права (ранее – сектор гражданского права, гражданского и арбитражного процесса) наш бессменный лидер и Учитель – доктор юридических наук, профессор Тамара Евгеньевна Абова. Благодаря ей мы, имея самые разные взгляды по самым разным вопросам, объединены общей научной основой, говорим на одном языке и – искренне надеемся – сохраняем одну научную школу и преемственность поколений.
И, несомненно, представленная вашему вниманию научная работа стала возможной только при полной поддержке директора Института государства и права Российской академии наук, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Александра Николаевича Савенкова, за что коллектив научных сотрудников выражает ему самую глубокую признательность.
Еще раз благодарю всех, чей научный труд лег в основу нашей книги. Надеюсь, что нас еще не единожды объединит совместная работа во благо нашего великого Государства и его многонационального народа.
С уважением, от лица всего
авторского коллектива,
Е.В. Михайлова,
доктор юридических наук, доцент,
член научно-консультативного совета
при Верховном Суде РФ
Раздел I
Концептуальные основы отечественного правосудия и его роль в жизни современного российского общества
Глава 1
Правосудие и судопроизводство в современной России: основные проблемы и перспективы совершенствования
§ 1. Правосудие в узком и широком смыслах
Российское государство обязуется осуществлять защиту прав и законных интересов человека и гражданина. Это прямо закреплено в ст. 2 Конституции РФ. Реализует эту обязанность судебная система России, а государственная деятельность по защите нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов называется правосудием.
Правосудие относится к числу фундаментальных категорий не только российской, но любой демократической, развитой правовой системы. Однако относительно соотношения понятий «правосудие» и «судопроизводство» среди исследователей нет единой позиции[1].
В научной литературе существуют различные трактовки термина «правосудие». Некоторые ученые предлагают под правосудием в широком смысле понимать деятельность не только судов, но и иных правоохранительных органов[2]. Есть точка зрения, в соответствии с которой в содержании правосудия следует выделять также судебный контроль[3]. С этим мнением следует согласиться, поскольку проверка нормативных правовых актов, а также актов, содержащих обязательное толкование норм действующего законодательства, сегодня входит в компетенцию как Конституционного Суда РФ, так и судов общей юрисдикции[4]. Но стоит добавить, что и в рамках арбитражного судопроизводства осуществляется судебный контроль – в порядке гл. 23 АПК РФ судом по интеллектуальным правам рассматриваются и разрешаются дела об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами[5].
В целом такое выделение в содержании правосудия судебного контроля не является, как уже было сказано, неверным, но вместе с тем если идти по этому пути, то можно также говорить и об охранительной (превентивной) функции правосудия. Конечно, суды, арбитражные суды рассматривают не только споры о правах или охраняемых законом интересах. Наряду с делами публично-правовой природы (в том числе об оспаривании нормативно-правовых актов) к их ведению отнесены дела особого производства, которое в дореволюционном законодательстве именовалось «охранительным»[6]. В.К. Пучинский указывал, что особое производство начинается заявлением, а не иском, и подает его заявитель, который ни к кому юридических претензий не имеет. Он лишь просит суд установить определенный юридический факт, либо признать наличие у него того или иного субъективного права[7].
Помимо искового и особого производств, в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства рассматриваются и разрешаются дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третейского суда (гл. 47.1 ГПК РФ, гл. 30 АПК РФ). Полагаем, что в них также реализуются контрольные полномочия суда – только уже не за содержанием нормативно-правовых актов, а за соответствием закону решений третейских судов (арбитражей).
Говоря иначе, суды разрешают гражданские дела как спорного, так и бесспорного характера, частноправовые и публично-правовые конфликты. При этом суд занимает особый правовой статус, а принципы процессуального права должны соблюдаться независимо от того, какое дело подлежит рассмотрению. Р.Е. Гукасян указывал, что состязательность пронизывает все гражданское судопроизводство, в том числе и особое производство. Поскольку процессуальный закон предусматривает необходимость привлечения к участию в деле заинтересованного лица, то, по мнению ученого, тем самым подтверждается состязательный характер особого производства[8].
Представляется, что понятие правосудия следует выводить из его общей цели, в качестве которой выступает защита и восстановление нарушенных или оспоренных субъективных прав, свобод и законных интересов субъектов российского права, иностранных лиц и лиц без гражданства.
Правосудие можно понимать как в узком, так и в широком смысле. Правосудие в узком смысле – это судебная деятельность, регулируемая процессуальным законодательством (рассмотрение и разрешение отнесенных к ведению суда дел). В правосудие в широком смысле включаются как собственно процессуальная деятельность судов по реализации судебной защиты, так и организационно-правовые отношения в сфере судоустройства, взаимодействия суда с другими органами государственной власти, гражданами и организациями в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения конкретных гражданских дел (например, правоотношения, возникающие между судом, гражданами или организациями в связи с истребованием находящихся у них доказательств, имеющих значение для дела).
На наш взгляд, правосудие наиболее полно характеризует основной, фундаментальный, конституционно закрепленный признак – правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Н.А. Колоколов справедливо отмечает, что судебная власть проявляется в судебно-властных, т. е. публичных, отношениях[9]. Н.А. Чечина, глубоко занимавшаяся проблемами гражданских процессуальных правоотношений, также отмечала их публичный характер[10]. Аналогичной точки зрения придерживались и дореволюционные русские процессуалисты – так, Е.А. Нефедьев указывал, что возникающее при отправлении правосудия по гражданскому делу правоотношение основано на власти и подчинении[11].
Разумеется, суды в своей повседневной деятельности занимаются не только рассмотрением и разрешением правовых конфликтов. Как и любые другие органы государственной власти, они осуществляют хозяйственную деятельность, делопроизводство, выступают в роли работодателей, государственных заказчиков и т. д. Поэтому далеко не любая деятельность суда является правосудием. Только деятельность суда, определяемая его предметной компетенцией, в сфере рассмотрения отнесенных законом к его ведению дел, может именоваться правосудием. Конституционный Суд РФ неоднократно обращал на это внимание – в частности, в постановлениях 2012 г.[12], 2014 г.[13], 2023 г.[14]
Выражение «правосудие в собственном смысле слова», используемое Конституционным Судом РФ, нам представляется наиболее удачным с точки зрения разграничения всех полномочий суда как органа государственной власти.
Итак, правосудие охватывает деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанную с реализацией ими предметной компетенции по рассмотрению и разрешению отнесенных законом к их ведению дел (правосудие в собственном смысле слова). Реализация судами прочих полномочий, входящих в их компетенцию и связанных с осуществлением необходимой хозяйственной и иной деятельности, правосудием не является.
§ 2. Цель и задачи правосудия
Задачи правосудия в Основном законе нашей страны не конкретизируются, но, на наш взгляд, неверно ограничивать их защитой только прав и свобод человека и гражданина. Несомненно, что правосудие также должно служить публичным интересам, защите конституционного строя России, прав российского государства, субъектов государства и муниципальных образований, обеспечивать защиту и восстановление общественных интересов.
Однако на сегодняшний день указание на защиту прав и интересов российского государства, его субъектов, муниципальных образований встречается не во всех процессуальных кодексах. В ст. 3 КАС РФ, посвященной задачам административного судопроизводства, говорится только о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений. Между тем совершенно необязательно, что именно публично-правовой субъект окажется нарушителем публичных прав и законных интересов. Его права и законные интересы также могут оказаться нарушенными действиями или бездействием граждан или организаций. В случае отказа в удовлетворении административного искового заявления правовую защиту получает именно административный ответчик, но несомненно, что защита публично-правовых образований должна быть четко закреплена как одна из задач административного судебного процесса. Справедливости ради подчеркнем, что в нормах АПК РФ и ГПК РФ она закреплена предельно четко (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ).
Легально не определено и соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». по нашему мнению, правосудие в собственном смысле слова и судопроизводство соотносятся как общее и частное: судопроизводство есть механизм, средство отправления правосудия, что прямо следует из содержания ст. 118 Конституции РФ. Именно поэтому цель и задачи каждого из видов судопроизводства закреплены в нормах действующего отраслевого процессуального законодательства.
Судопроизводство – это свод незыблемых правил рассмотрения и разрешения всех категорий дел, отнесенных к ведению суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Эти правила имеют императивный характер и обязательны для всех субъектов процессуального права, в том числе для суда. Судопроизводство в юридической доктрине иначе называют гражданской (арбитражной) процессуальной формой.
Ученые-процессуалисты советского периода очень четко выделяли процессуальную форму как необходимый признак правосудия[15]. Выдающийся ученый-процессуалист М.А. Гурвич писал, что главнейший признак правосудия – осуществление судебной деятельности по защите права в рамках императивной процессуальной формы[16]. Такой же позиции придерживаются и современные исследователи[17].
Можно утверждать, что еще одним фундаментальным признаком правосудия является облечение деятельности суда по рассмотрению и разрешению находящихся в его ведении дел в строгую, императивную, нормативную процессуальную форму. М.К. Треушников также указывал, что правосудие по гражданскому делу характеризуется следующими признаками: осуществляется от имени государства; деятельность судов имеет властный характер; постановления судов имеют обязательное значение[18]. О роли процессуальной формы отправления правосудия для определения его сущности писала и Т.Е. Абова[19].
В этом контексте нельзя не затронуть тенденцию последнего времени, заключающуюся в формировании такого явления, как «цифровое судопроизводство», «цифровизация правосудия», «электронное правосудие» и т. п. Распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19 форсировало использование цифровых информационно-коммуникационных устройств при отправлении правосудия. Необходимость соблюдения режима самоизоляции неизбежно повлекла широкое применение, например, участия в заседании посредством видеоконференции. Это дало основания утверждать, что сформировался отдельный вид судопроизводства (цифровое судопроизводство).
Отметим, что использование информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности – явление далеко не новое. Уже достаточно давно у всех заинтересованных лиц имеется возможность подать документы в суд посредством заполнения специальных форм на официальных сайтах судов, а также получать судебные извещения посредством электронных писем, смс-уведомлений и т. д., следить за движением любого дела. При этом нельзя сказать, что все указанные действия осуществляются исключительно при помощи цифровых технологий. За ними по-прежнему стоит человек[20].
Поэтому подача судебных документов в электронном виде в любом случае представляет собой правоотношение, складывающиеся между заявителем и ответственным работникам суда (т. е. судом), а никак не между заявителем и цифровым ресурсом. Следовательно, использование сайтов судов в сети «Интернет» для подачи документов – это не «цифровизация правосудия», а специальная форма реализации традиционных процессуальных правоотношений[21]. Особо подчеркнем, что она не исключает «традиционный способ» обращения к суду с письменными документами, а является лишь дополнительной, факультативной возможностью взаимодействовать с судом при наличии на это у заявителя соответствующего желания и технической возможности.
Что же касается возможности отправления правосудия путем рассмотрения и разрешения дел с использованием электронного интеллекта, то это будет прямо противоречить конституционному принципу осуществления правосудия только судом. Любое автоматически сгенерированное постановление (принятое без участия суда) не будет являться актом правосудия.
Не следует забывать и о том, что правовой статус суда как органа государственной власти, наделенного исключительными полномочиями по отправлению правосудия, предполагает наличие у судьи внутреннего убеждения. Далеко не все общественные отношения регулируются конкретными правовыми нормами, содержание большинства норм допускает множественное толкование, поэтому при рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел перед судом стоит задача определить применимый в деле нормативно-правовой акт, а также правильно истолковать регулирующий спорные правоотношения закон. В частности, суд применяет аналогию права и аналогию закона. Очевидно, что ни один электронный ресурс, даже наделенный способностью оперировать всей совокупностью норм действующего российского законодательства, не в состоянии выполнить указанную задачу[22].
Можно согласиться с тем, что «основным последствием такой практики станет понижение авторитета судьи. Ведь он уже не принимает, а лишь согласует решение, принятое программой. Также мы рискуем получить поколение некомпетентных судей, имеющих весьма поверхностные представления о правилах назначения наказания, так как их знать уже нет смысла»[23]. Кроме того, судьи несут установленную законодательством ответственность за вынесение незаконного, необоснованного и заведомо неправосудного решения. Разумеется, в случае технической ошибки или сбоя цифровой электронной системы рассмотрения гражданских дел, к ответственности привлекать будет некого.
Авторы небезосновательно указывают, что «не решены вопросы ответственности за работу систем искусственного интеллекта, а технически робот представляет собой “черный ящик”, внутри которого протекают непонятные и невидимые пользователю процессы: даже если система вполне разработана, никто не гарантирует, что завтра он не превратится в “шпиона”»[24]. В целом идея об отдельном «цифровом судопроизводстве» не имеет под собой достаточных оснований. Вместе с тем видится перспективной идея создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также экспертных систем[25]. И, безусловно, должна быть продолжена работа по внедрению цифровых технологий в судебное делопроизводство. В.В. Момотов отмечает: «Предлагается переводить в цифровую форму абсолютно все поступающие в суды документы, а также формировать по каждому спору “электронное дело”»[26]. Это предложение, несомненно, следует поддержать.
§ 3. Критерии классификации судопроизводств в сфере гражданской юрисдикции
Таким образом, государственная защита субъективных прав, свобод и законных интересов (правосудие в собственном смысле слова) осуществляется только в рамках специализированных, конституционно закрепленных процессуальных форм (видов судопроизводства), представляющих собой совокупность процессуальных правил рассмотрения и разрешения судами дел отдельных категорий. Эти процессуальные формы исчерпывающим образом перечислены в ст. 118 Конституции РФ, и в сфере гражданской юрисдикции таковыми являются: гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство и административное судопроизводство.
Отдельно подчеркнем, что термин «судопроизводство» в силу его прямой исключительной взаимосвязи с правосудием неприменим более ни к каким другим формам разрешения споров. Так, неверно именовать судопроизводством деятельность третейских судов (арбитражей)[27].
Не является судопроизводством и деятельность по досудебному урегулированию споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства, а также меры по досудебному взысканию. Как правильно подчеркнуто в докладе Председателя Верховного Суда РФ И.Л. Подносовой на Совете Судей РФ 21.05.2024, «реализация подобных мер не должна привести к ограничению доступа граждан и юридических лиц к правосудию и снижению уровня процессуальных гарантий»[28].
Вместе с тем в судопроизводство включается любая деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов, регламентированная нормами ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. В частности, особым видом процессуальной деятельности (судопроизводством) должна признаваться судебная примирительная процедура. В науке высказана заслуживающая поддержки точка зрения, что в настоящее время можно говорить об отдельном виде цивилистического судопроизводства – примирительном производстве[29].
Соблюдение судами требований процессуального законодательства при рассмотрении и разрешении дел в сфере гражданской юрисдикции имеет такое важное значение, что допущенные существенные нарушения норм процессуального права являются безусловным основанием для отмены даже правильного по существу судебного решения (ст. 330 ГПК РФ, ст. 270 АПК РФ, ст. 310 КАС РФ). Именно поэтому процессуальное законодательство находится в исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 1 ГПК РФ, ч. 1 ст. 3 АПК РФ, ст. 2 КАС РФ).
Безусловно, любое законодательство не может быть статичным и должно отвечать вызовам времени. Совершенствование процессуального законодательства необходимо в том числе в целях защиты прав, свобод и законных интересов государства как участника хозяйственной деятельности, субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, для оптимизации и повышения эффективности судебной защиты граждан и организаций в нашем государстве. Вместе с тем внедрение новых норм и процессуальных институтов, трансформация процессуального режима судебной деятельности должны вестись при точном соблюдении основополагающих начал правосудия и с учетом сущности и содержания норм материального права[30].
Природа процессуальной формы защиты взаимосвязана и во многом определяется правовой сущностью подлежащего защите нарушенного или оспоренного права или законного интереса[31]. Однако эта связь материального и процессуального не является абсолютной и процессуальные правоотношения кардинальным образом отличаются от отношений материально-правовых, из которых возник спор.
Е.В. Васьковский, ссылаясь на А.Х. Гольмстена, пишет, что различие между предметами гражданского права и гражданского процесса подобно различию между телом, находящимся в движении, и траекторией этого движения – например, полетом птицы и ее телом. Поскольку состояние тела птицы определяется условиями полета, а сам полет определяется состоянием тела, так и характер нарушенного права прямо отражается в процессе его защиты[32].
Основными тенденциями новеллизации законодательства в области цивилистического процесса в последнее время выступают два противоположных друг другу подхода: унификация и дифференциация судопроизводства. При этом дифференциация проявляется более ярко.
Прежде всего, в 2015 г. был принят и введен в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ). На основании этого из структуры Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) был исключен раздел, регулировавший процедуру рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. При этом такой же раздел в структуре Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) сохранен.
Далее, поправками в Конституцию РФ 2020 г. арбитражному судопроизводству впервые в истории отечественного правосудия был придан конституционный статус самостоятельной процессуальной формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. До этого арбитражное судопроизводство существовало de facto в деятельности арбитражных судов, которые рассматривали дела в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности по специальным правилам, содержащимся в АПК РФ. Но Конституция не закрепляла «экономическое правосудие» как отдельный вид судопроизводства, в силу чего в юридической науке высказывались мнения о его подчиненном по отношению к гражданскому судопроизводству характере.
Так, Т.Е. Абова данной проблеме посвятила отдельную работу «О некоторых неоправданных расхождениях между действующими АПК РФ и ГПК РФ в регулировании процессуальных отношений», где еще задолго до объединения Высшего арбитражного суда и Верховного Суда указывала, что «целесообразно, чтобы единственной надзорной инстанцией остался Президиум Верховного Суда РФ», а также писала, что необходимо включить в АПК РФ норму об аналогии процессуального права и закона, чего на тот период не было (разработчики АПК РФ дали отрицательный ответ на это предложение)[33]. Как известно, сегодня положение ч. 5 ст. 3 АПК РФ предусматривает аналогию закона и аналогию права. Иными словами, речь велась о высокой степени схожести норм и институтов ГПК РФ и АПК РФ. И нынешнее закрепление в ст. 118 Конституции РФ арбитражного судопроизводства в качестве отдельного процессуального механизма защиты ставит большую проблему разграничения этих форм.
Вместе с тем имеются и свидетельства унификации судебного процесса – например, внедрение в 2019 г. межотраслевого процессуального института судебного примирения (судебной примирительной процедуры). Институт судебного примирения был включен в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Очевидно, что это решение законодателя было продиктовано стремлением принять меры к снижению судебной нагрузки за счет урегулирования правовых конфликтов их участниками. Однако оно было принято без учета природы разрешаемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, которые имеют разную правовую природу – как частноправовую, так и публично-правовую. Примирение возможно далеко не по всем категориям гражданских дел.
Выделение отдельных видов судопроизводства объясняется различиями прав, свобод и законных интересов, подлежащих защите. На первый взгляд представляется логичным, что гражданские права должны защищаться в рамках гражданского судопроизводства, административные и иные публичные интересы подлежат восстановлению по правилам административного судопроизводства, а права и законные интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности являются объектом защиты в арбитражном судопроизводстве. Однако сегодня этот подход в нормах действующего материального и процессуального законодательства реализован не вполне четко и полно.
Во-первых, предпринимательские права, родовые признаки которых названы в ст. 2 ГК РФ, регулируются гражданским законодательством. Следовательно, с точки зрения закона они являются разновидностью гражданских прав. Однако далеко не все ученые с этим согласны.
Приверженцы школы предпринимательского права как самостоятельной отрасли российского права приводят довольно убедительные аргументы в пользу его самобытности[34]. Вместе с тем представители цивилистической концепции имели иную позицию по данному вопросу[35]. Следует согласиться с тем, что «законодательство в сфере предпринимательства, экономики в принципе не может быть только частным или только публичным»[36]. Однако это утверждение справедливо не только для сферы предпринимательской и иной экономической деятельности, но в целом для гражданско-правовых отношений.
Во-вторых, основную трудность представляет вопрос о том, что следует понимать под «иной экономической деятельностью», ни понятие, ни признаки которой в законе не раскрываются.
Неопределенность в вопросе понятия и критериев определения так называемых арбитражных дел давно служила причиной неосновательных отказов в принятии исковых заявлений как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами в случаях, когда они считали дело себе неподведомственным. Упразднение Высшего арбитражного суда РФ и подчинение обеих систем – судов общей юрисдикции и арбитражных судов – единому высшему органу – Верховному Суду РФ, проблему, отчасти, решило[37].
Однако, несмотря на то, что определение о передаче дела, вынесенное арбитражным судом, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 10-дневный срок, это не является гарантией защиты прав лица, полагающего, что его права должны быть защищены именно в порядке арбитражного судопроизводства. Для отмены определения о передаче дела в систему судов общей юрисдикции необходимо соответствующее обоснование, а оно отсутствует, поскольку критерия определения понятия «экономическое правоотношение» в законодательстве до сих пор нет.
Говорить об унификации цивилистического судебного процесса и объединении гражданского и арбитражного судопроизводств сегодня оснований нет. Достигнутая в ходе многолетней истории специализация судей в сфере гражданской юрисдикции имеет чрезвычайно высокое практическое значение – объединение гражданского и арбитражного процесса пошатнет единообразие судебной практики, снизит гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Этого допустить нельзя.
При этом не менее важно обеспечить наличие в действующем процессуальном законодательстве четких критериев распределения гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Как указал Президент Российской Федерации В.В. Путин, четкое разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами по-прежнему остается одной из проблем российской правовой системы, которая позволяет людям недобросовестным использовать эту слабость правовой системы в личных либо корпоративных интересах во вред экономике страны и во вред стране в целом[38].
И это – задача материального права, поскольку достижение этой цели возможно исключительно путем закрепления легальных признаков экономических правоотношений. Решить ее весьма непросто. Еще Т.Е. Абова отмечала сложность определения субъектного состава хозяйственных отношений, вызванную разнообразием оснований их возникновения[39]. А по мнению С.С. Занковского, основным признаком и целью любого вида предпринимательской деятельности является получение выгоды, и все, что указанную цель не преследует, является благотворительностью[40]. Таким образом, ни «субъектный критерий» определения круга гражданских дел, подлежащих рассмотрению арбитражными судами по правилам АПК РФ, ни критерий материально-правовой природы дела, не могут считаться исчерпывающими.
Авторы правильно говорят, что понятие «экономические споры» изначально было неопределенным, хотя при его введении в законодательство ставилась цель разграничить споры, подведомственные арбитражным судам и судам общей юрисдикции[41]. Эта неопределенность законодательства дает простор для судебного усмотрения[42].
И.В. Ершова предлагает использовать широкую трактовку понятия «экономическая деятельность»[43]. по нашему мнению, такой подход не позволяет достичь главной практической цели – разграничить собственно гражданские правоотношения, споры из которых отнесены к ведению судов общей юрисдикции, и правоотношения экономические, являющиеся предметом судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. Придерживаясь его, к экономическим делам можно отнести и трудовые споры, и все отношения купли-продажи, аренды и т. д. Собственно говоря, «экономический привкус» имеют практически все отношения, регулируемые нормами гражданского законодательства.
Думается, что определение понятия экономической деятельности, наоборот, следует выводить из природы предпринимательских правоотношений, хотя на первый взгляд, экономическая деятельность кажется более широким явлением.
Как известно, любое юридическое отношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права. Предпринимательские правоотношения – это экономические отношения, урегулированные правовыми нормами и характеризующиеся особой целью (систематическое получение прибыли) и специальным правовым статусом их субъектов (индивидуальные предприниматели и юридические лица). Соответственно, экономические правоотношения, не отвечающие указанным признакам, но прямо связанные или опосредующие предпринимательство, относятся к ведению арбитражных судов (например, дела о несостоятельности (банкротстве), корпоративные споры и др.). Более того, некоторые ученые небезосновательно полагают, что, помимо извлечения прибыли, предпринимательская деятельность направлена также на решение целого ряда социальных задач и в определение ее понятия этот признак требуется включить[44]. Поэтому споры, возникающие в связи с реализацией субъектами предпринимательской деятельности таких социальных функций, хоть и не преследуют цель систематического извлечения прибыли, должны рассматриваться арбитражными судами.
Другая глобальная проблема, стоящая перед судебной системой, состоит в том, что исключение из легального оборота категории «подведомственность дела» и дифференциация процессуальных форм защиты в сфере гражданской юрисдикции в совокупности порождают неопределенность в вопросе о том, в рамках какого судопроизводства должны рассматриваться дела так называемой смешанной природы[45].
Как уже было отмечено, в сфере гражданской юрисдикции нет чисто частноправовых или чисто публично-правовых отраслей; каждая отрасль сочетает в себе частноправовые и публично-правовые начала. Поэтому любые спорные материальные правоотношения требуется подразделять на частноправовые и публично-правовые.
Как известно, традиционно в юридической науке дифференциация прав и интересов осуществляется или исходя из их природы, которая может быть частной либо публичной, или на основании их отраслевой принадлежности.
Однако отрасли права – явление легально не закрепленное и в силу этого весьма «подвижное». по большей части это – предмет дискуссий юридической науки. Например, крайне спорным является вопрос существования отрасли предпринимательского права – еще в советский период по нему так и не было достигнуто консенсуса между «цивилистами» и «хозяйственниками».
Что же касается природы субъективных прав и законных интересов, то она значительно более четко определена, причем на уровне процессуального законодательства.
В правовой доктрине сложилось достаточно бесспорное мнение о том, что частные и публичные права различаются в зависимости от их принадлежности. Частные права и интересы присущи субъектам частного, а публичные – соответственно, субъектам публичного права. Впрочем, есть также мнение, что деление права на частное и публичное не должно абсолютизироваться, поскольку «без публичного права частное право бессильно, а без частного права публичное право беспредметно»[46]. С ним можно согласиться, однако публичное право в силу принадлежности неограниченному кругу лиц должно защищаться по специальным процессуальным правилам, а для этого четкий «водораздел» между частным и публичным просто необходим.
§ 4. Разграничение частноправовых и публично-правовых отношений
Крайне важно то, что к субъектам частного права относятся не только граждане (физические лица) и организации (юридические лица), но и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Это прямо закреплено в ст. 124 ГК РФ. Если же обратиться к ст. 2 АПК РФ, то обнаружится, что, помимо указанных субъектов, к числу участников спорных материальных правоотношений относятся также органы государственной власти и местного самоуправления.
В этой связи требуется четко разграничить частноправовые и публично-правовые отношения, поскольку один факт участия в отношении публично-правового образования еще не определяет его природы.
Например, Арбитражный суд Московского округа, рассматривая кассационную жалобу, поданную ООО, посчитал спор с участием публично-правового образования гражданско-правовым, поскольку обязанность доказывания факта причинения имущественного вреда действиями пристава-исполнителя была возложена на самого заявителя[47]. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 189 АПК РФ бремя доказывания законности и обоснованности оспариваемых решений и действий (бездействия) органов публичной власти возлагается на эти органы.
Поэтому для разграничения частноправовых и публично-правовых отношений имеет значение не только субъектный состав, но и факт наличия либо отсутствия субординации между их сторонами. Таким образом, публичным правоотношениям одновременно присущи два признака: участие в них публично-правового образования и отсутствие равенства и автономии воли между ним и другой стороной[48].
Властные, или публично-правовые отношения, по общему правилу, нормами гражданского законодательства не регулируются[49]. Следует особо подчеркнуть, что это положение приходит в противоречие со ст. 190 АПК РФ, которая позволяет сторонам споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, заключать мировые соглашения.
В целом публично-правовые отношения, основанные на власти и подчинении, по общему правилу, гражданским законодательством регулироваться не должны. Однако сам Гражданский кодекс РФ содержит большое число норм, регулирующих отношения, основанные не неравенстве участвующих в них лиц. Это отношения по государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, отношения по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
К гражданско-правовым делам относятся споры, вытекающие из публично-правовых по своей сути отношений, – например, отдельных видов семейных правоотношений (заключение и расторжение брака, лишение и ограничение родительских прав), служебных отношений, отношений пенсионных и т. п. Т.Е. Абова, отвечая в интервью журналу «Юрист» на вопрос корреспондента о природе хозяйственных правоотношений уже в 2009 г., признавала, что в них тесно переплетены публично-правовые и частноправовые начала[50]. Тогда же была высказана правильная мысль о том, что публично-правовое образование, выступая стороной сделки, является субъектом частного права, но при реализации властных полномочий оно должно рассматриваться как субъект права публичного[51].
До 2015 г. рассмотрение всех дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, осуществлялось в рамках гражданского и арбитражного судопроизводств. Дела публично-правовой природы рассматривались и разрешались судами по общим правилам искового производства, с особенностями, закрепленными в одноименных разделах ГПК РФ и АПК РФ. Особенности эти были немногочисленны, но весьма существенны.
С принятием в 2015 г. КАС РФ раздел, регулирующий производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, был исключен из ГПК РФ. При этом раздел, регулирующий порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, был сохранен в структуре АПК РФ[52]. Таким образом, административное судопроизводство на сегодняшний день фактически регулируется двумя процессуальными кодексами – КАС РФ и АПК РФ. Отдельные авторы в административное судопроизводство включают также дела о привлечении граждан и предпринимателей к административной ответственности (рассматриваемые судами общей юрисдикции по правилам КоАП РФ)[53]. С этим можно согласиться.
В целом, несмотря на принятие КАС РФ, административное судопроизводство оказалось «распылено» между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, между КАС РФ, АПК РФ и КоАП РФ. Конечно, это неудобно для судей, которые при решении вопроса о принятии заявления должны решать определять применимую к делу процессуальную форму, рискуя тем, что ошибка в этом вопросе повлечет отмену вынесенного ими решения по делу как незаконного, нарушающего нормы процессуального права. При этом закон не дает им необходимый правовой «инструмент» для решения этого вопроса, а разъяснения, данные Пленумом ВС РФ о признаках дел, возникающих из публичных правоотношений, вполне применимы к целому ряду гражданских дел – например, к спорам об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о порядке заключения и исполнения государственных контрактов и т. п. К тому же некоторые авторы предлагают отказаться от традиционного подхода о «приоритете» гражданского судопроизводства в ситуации, когда правовую природу спора точно определить затруднительно[54]. Представляется, что это еще сильнее осложнит работу судебных органов.
Однако та самобытность процессуальной формы защиты публичных прав и интересов, которая исторически сложилась, не может и не должна быть утрачена. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел публично-правовой природы были продиктованы спецификой подлежащего защите общественного (государственного) интереса. Как указывал А.С. Алексеев, различие между гражданским и публичным правом заключается в том, что публичное право регулирует общественные интересы, а гражданское – интересы индивидуальные, частные[55].
Начать следует с рассмотрения особенностей возбуждения производства по делу, возникшему из административного или иного публичного правоотношения. «В силу принципа диспозитивности суды приступают к производству гражданских дел не иначе, как по инициативе заинтересованных в них лиц» – писал Е.В. Васьковский[56].
Публичные права и интересы принадлежат не одному конкретному субъекту, а неограниченному кругу лиц. Н.М. Коркунов подчеркивал, что публичное право «неотчуждаемо», не может быть передано лицу, не принадлежащему в той группе, на которую публичное право распространяется, но и отказаться от него просто так нельзя – лицо лишается его только с утратой факта принадлежности к группе[57]. Такого же мнения придерживался А.С. Алексеев, указывая, что отдельные лица не вправе распоряжаться публичными правами, этим правом обладает лишь союз (общество) в целом, в то время как частными правами распоряжаются отдельные индивиды[58].
Как видно, если частные права и интересы в силу принципа диспозитивности должны быть защищаемы исключительно согласно воле их обладателей, то публичные права и интересы не могут быть предметом распоряжения одного конкретного лица. Очевидно, что, если суды станут проверять обоснованность и законность действий, актов и решений органов публичной власти в каждом случае, когда того потребует любой гражданин, судебная система просто не справится с такой нагрузкой.
Поэтому думается, что было бы целесообразно внести следующее дополнение в текст ст. 125 КАС РФ: «в административном исковом заявлении должно быть указано, какие права, свободы и законные интересы заявителя и неопределенного круга лиц нарушены, или о последствиях, которые могут повлечь за собой их нарушение». Но необходимо сразу четко оговориться: речь идет лишь об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (гл. 21 КАС РФ). Если гражданин оспаривает решение, действие (бездействие) органа государственной власти или местного самоуправления, которое распространяется лишь на него, то он не освобождается от доказывания своих требований, но не может быть принуждаем обосновать, что оспариваемое решение, действие или бездействие оказывает влияние на неограниченный круг лиц[59].
Разграничение спорных материально-правовых отношений на частные и публичные также крайне важно в аспекте реализации сторонами правового конфликта своих процессуальных прав и обязанностей. Правовой статус стороны в деле не тождественен материально-правовому статусу лица, однако производен от него. Гражданско-правовой статус лица «отображается» в процессуальной сфере как статус стороны искового производства, а диспозитивное начало подлежащего защите гражданского права продуцирует наличие у него распорядительных процессуальных прав.
Присущее публичному правоотношению «вертикальное» положение его субъектов в сфере осуществления правосудия имеет следствием ограничение свободы распоряжения процессуальными правами, активную роль суда, специфичное распределение обязанностей по доказыванию.
В дореволюционный период в порядке гражданского судопроизводства с участием публичных образований рассматривались, в основном, дела по ущербу, причиненному имуществу, а также все дела «между казною и частными лицами»[60]. Е.В. Васьковский писал, что по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. предусматривались так называемые изъятия из общего порядка производства – и в первую очередь «дела казны». В то время под «делами казны» понимали правовые конфликты, стороной которых являлись органы государственной власти, притом выступающие не как носители публичной, верховной государственной власти, а как частноправовые субъекты, участвующие в гражданском обороте на равных началах с его остальными участниками. К ним приравнивались церковные учреждения, монастыри, духовные учреждения, дворянские общества и т. д. К «делам казны» применялся особый процессуальный режим, одной из отличительных черт которого являлась невозможность окончить дело мировой сделкой[61]. На этом моменте следует заострить особое внимание.
Правовой статус публично-правовых субъектов в сфере гражданской юрисдикции (частноправовых отношений) определяется правовыми нормами, регулирующими статус юридических лиц (ст. 125 ГК РФ). В соответствии с этим, в случае, когда из частного правоотношения, в котором участвует государство в лице его уполномоченных органов, организаций, наделенных публичными полномочиями, возникает спор, он становится предметом искового производства. Государство, как сторона искового производства, обладает всем комплексом процессуально-распорядительных прав, в том числе и правом на заключение мирового соглашения.
Вместе с тем, как уже было сказано, заключить мировое соглашение вправе и стороны производства по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в арбитражном судопроизводстве, что прямо закреплено в ст. 190 АПК РФ. Стороны административного судопроизводства также могут примириться, заключив соответствующее соглашение о примирении (ст. 137 КАС РФ). Между тем и в советский период примирение сторон публично-правовых конфликтов не допускалось, и сейчас эта возможность представляется не отвечающей природе публично-правовых дел.
Как известно, основой мирового соглашения является гражданско-правовая сделка, совершенная сторонами правового конфликта. Так, А.Х. Гольмстен писал, что мировая сделка есть не что иное, как договор, по которому стороны договариваются прекратить существующий между ними спор[62]. Как и другие процессуалисты дореволюционного периода, классик подчеркивал, что не все дела могут оканчиваться примирением – к примеру, соглашение не может быть заключено по делам казенных управлений[63].
Согласно ч. 3 ст. 2 ГК РФ, к отношениям, основанным на властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется. Это означает, что мировые соглашения в делах публично-правового характера не отвечают основным началам гражданского законодательства – либо представляют собой не гражданско-правовую сделку, а нечто совсем иное, однако трудно сказать, что именно.
Следует отметить и правовую позицию Конституционного Суда РФ по данному вопросу. Он определил, что гражданские процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений[64]. Административное же судопроизводство – сфера действия норм публичного права, что, безусловно, продуцирует процессуальную специфику, одной из существенных черт которой должно быть ограничение распорядительных прав участвующих в деле субъектов[65].
Процессуальные особенности разрешения судами дел публично-правового характера всегда обособлялись путем включения в гражданское процессуальное законодательство специальных правил. Хотя ГПК РСФСР 1923 г. и не содержал самостоятельного раздела о порядке рассмотрения и разрешения административных и иных публично-правовых дел, однако особенности производства по ним существовали и регулировались отдельными правовыми актами[66].
В ГПК РСФСР 1964 г. предусматривалось обособление процессуальных норм, предусматривающих порядок отправления правосудия по делам публично-правовой природы. Одной из важнейших процессуальных особенностей рассмотрения указанных дел следует назвать сокращенные сроки, субъектный состав, и недопустимость заключения мировых соглашений[67].
В структуре ГПК РФ 2002 г. был предусмотрен специальный подразд. 3, который назывался «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений». по общему правилу, к рассмотрению этих дел применялись правила искового производства, с отдельными особенностями. Одной из этих особенностей было ограничение в распоряжении спорным материальным правом и невозможность мирового соглашения[68].
Другой важнейшей особенностью производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, всегда было особое распределение обязанностей по доказыванию. В делах искового производства каждая сторона спора должна самостоятельно доказать наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, с которыми она связывает свои требования и возражения (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). При рассмотрении публично-правового конфликта обязанность доказать законность и обоснованность оспариваемых частноправовым субъектом решений, действий (бездействия) публично-правового субъекта полностью возлагалась законом на орган или лицо, принявшее оспариваемый акт или совершивший оспариваемое действие. При этом противоположная сторона обязана доказать, что оспариваемый акт или действие нарушает конкретное его право, или создает препятствия к его осуществлению.
Правила распределения обязанностей по доказыванию в административном судопроизводстве закреплены в ст. 62 КАС РФ[69].
При этом по правилам КАС РФ, исходя из его структуры, помимо дел об оспаривании нормативно-правовых актов и актов, содержащих обязательные разъяснения действующего законодательства, рассматривается большой перечень дел публично-правовой природы. Можно заключить, что эти остальные категории публично-правовых дел подлежат рассмотрению в соответствии с общим правилом доказывания, предписывающим каждой стороне доказывать заявленные ею требования и возражения.
В этой связи важно подчеркнуть, что взаимозависимость материального права, подлежащего судебной защите, и процессуальной формы рассмотрения дела проявляется «в обоих направлениях». Как природа защищаемого в судебном порядке права или интереса влияет на процедуру рассмотрения и разрешения дела, так и процессуальный порядок судебной деятельности свидетельствует о сущности нарушенного или оспоренного права или интереса. по справедливому мнению В.М. Шерстюка, рассматриваемые судом спорные материальные правоотношения многоаспектно влияют на процедуру судебного разбирательства[70]. Так, пропорциональное распределение обязанностей по доказыванию свидетельствует о частноправовой природе рассматриваемого дела.
Таким образом, выявленный диссонанс в порядке возбуждения административного судопроизводства и правилах доказывания, закрепленных в КАС РФ, и природе публично-правовых дел, дает основания говорить о необходимости совершенствования действующего административного процессуального законодательства. В частности, оно должно быть направлено на закрепление специальной предпосылки возбуждения административного судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения действующего законодательства – нарушение публичных прав и интересов не только заявителя, но неограниченного круга лиц. Также целесообразно распространить бремя доказывания законности и обоснованности оспариваемых публично-правовых актов, решений и действий (бездействий) должностных лиц и органов власти, на все категории дел публично-правовой природы.
Важнейшим вопросом является правовой статус суда в различных судопроизводствах. В юридической литературе дискуссия о правах и обязанностях суда при отправлении правосудия – одна из наиболее «жарких»[71]. Н.А. Чечина указывала, что «действие суда, будучи непременным элементом любого юридического состава, обусловливает возможность возникновения всякого гражданского процессуального правоотношения. Поэтому обязательным субъектом процессуального отношения является суд»[72]. Этого мнения придерживался также Д.М. Чечот[73].
Представляется, что следует говорить не о правах и обязанностях суда, а, скорее, о его полномочиях, которые он реализует в процессе отправления правосудия по отношению к участникам судебного процесса. Однако суд обязан придерживаться требований процессуального законодательства, и основного принципа, регулирующего его правовое положение в процессе – принципа беспристрастности и независимости[74]. Современные исследователи в основном придерживаются традиционного взгляда на независимость суда, отмечая важность его беспристрастности и объективности[75], критериев отбора судей[76], их личностных качеств[77].
В том случае, если в деле участвуют граждане и организации, гарантией соблюдения принципа независимости и беспристрастности суда служит институт самоотвода и отвода судьи. Однако можно ли говорить о действительной беспристрастности суда при рассмотрении дел с участием государства, субъектов государства, муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления и должностных лиц? Ведь суд – это тоже орган государственной власти, неотъемлемая часть государственного организма[78].
Вопрос о том, как повысить процессуальные гарантии обеспечения принципа независимости и беспристрастности суда в делах, возникающих из административно-правовых или иных публичных правоотношений, очень сложный. Одним из вариантов является установление дополнительных мер ответственности судей за вынесение заведомо неправосудных решений. Как известно, ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Однако меры гражданско-правовой ответственности судьи за совершение указанных действий законом не предусмотрены. А в дореволюционный период они существовали – как в период со второй половины XIX до начала XX в.[79], так и ранее[80].
Современные авторы отмечают, что «гражданско-правовую ответственность за профессиональную ошибку судьи несет государство. Однако, если такие ошибки приобретают систематический характер, следовало бы поставить под сомнение профессионализм судьи и его способность в дальнейшем осуществлять судейские полномочия»[81]. Для решения обозначенной проблемы также было высказано предложение ввести институт административных заседателей[82].
Думается, что сегодня наиболее оптимальным решением будет совершенствование правового статуса суда, арбитражного суда, в производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений[83] и в административном судопроизводстве. Суд не должен при рассмотрении указанных дел действовать так же, как в делах искового производства, т. е. отстраняться от процесса доказывания и лишь оценивать те доказательства, что представили ему участники процесса. Полагаем, целесообразно задуматься о возращении в административном судопроизводстве и в делах, возникающих из публичных правоотношений, в арбитражном судопроизводстве, к основному принципу советского гражданского процесса – принципу объективной истины[84].
Суд при рассмотрении публично-правовых конфликтов обязан вынести объективно правильное решение по делу, для чего он должен при необходимости проявлять инициативу в истребовании необходимых доказательств, вынесении на обсуждение дополнительных вопросов, выходить за пределы заявленных требований и приведенных сторонами доводов. Как уже было отмечено выше, во всех без исключения публично-правовых делах у суда должна быть активная роль[85].
Не следует забывать и о том, что споры с участием публично-правовых образований рассматриваются судами и в порядке искового производства (в случаях, когда в соответствии со ст. 124 ГК РФ они действуют «на равных» с другими субъектами гражданского права). по большому счету, несмотря на провозглашенный законом принцип равенства участников таких правоотношений, суду нелегко его выдержать[86]. Как справедливо указывала Т.Е. Абова, «недостаточно провозгласить равенство государства и других лиц в гражданско-правовых отношениях. Необходимо еще предусмотреть гарантии этого равенства»[87].
Одной из гарантий равенства государства с иными участниками гражданско-правовых отношений может стать законодательное закрепление процессуальных особенностей рассмотрения частноправовых споров с участием публично-правовых образований. В таких спорах следует усилить процессуальную активность суда и дать ему возможность истребовать доказательства по собственной инициативе, если при оценке представленных сторонами доказательств будет невозможно установить объективную истину по делу.
Поэтому будет правильно создать новый, отдельный вид гражданского судопроизводства, аккумулирующий нормы, содержащие процессуальные особенности рассмотрения судами частноправовых дел с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В этом разделе должен содержаться также четкий критерий определения надлежащей стороны в деле, в качестве которой в одних случаях выступает само государство, его субъекты или муниципальные образования, а в других – органы государственной власти или местного самоуправления. Как уже было сказано, таким критерием должна выступать материально-правовая заинтересованность в деле. Если спор касается прав и обязанностей только органа государственной власти или местного самоуправления, организации, реализующей публичные интересы – то стороной дела является этот орган или организация. Если же защищаемый интерес принадлежит неограниченному кругу лиц – стороной в деле является само государство или его субъект[88].
Подводя итог, следует подчеркнуть, что исключительный характер правосудия как государственной деятельности по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, требует наличия четко разграниченных между собой, учитывающих материально-правовую специфику подлежащих рассмотрению дел, процессуальных форм (видов судопроизводства).
В современный период основными проблемами, требующими незамедлительного решения, являются вопросы дифференциации дел в сфере гражданской юрисдикции на частноправовые (подлежащие рассмотрению и разрешению в исковом производстве, в гражданском и арбитражном судопроизводстве) и публично-правовые (подлежащие рассмотрению и разрешению в рамках административного судопроизводства и производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе); разработка и легальное закрепление критерия разграничения гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами; создание и правовая регламентация процессуальных особенностей рассмотрения частноправовых и публично-правовых дел с участием государства, субъектов государства, муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления; совершенствование правового статуса суда в различных видах судопроизводства; четкая регламентация применения института судебного примирения в делах частной и публично-правовой природы.
§ 5. Особенности споров с участием публично-правовых образований
Традиционно в науке цивилистического судебного процесса выделяют три группы субъектов гражданского и арбитражного судопроизводства. К первой относят суд, ко второй – лиц, участвующих в деле, а к третьей – лиц, содействующих правосудию.
Благодаря субъектам, относящимся ко второй группе, процесс возникает и развивается, они могут влиять на движение дела. Прежде всего, только лица, участвующие в деле, наделены правом инициировать судебное разбирательство. Они позиционируют себя в качестве обладателей нарушенного или оспоренного субъективного гражданского права или законного интереса, а суд, получив их исковое заявление, в решении вопроса о возбуждении производства по делу исходит из предположения о том, что так оно и есть. Указанную особенность отмечали многие исследователи – как дореволюционные (например, К.И. Малышев[89]) и советские (М.А. Викут[90]), так и современные (И. Зайцев[91]).
Безусловно, в момент получения искового заявления суд не в состоянии установить ни действительного обладателя нарушенного права или интереса, ни его реального нарушителя. Однако, согласно действующему гражданско-процессуальному и арбитражно-процессуальному законодательству, право на обращение в суд общей юрисдикции и арбитражный суд имеется лишь у «заинтересованных лиц» (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 1 ст. 4 АПК РФ).
Получается в некотором роде «заколдованный круг»: для возбуждения производства по гражданскому делу необходим юридический интерес, выяснить же, имеется ли таковой, можно лишь в результате рассмотрения дела по существу.
Особую сложность представляют гражданские дела с участием публично-правовых образований. Во-первых, действующее цивилистическое процессуальное законодательство не содержит критерия для определения судом, арбитражным судом того, кто именно является стороной спорного материального правоотношения в случае, когда исковое заявление предъявлено органом государственной власти или местного самоуправления. Во-вторых, закон четко не определяет характер интереса, реализуемого публично-правовым образованием в сфере гражданской юрисдикции. С одной стороны, Гражданский кодекс указывает, что в гражданских правоотношениях они выступают на равных с другими субъектами гражданского права, с другой – Конституционный Суд разъяснил, что публично-правовые образования имеют иной объем правоспособности, чем физические и юридические лица[92]. Таким образом, неясно, интерес какого рода реализуют публично-правовые образования в сфере гражданских правоотношений – частный или публичный.
Т.Е. Абова, исследуя проблематику, связанную с процессуальным порядком возбуждения и рассмотрения хозяйственных дел в государственном арбитраже, отмечала сложности, возникающие при решении вопроса о том, является ли заявитель заинтересованным лицом[93]. Очень важным является положение, выдвинутое ученым, о том, что государственные предприятия и организации в процессе могут защищать публичные, а не свои собственные интересы[94].
Предметом защиты в цивилистическом судопроизводстве, по общему правилу, являются субъективные права и интересы, принадлежащие частным лицам. Как указывал А.Х. Гольмстен, государство не всегда заинтересовано в рассмотрении частноправовых споров судом, поскольку при этом подлежат защите в основном индивидуальные интересы[95]. Таким образом, диспозитивность гражданского и арбитражного судопроизводства, проявляющаяся в свободе распоряжения как спорным материальным правом или интересом, так и процессуальными средствами их защиты, в инициировании цивилистического судебного процесса исключительно по волеизъявлению заинтересованных в деле лиц производна именно от частноправовой природы подлежащего защите нарушенного или оспоренного права, законного интереса.
Вместе с тем это правило не является абсолютным. Исторически гражданский процесс, действительно, был формой разрешения частноправовых конфликтов[96]. При этом и в тот период государство уже являлось участником частноправовых, гражданских отношений. Поэтому Е.В. Васьковский отмечал отличие частноправовых и публичных споров с участием государства[97]. Об этом же писал и В.М. Хвостов[98].
Схожий критерий разграничения гражданских дел и дел публично-правовой природы сформулировал Пленум ВС РФ[99]. Руководствуясь этим критерием, можно выявить немало дел, в настоящее время рассматривающихся в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства. Например, дела, возникающие из применения пенсионного законодательства, характеризуются неравенством их участников, один из которых осуществляет властные действия по применению действующего законодательства в соответствующей сфере. Кроме этого, в полной мере отвечают признакам публично-правовых отношений дела, возникающие из норм ГК РФ об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Также нельзя считать частноправовыми трудовые – и особенно служебные споры. Пленум ВС РФ прямо исключил служебные споры из юрисдикции Кодекса административного судопроизводства РФ, но ученые обоснованно полагают, что в этих делах, как минимум, сочетаются частноправовые и публично-правовые черты. Об этом пишет, например, Л.А. Чиканова[100].
Как известно, с принятием в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ из ГПК РФ был исключен подразд. 3, содержавший правила рассмотрения и разрешения судами общей юрисдикции дел публично-правовой природы. Однако в АПК РФ одноименный раздел был сохранен, поэтому производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляется по-прежнему по правилам арбитражного судопроизводства. Строго говоря, это обстоятельство не позволяет относить арбитражный процесс к «цивилистическому судопроизводству».
Помимо этого, даже в тех случаях, когда публично-правовые образования выступают «на равных» с другими участниками гражданского оборота, они тем не менее реализуют гражданские права и интересы в целях наиболее эффективного выполнения публично-правовых функций. Правильно отмечают, что участвует государство в гражданском обороте не в своих частных интересах, а для наиболее эффективного отправления своих властных, общественных функций. При этом оно добровольно ограничивает свои полномочия, выступая наравне с другими субъектами гражданского оборота[101].
Поэтому можно согласиться с утверждением М.С. Шакарян о том, что органы исполнительной власти в процессе действуют от имени государства[102]. Именно потому, что органы публичной власти в конечном счете нацелены на выполнение своих государственных полномочий, даже участвуя в частноправовых отношениях они в дореволюционный период были ограничены в процессуальных возможностях и не могли, например, заключать мировые сделки.
Таким образом, можно констатировать, что публично-правовые дела в сфере гражданской юрисдикции в настоящее время рассматриваются не только по правилам административного судопроизводства, но и в цивилистическом судебном процессе. Предметом судебной защиты в этих делах является публичное право и публичный интерес, а властные полномочия, реализуемые одним из участвующих в них лиц по отношению к другому, приводят к выводу о том, что стороной в них является государство, его субъект или муниципальное образование. И это обстоятельство, несомненно, должно определять специфику процессуального статуса как суда, так и участников дела.
§ 6. Процессуальное положение суда в споре с участием публично-правового образования
Касательно процессуального положения суда, следует отметить, что основополагающим его основанием выступает принцип независимости. При рассмотрении дел частноправового характера он, в подавляющем большинстве случаев, безукоризненно выдерживается. Однако все не так однозначно в ситуации с разрешением судом дела публично-правовой природы.
Являясь органом государственной власти, суд в производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в административном судопроизводстве, фактически, рассматривает спор «сам с собой». Проблема обеспечения независимости суда при рассмотрении дел публично-правового характера волновала ученых еще в дореволюционный период. Эту проблему исследовал, в частности, Е.В. Васьковский[103]. на первый взгляд, гарантией независимости суда при рассмотрении споров граждан с органами публичной власти является разделение властей, это отмечал Н.М. Коркунов[104].
Вместе с тем следует различать независимость суда как органа государственной власти и независимость судьи, рассматривающего дело. Если гарантии независимости суда закреплены на конституционном уровне, то обеспечению независимости судьи служит процессуальный институт отвода. Кроме этого, независимость судей обеспечивается также действием правил формирования состава суда в каждом конкретном случае. Так, в ч. 3 ст. 14 ГПК РФ установлен порядок формирования состава суда, гарантирующий невозможность включения в него заинтересованных в исходе дела лиц. Аналогичное правило установлено ч. 1 ст. 18 АПК РФ. Помимо этого, закон содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть произведена замена судьи или состава суда (ч. 5 ст. 14 ГПК РФ, ч. 3, 4 ст. 18 АПК РФ).
Несоблюдение указанных правил является прямым нарушением норм процессуального законодательства. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции указала, что нарушение порядка и оснований замены состава суда ставят под неразрешимое сомнение законность принятого судебного акта, так как он постановлен с нарушением норм процессуального права. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является, в том числе рассмотрение дела судом в незаконном составе. В связи с этим, кассационная инстанция сочла необходимым отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции именно в связи с незаконным составом суда апелляционной инстанции[105]. На важность соблюдения норм о составе суда указывал и Конституционный Суд РФ[106].
Однако и этой меры недостаточно для обеспечения независимости суда при рассмотрении споров с участием публичных образований. Возможно, выходом из данной ситуации может служить установление положения, согласно которому в системе административного судопроизводства будет закреплен институт административных заседателей (по аналогии с присяжными и арбитражными заседателями). Административными заседателями было бы целесообразно назначать ученых-специалистов в области государственного права и административного судопроизводства.
Также необходимо возродить институт ответственности судей за выносимые ими решения. Как правильно отметил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, «судьи не несут ответственности за ошибочные судебные решения»[107] – в законодательстве установлена ответственность лишь за вынесение заведомо неправосудных решений[108].
§ 7. Процессуальный статус публично-правовых образований в гражданском и арбитражном процессе
Переходя к рассмотрению вопроса о процессуальном правовом статусе публично-правовых субъектов в гражданском и арбитражном процессе, следует в первую очередь констатировать его связь с их материально-правовым статусом. Все субъекты гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права одновременно являются субъектами гражданского права (в широком смысле). Это понятно, поскольку только субъект, обладающий гражданской правосубъектностью, обладает правосубъектностью процессуальной[109].
Гражданский кодекс РФ к числу субъектов гражданского права относит граждан, юридических лиц, Российскую Федерацию, субъектов Российской Федерации и муниципальные образования (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). Далее, в ч. 1, 2 ст. 125 ГК РФ закреплено, что от имени публично-правовых образований могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы публичной власти в рамках их компетенции.
Используемая законодателем формулировка «могут приобретать права и обязанности» приводит к мысли, что указанные органы могут действовать в гражданском обороте как от имени государства, муниципального образования, так и самостоятельно.
Как уже было отмечено, основанием наделения гражданско-процессуальным статусом является обладание субъектом гражданской правосубъектностью. Соответственно, субъекты гражданского права и гражданского процессуального и арбитражного процессуального права в идеале должны совпадать. Но это не так.
В ст. 2 ГПК РФ[110] указывает круг субъектов, права и интересы которых подлежат защите в рамках гражданского судопроизводства. Как видно, субъектами гражданского процессуального права являются граждане, организации, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и неконкретизированная законодателем группа «других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений».
АПК РФ в ст. 2 к числу субъектов арбитражного процессуального права относит, помимо субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, органы государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц и опять же неконкретизированные «иные органы, должностные лица в указанной сфере».
Итак, из содержания гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных правовых норм можно сделать вывод, что органы государственной власти и местного самоуправления, должностные лица в гражданских правоотношениях могут действовать как от лица Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, так и выступать в гражданском обороте самостоятельно – от своего имени и в своих интересах. Критерия разграничения правоотношений, в которых названные органы и лица выступают в интересах публично-правовых образований, и в которых они действуют самостоятельно, сегодня ни в законодательстве, ни в судебной практике, ни в доктрине, нет.
По этому поводу существует определенная научная полемика[111]. Большинство исследователей приходят к выводу, что правоотношения с участием публичных образований, направленные на удовлетворение публичного интереса, являются публично-правовыми, а споры, связанные с распоряжением гражданскими правами в личных, субъективных интересах, имеют частноправовой характер. Поэтому, если орган публичной власти преследует общественный (государственный) интерес, то статус стороны в деле занимает само государство, его субъект или муниципальное образование. Если же целью гражданско-правовой деятельности органа публичной власти выступает удовлетворение его собственного, субъективного гражданского интереса, то сторона в деле – это соответствующий орган, а не государство.
Высказано мнение о том, что под государственными органами, за незаконные действия которых государство несет гражданско-правовую ответственность, понимаются как органы исполнительной власти, так и законодательной[112]. Здесь можно добавить, что государство отвечает и за нарушения законности в деятельности органов судебной власти – например, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебных актов в разумный срок выплачивается из казны.
Однако есть законодательно закрепленные примеры того, что органы государственной власти и местного самоуправления в ряде случаев могут самостоятельно становиться стороной в гражданском деле. Например, такая возможность закреплена в ч. 3.1 ст. 38 АПК РФ[113].
Впрочем, сам по себе признак взыскания средств из бюджета прямо не подтверждает, что стороной гражданско-правового конфликта является государство в целом – ведь у судов, как и многих других органов публичной власти, нет собственных источников финансирования, только государственное.
Представляется, что в решении вопроса о том, каков процессуальный статус того или иного публичного образования в цивилистическом судопроизводстве, нужно исходить из фундаментального для процессуальной доктрины понятия юридической заинтересованности в деле.
Как известно, юридическая заинтересованность в гражданском и арбитражном судопроизводстве дифференцируется на материально-правовую и процессуальную. Выявление публичного интереса как объекта судебной защиты должно быть критерием для наделения государства процессуальным статусом стороны в деле[114].
Помимо стороны, публично-правовые образования могут участвовать в гражданском и арбитражном судопроизводстве также в качестве третьих лиц – как заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, так и не заявляющие таковых.
Здесь чрезвычайно важно отталкиваться от сформулированного выше критерия подлежащего защите интереса. В случае, если объектом судебной защиты выступают публичные (общественные) интересы, а стороной в спорном деле является государство, субъект государства или муниципальное образование, орган государственной власти, местного самоуправления, непосредственно участвующие в «смежном» со спорным правоотношении, должен быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне государства, его субъекта или муниципального образования.
Также органы государственной власти и местного самоуправления могут быть привлечены в дело как третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора – если рассматриваемый судом, арбитражным судом гражданско-правовой спор связан с их субъективными гражданскими правами и законными интересами.
Гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство не содержит никаких специальных указаний на то, в каком порядке публично-правовые образования привлекаются к участию в деле. Так, ст. 47 ГПК РФ[115] предусматривает возможность участия органов публичной власти в процессе для дачи заключения по делу. Расплывчатая формулировка «привлечь для достижения целей» не дает ответа на вопрос, в каком процессуальном статусе привлекаются данные лица.
Дача заключения по делу – это отдельная форма участия публично-правовых субъектов в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Ее важно отграничить от их участия в деле в качестве третьих лиц.
Участие в деле в целях дачи по нему заключения не предполагает наличия у публично-правового образования юридической заинтересованности в деле. В соответствии с этим, указанные субъекты не могут распоряжаться спорным материальным правом или интересом, выступающим объектом судебной защиты. Таким образом, они не вправе изменять заявленные требования, отказываться от них и признавать, заключать мировые соглашения. Напротив, в случае, если публично-правовое образование участвует в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, оно фактически является третьей стороной в споре и его процессуально-правовой статус идентичен правовому статусу истца. Очевидно, что вопрос привлечения к делу в том или ином статусе для государства, как и для любого другого субъекта гражданского права, имеет принципиальное, основополагающее значение.
Сложнее обстоит вопрос с участием публичных образований в гражданском и арбитражном судопроизводстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Такие третьи лица не являются претендентами на предмет спора, не участвуют в спорном материальном правоотношении и не занимают отдельное правовое положение в процессе, «примыкая» к той или другой стороне рассматриваемого судом дела. Однако они все же заинтересованы в исходе дела, поскольку он может повлиять на их права и обязанности в будущем. В силу этого они обладают всеми процессуальными возможностями лиц, участвующих в деле.
Субъект, вступающий в дело для дачи по нему заключения, не имеет в нем заинтересованности ни прямой, ни косвенной. Именно поэтому, как представляется, публично-правовые образования, участвующие в деле в форме дачи заключения, не должны пользоваться специальными (распорядительными) процессуальными правами лица, участвующего в деле, такими как право на изменение или отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения.
Действующий ГПК РФ, к сожалению, не проводит разграничения между формами участия в деле публичных образований и их процессуальными правами и обязанностями. В тексте ст. 34 к числу лиц, участвующих в деле, отнесен прокурор – без конкретизации формы его участия в деле – и «лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения». Таким образом, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти и местного самоуправления не выделены в числе участников гражданского судопроизводства ни по признаку реализуемого правового статуса, ни по форме участия в деле.
Думается, что требуется восполнить данный пробел и закрепить процессуальные статусы публично-правовых образований, участвующих в гражданском деле, в зависимости от формы их участия. Если публично-правовой субъект обладает материальной заинтересованностью в деле, то он должен привлекаться к нему в качестве стороны или третьего лица – как заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, так и не заявляющего их. В этом случае указанные субъекты должны наделяться всем комплексом процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле.
Если публичное образование привлекается к участию в цивилистическом судебном процессе с целью дачи заключения по делу, оно лишено юридической заинтересованности в деле и не может располагать те ми же процессуальными средствами, что и лица, участвующие в деле. В частности, они не могут изменять исковые требования, признавать иск, отказываться от иска, заключать мировое соглашение.
Представляется, что существует необходимость закрепления в ГПК РФ и АПК РФ отдельных правовых норм, регулирующих правовой статус публичных образований, участвующих в деле в различных формах. Наличие в деле юридической заинтересованности материально-правового отношения, предполагаемая судом связь субъекта со спорным правоотношением должны выступать легальным критерием для наделения его не только общими, но и специальными (распорядительными) процессуальными правами. Отсутствие материально-правовой заинтересованности в деле (участие в нем в целях дачи заключения) не позволяет предоставить субъекту права распоряжаться предметом спора и «судьбой» процесса.
§ 8. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием прокурора
Отдельного рассмотрения требует вопрос процессуального статуса прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
В рамках выполнения своей надзорной функции прокуратура призвана выявлять правонарушения в сфере гражданской юрисдикции и, не имея полномочий по их самостоятельному устранению и восстановлению нарушенных прав и интересов, обращаться с заявлениями о возбуждении производства по гражданскому делу в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Такое положение существовало еще в дореволюционный период: Е.В. Васьковский отмечал, что прокуроры осуществляют надзор за судебными учреждениями, однако права самостоятельно принимать какие-либо меры они не имеют и должны о выявленных нарушениях сообщать соответствующим высшим органам государственной власти[116]. Об этом же писал Е.А. Нефедьев[117].
При этом прокурор, подавший заявление о возбуждении гражданского или арбитражного судопроизводства, занимает в нем процессуально-правовой статус лица, участвующего в деле – наряду со сторонами и третьими лицами. Его публично-правовой статус в цивилистическом судебном процессе нивелируется. Так, Л.А. Терехова предлагает уравнять правовое положение прокурора и иных лиц, участвующих в деле[118]. С этим суждением трудно согласиться.
Представляется, что процессуально-правовой статус прокурора в гражданском деле зависит от формы его участия в нем – и, соответственно, от наличия или отсутствия у него материальной заинтересованности в деле. Так, если прокурор в цивилистическом процессе действует в защиту интересов публично-правовых образований или неограниченного круга лиц – он должен наделяться правовым статусом стороны (или третьего лица).
Прокурор, вступивший в дело в целях дачи по нему заключения, материальной заинтересованности не имеет, участником спорного материального правоотношения не является и выполняет функцию оказания суду содействия в правильном и своевременном рассмотрении и разрешении дела[119].
ГПК РФ и АПК РФ относят прокурора к числу лиц, участвующих в деле (ст. 34 ГПК РФ, ст. 40 АПК РФ), при этом форма его участия в деле не названа в качестве квалифицирующего признака для определения объема его прав и обязанностей в каждом конкретном случае. Лица, участвующие в деле, наделяются законодателем целым рядом процессуальных прав, производных от характера их заинтересованности в деле. Так, стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, имеют так называемые распорядительные права, позволяющие им распоряжаться предметом судебной защиты – отказываться от иска, признавать его, изменять иск, заявлять встречное исковое требование, заключать мировое соглашение. Третьи лица, самостоятельных требований относительно предмета спора не заявляющие, соответственно, предметом спора распоряжаться не могут.
Однако все без исключения лица, участвующие в деле, наделяются комплексом так называемых общих процессуальных прав и обязанностей. Они весьма многочисленны и перечислены в ст. 35 ГПК РФ[120] и ст. 41 АПК РФ. Как видно, лица, которые отнесены законом к участникам гражданского и арбитражного судопроизводства, лишенные материально-правовой заинтересованности в деле, вправе тем не менее оказывать влияние на «судьбу» процесса. Например, обжалование судебного акта влечет его проверку и возможную отмену или изменение, причем достаточно часто это происходит не потому, что нижестоящий суд принял неправильное решение, а потому, что во многих случаях суд принимает решение, руководствуясь не только законом, но и собственным внутренним убеждением, которое может не совпадать с мнением суда вышестоящей инстанции.
В этой связи видится правильным наделять отдельными «общими» процессуальными правами, которые имеют распорядительный характер (например, правом по обжалованию судебных постановлений) не всех субъектов, отнесенных к лицам, участвующим в деле, а только тех, кто имеет в нем материально-правовую заинтересованность. В целом представляется, что отдельные процессуальные возможности, указанные в ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ, нужно отнести к специальным, распорядительным правам, и поместить в ст. 39 ГПК РФ и ст. 49 АПК РФ.
Прокурор, вступающий в гражданское дело для дачи заключения, вряд ли может обладать правом обжаловать принятые по делу акты. Однако, представляя интересы государства, муниципального образования или неограниченного круга лиц, он является стороной рассматриваемого судом дела и должен иметь весь круг процессуальных прав, включая распорядительные права.
Тем не менее нельзя недооценивать заключение прокурора по гражданскому делу. В действующем гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве статус его заключения не определен, в силу чего зачастую его рассматривают как одно из доказательств в деле. Думается, что это не совсем правильный подход. Доказательства представляются участниками дела в рамках обоснования ими заявленных требований и возражений, прокурор же, давая заключение по делу, участником спорного материального правоотношения не является и заинтересованности в деле не имеет. Он выступает от имени и в интересах государства, реализуя при этом свои публично-правовые функции по обеспечению надзора за соблюдением законности. Следовательно, даваемое им заключение по делу не может быть расценено как доказательство, это – акт публично-правового характера, содержащий государственную оценку заявленных требований и обстоятельств дела. по этой причине заключение прокурора для суда должно иметь обязательное значение и, в случае несогласия с его позицией, суду следует указать причины этого несогласия.
В современных условиях необходимо также расширять так называемую инициативную форму участия прокурора в цивилистическом судебном процессе. В первую очередь это касается арбитражного судопроизводства. В арбитражном процессе прокурор защищает лишь интересы государства и интересы неопределенного круга лиц[121]. Как верно отмечают И.Ю. Русских и Т.Н. Пушкина, интересы конкретного лица в арбитражном процессе прокурор защищать не вправе[122].
Вместе с тем к числу субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности относятся и субъекты малого и среднего бизнеса, и крестьянские (фермерские) хозяйства, и, в ряде случаев, граждане без статуса индивидуального предпринимателя. В ряде случаев они не имеют возможности (в том числе финансовой) самостоятельно эффективно защитить свои права и интересы, и обращение к прокурору с просьбой выступить в защиту их прав может быть единственным средством реализации их конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. Очевидно, что сегодня назрела острая необходимость расширить функции прокуратуры в сфере гражданской юрисдикции и закрепить его право обращаться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении судопроизводства в защиту прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно защитить свои права. Безусловно, прокурор обязан руководствоваться исключительно требованиями законодательства и в случае, если в ходе рассмотрения дела придет к выводу о необоснованности заявленных требований, отказаться от дальнейшего участия в деле. При этом только сам истец (субъект, в интересах которого прокурор инициировал судопроизводство) вправе, по аналогии с правилами ст. 45 ГПК РФ, отказаться от иска (заявленного материально-правового требования)[123].
Что касается гражданского судопроизводства, то функции прокурора в нем традиционно шире, чем в арбитражном. Однако сегодня и они недостаточны.
Как известно, в соответствии с принципом диспозитивности возбуждение гражданского и арбитражного судопроизводства возможно не иначе, как по воле самого обладателя нарушенного или оспоренного гражданского права или законного интереса. из этого правила есть исключения, связанные как раз с правом прокурора и – в отдельных случаях – органов публичной власти, граждан и организаций обращаться в суд с заявлением о возбуждении дел в защиту «чужих» интересов.
Однако закон ограничивает право уполномоченных субъектов на возбуждение дела в «чужих» интересах наличием серьезных оснований[124], примеры которых перечислены в ст. 45 ГПК РФ. Поскольку перечень оснований не является исчерпывающим, данное право может быть реализовано и в силу других «уважительных причин». Данная формулировка фактически означает решение вопроса о том, имеется ли у гражданина возможность самостоятельно защищать свои права или нет, на основании судебного усмотрения. Представляется, что в целях повышения качества и эффективности судебной защиты гражданских прав, свобод и законных интересов следует прибегнуть к более четким критериям и специально указать на ряд обстоятельств, позволяющих прокурору возбуждать гражданское судопроизводства в интересах отдельных категорий граждан. В первую очередь к числу таких обстоятельств нужно отнести участие гражданина в военных действиях и прохождение им военной службы (срочной или по контракту).
Предлагается дополнить нормы ст. 39 КАС РФ и ст. 45 ГПК РФ указанием на призыв гражданина на военную службу в рамках мобилизации как основание возбуждение дела в защиту его прав и интересов прокурором. Также следует внести в действующее законодательство о прокуратуре указание на право членов семьи призванного по мобилизации гражданина обращаться с заявлением к прокурору о возбуждении дела в защиту его прав[125].
Глава 2
Об изменении вектора развития механизма правосудия в Российской Федерации
§ 1. Общие подходы к проблеме
Юристы Древнего Рима были уверены: Justitia regnorum funda-mentum («Правосудие – основа государства»). Не властители, не крепкая непобедимая армия, не экономика, не – даже – народ Рима, а именно правосудие. Очевидно, чем справедливее и эффективнее работает суд, тем крепче его государство.
Проведение специальной военной операции потребовало перестройки определенной части экономики на мобилизационный лад, что с неизбежностью повлекло за собой модернизацию правового регулирования отношений в этой сфере.
Участники XIV Международной Грушинской социологической конференции пришли к выводу: проведение СВО не привело к панике среди населения, общество сохраняет спокойствие, и, несмотря на то, что СССР/Россия, как и большинство западных и крупных азиатских стран давно не жертвовали ничем серьезным – ни жизнями, ни уровнем потребления, давно не сталкивались с массированной военной пропагандой и военным информационным воздействием, сегодня – можно зафиксировать – и власть, и армия, и население адаптировались к реалиям, а это – огромный успех[126].
Какова основная задача, которую механизм правосудия должен решать своей деятельностью, какова основная цель, которую суды и судьи должны достичь, верша правосудие?
Статья 10 Конституции РФ провозглашает, что государственная власть в нашей стране осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны. Часть 1 ст. 11 Конституции РФ указывает: государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Таким образом, судебную власть осуществляют в России суды, а более точно – работающие в них судьи. При этом небезынтересно, что в названиях соответствующих глав Конституции РФ, посвященных ветвям государственной власти, слово «власть» присутствует лишь применительно к судебной власти (гл. 7 так и именуется «Судебная власть»), тогда как иные главы (гл. 4, 5 и 6) в своих наименованиях (соответственно, «Президент Российской Федерации», «Федеральное Собрание», «Правительство Российской Федерации») слова «власть» не содержат. И это при том (а может быть, именно поэтому), что в последних трех случаях органы, осуществляющие государственную власть, и органы, ее олицетворяющие, тождественны.
Принципиально иное дело – судебная власть, которую, как сказано в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, осуществляют суды. Да и в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ сказано, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, что является исключительной прерогативой именно судов. Но их в России несколько тысяч. И весь совокупный судебный корпус России, состоящий более чем из 30 тыс. судей, непосредственно осуществляет судебную власть. В п. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» установлено: судьи – носители судебной власти. В п. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона о судебной системе и в п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» императивно провозглашено, что судебная власть в России осуществляется только судами в лице судей (и заседателей) и принадлежит им и т. д.
Олицетворяют ли судебную власть в России несколько тысяч судов, 30 тыс. российских судей, непосредственно ее осуществляющих?
Понимание «олицетворять власть» не вполне нормативно-правовое, не включено в соответствующие глоссарии, не «понятийно» в научном обороте и т. д., в отличие от понятия «судебная власть» – здесь в научных исследованиях нет недостатка. по этому вопросу вполне определенно высказался Конституционный Суд РФ: «Особым местом судебной власти в системе разделения властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из статей 10, 11 (часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125–127 и 128 (часть 3) Конституции РФ, обусловлена ценность закрепленного ее статьей 46 (части 1 и 2) права на судебную защиту как гарантии всех других прав и свобод человека и гражданина. Именно судебная власть, независимая и беспристрастная по своей природе, играет решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и гражданина, и именно суд окончательно разрешает спор о праве, чем предопределяется значение судебных решений как государственных правовых актов, выносимых именем Российской Федерации и имеющих общеобязательный характер»[127].
Разумеется, в нашей стране есть федеральные государственные органы, которые ни к одной ветви государственной власти отнести нельзя: Президент РФ, прокуратура, Центральный банк, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия, Уполномоченный по правам человека…[128]
На самом закате исторического периода Советской власти, в 1991 г., была разработана Концепция судебной реформы РСФСР. Этот документ, одобренный (даже не утвержденный) постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1, хотя в нем и предписывалось ряду адресатов «разработать пакет документов», оказался, по факту, никого ни к чему и ни в чем не обязывающим, ибо в развитие Концепции[129] нужно было разработать системно изложенный план действий, определить ответственных за реализацию каждого пункта плана, источники финансирования работ и т. д.
Этой Концепцией обозначились качественно новые для того времени институты правосудия: суд присяжных, мировая юстиция, Конституционный суд РФ, и вообще ее авторами были девять неравнодушных ученых высокого уровня правового профессионализма. Но время было такое – значительная часть Концепции была посвящена противостоянию – в судебном плане – Союзному центру. И она не вполне стала фундаментом для построения нового правосудия.
Думается, необходимо модернизационное преобразование отечественного организационно-правового механизма правосудия, всех его звеньев в направлении обеспечения им справедливой правосудной деятельности. Многое в этом направлении с тех пор делалось и делается, разными способами и в различных формах, хотя и не провозглашается это направление, за редкими исключениями, официально. И в этом главная заслуга самой судебной власти, самого судейского корпуса, руководителей судебных органов, органов судейского сообщества. Но, по большому счету, это действия тактического уровня.
Необходимо же изменение механизма правосудия в направлении обеспечения его правосудной деятельности на началах справедливости под лозунгом «Больше судов, хороших и разных». А это не всегда в пределах возможностей механизма правосудия.
Подтверждением чему служит постановление VIII Всероссийского съезда судей от 19.12.2012 № 1 «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития», где (в отдельном абзаце преамбулы, редакция которого была, так уж технически получилось, проголосована отдельно и единогласно всеми делегатами съезда) было провозглашено: «Все более настоятельной потребностью становится необходимость разработки государственного проекта стратегических преобразований организационно-правового механизма отечественного правосудия, конечной целью которых стало бы построение справедливого суда, отвечающего чаяниям российского общества. К отысканию путей решения этой задачи целесообразно привлечение потенциала высших судов страны, соответствующих государственных органов, научных учреждений, органов судейского сообщества и общественных формирований».
Но эта однозначно выраженная воля судейского корпуса страны (поскольку Всероссийский съезд судей – это высший орган судейского сообщества, а все без исключения судьи становятся членами судейского сообщества страны с момента принесения ими судейской присяги) осталась без каких-либо последствий, без чьего-либо реагирования.
Почему? Не потому, что этому препятствует чья-то злая воля. А потому, что непросто организовать разработку проекта преобразований механизма правосудия, обеспечить его реализацию.
Упрощение судебных процедур – паллиатив. Этот путь имеет пределы, иначе правосудие перестанет быть справедливым. Да и правовая наука, прежде всего – фундаментальная, способна выработать предложения по реальному сокращению количества дел, поступающих в судебную систему, без снижения уровня доступности к правосудию.
Сегодня сама жизнь предъявляет к науке права более высокие, чем еще вчера, требования: переход на более высокий уровень обобщения исследуемой сферы общественных отношений; видение целостной картины нашего общества и общественных отношений на основе наших традиционных ценностей в сферах морали, нравственности, этики и права; формирование концепций правового будущего российского общества и пр., что позволит сформулировать системно обоснованный алгоритм ее совершенствования. А для этого нужна правильно организованная методология этой модернизации, что, безусловно, невозможно без должного научного обеспечения самой методологии.
Сами модернизационные мероприятия в научно-правовых сферах могут быть фундаментальными, поисковыми и прикладными – в зависимости от целей, которые ставит перед собой общество, а цели эти обусловлены, прежде всего, осознанными и сформулированными потребностями практики. В нашем случае – потребностями правосудия. При этом очевидно: как прикладные, так и поисковые научные исследования не могут не опираться на достижения фундаментальной науки, которая является генератором идей и проектов. Однако следует отметить, что любые научные идеи имеют свойство много терять в своей мудрости при столкновении реалиями практического воплощения их в жизнь.
В научной литературе отмечается: при подготовке прогнозов будущего состояния права следует использовать уже имеющееся научное знание об устойчивом и неустойчивом состояниях сложных саморазвивающихся систем, особенностях их «поведения» и воспроизводства в этих состояниях, о роли программы саморегуляции в процессе функционирования системы и ее способности мутировать в результате внешнего воздействия, а также о «механизме» и закономерностях фазового перехода[130].
Так, стремительно развиваются в судебной системе интернет-технологии: как известно, к началу 2024 г. в судебной системе функционировало 115 сайтов арбитражных судов, 2307 – судов общей юрисдикции, 7818 сайтов судебных участков мировых судей, 258 сайтов органов судейского сообщества и т. д. И это обстоятельство, вкупе с осознанием будущего роста данных показателей, требует уделения большего внимания проблематике искусственного интеллекта в правосудии.
Внедрение искусственного интеллекта в механизм правосудия, кроме очевидных плюсов, может повлечь за собой в будущем минусы.
Само совершенствование механизма справедливого правосудия требует глубокой научной проработки, в основе которой должен лежать поиск со стороны фундаментальной правовой науки, оно не может быть изолированным. Широко известно и повсеместно применяется понятие «научно-технический прогресс». Представляется возможным включить в политический, научный, программно-целевой и др. оборот понятие «научно-общественный прогресс», как минимум означающий фундаментальные научные исследования в области общественных наук, что позволит разрабатывать различные планы и программы общественного развития России.
Уже сегодня базовые технологии нового уклада – биоинженерия, нано- и информационно-коммуникационные технологии, методы обработки данных – вышли на экспоненциальный рост, что отмечалось на конференции «Оценка результативности российской науки как основы повышения конкурентоспособности России», организаторами которой выступили РАН, ФАС и Институт проблем развития науки РАН.
Что на Земле может произойти через 100 лет?
В оптимальном варианте: человечество овладеет телепатией, телепортацией, телекинезом, победит все старые болезни (но появятся новые, неизлечимые тогда, через 100 лет), будет летать со сверхсветовой скоростью в дальний и сверхглубокий космос, перемещаться во времени в обоих векторах и пр. А само общество станет гармонично развитым, жить и развиваться на принципах справедливости, отношения в нем будут в основном регулироваться нормами морали и этики.
В пессимистическом варианте развитие человечества будет малозаметным, как в Средние века. А уж в самом плохом варианте человеческая цивилизация станет деградировать, откатываться назад. Ведь каких высот в технологиях, военном деле, в юриспруденции и т. д. достигли в своем развитии Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим.
А уж промежуточных вариантов развития человечества – море, не говоря уж о количестве вариантов общества и государства в отдельных странах.
Но в чем причины деградации этих государств? Безусловно, не в технологическом застое. Главная из причин, по мысли автора данных строк, в деградации общественных отношений в целом и в отсутствии должных и эффективных организационно-правовых механизмов в том или ином государстве, обеспечивающих поддержание справедливости в обществе в целом и обеспечивающих восстановление порушенной справедливости в частности (и в особенности). Ведь при всех грандиозных достижениях научно-технического прогресса мало кому будет нравиться жить в несправедливом обществе, а отсюда – вряд ли кто из граждан государства с таким обществом будет прилагать все силы к сохранению его устоев.
Вопрос о ситуации с механизмом правосудия остается актуальным. Исходной посылкой для утверждения, согласно которому углубленная специализация в механизме правосудия служит гарантией его большей справедливости, служит постулат: специалист в любом деле более эффективен по сравнению с неспециалистом, а специалист более высокого уровня профессионализма, в свою очередь, эффективнее специалиста менее высокого уровня.
В структуре механизма правосудия это означает: судья, рассматривающий в течение примерно 7–10 лет дела определенной категории, становится профессионалом высокого (высочайшего) уровня именно в этой категории судебных дел. Он практически наверняка знает, и довольно глубоко, всю законодательно-нормативную базу и обобщенную правоприменительную, включая судебную, практику по своей теме, соответствующую научную, методическую и учебную литературу и пр. Собственный судейский опыт позволяет ему быстро и качественно ориентироваться в материалах дела, выделять главное, видеть противоречия в доказательственной базе, четко формулировать вопросы подсудимому, свидетелям, экспертам и т. д.
А поскольку любой судья ориентирован на вынесение справедливого судебного акта по рассматриваемому им делу (за редчайшими исключениями), его глубокие профессиональные (как в области практики, так и в области теории) знания обеспечат возможность вынесения им максимально справедливого судебного акта. В отличие от судьи, который не специализирован на рассмотрении дел данной категории.
Отечественная юридическая наука с разных сторон, включая исторический аспект, исследует проблематику специализации судов и судей: публикуются монографии[131], научные статьи[132], защищаются диссертации[133]. Но, похоже, результаты исследований ограничиваются предложениями тактического характера, не затрагивающими глубинных проблем обеспечения справедливости механизма правосудия. А этого в современных условиях уже недостаточно. Любой механизм правосудия состоит из трех составляющих: судоустройственной, судопроизводственной и судейско-статусной. И полная самостоятельность юрисдикции по всей вертикали может быть обеспечена, когда в ней наличествуют все три самостоятельные составляющие.
§ 2. О мировых судьях
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» после своего принятия был скорректирован 14 раз. Изменялась и его ч. 2 ст. 33, которая, в редакции от 10.07.2023 № 5-ФКЗ, устанавливает: «В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, федеральным законом в составе районного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие районного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия. В отсутствие необходимости функционирования постоянное судебное присутствие районного суда упраздняется федеральным законом». Что касается полномочий районного суда, то ст. 34 названного закона предусмотрено: он рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов. А в случаях, установленных федеральным законом, рассматривает дела об административных правонарушениях. Районный суд также рассматривает апелляционные жалобы, представления на решения мировых судей, действующих на территории соответствующего судебного района. А также, в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, важно, что районный суд – суд федеральный, как и его территориально отдаленное судебное присутствие, и является самым низовым звеном системы судов общей юрисдикции. Мировая же юстиция – не совокупность федеральных судов общей юрисдикции – это не федеральная, а субъектов РФ юстиция. И здесь наметились две линии функционирования районных судов: 1) приближение правосудия к населению посредством создания территориальных судебных присутствий районного суда; 2) ликвидации в не столь уж редких случаях самих районных судов (из-за малочисленности в них судей и по другим основаниям: в Белгородской области – Ивнянского и Старооскольского райсудов, в Пермском крае – Косинского райсуда). Дела, которые должны были рассматривать упраздненные райсуды, теперь попадают в сферу полномочий иных райсудов, и посчитать это приближением населения к правосудию невозможно.
Но и в полномочия мировой юстиции дела упраздненных райсудов не попадают, ст. 3 «Компетенция мирового судьи» Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в действующей редакции) ее полномочия определены императивно.
Представляется, что с позиции чистоты понятийного аппарата было бы верно развести понятие «мировой судья» и «мировой суд»: в первом случае речь идет о должностном лице, осуществляющем мировое правосудие, а во втором – об этом должностном лице с соответствующим аппаратом, пусть и незначительным. Как, например, в районном суде, где понятия «районный судья» и «районный суд» не отождествляются. Вообще же, как известно, мировая юстиция в России появилась в ходе судебной реформы 1864 г., но в 1917 г. была упразднена, сегодня действует институт мировой юстиции, образованный в 1988 г.
В декабре 2022 г. в стране действовало 7052 мировых судьи – при штатной численности их – 7733 (причем, что показательно, 89 из них имели ученую степень). И важно – в постановлении Х Всероссийского съезда судей от 01.12.2022 «О развитии судебной системы Российской Федерации» было провозглашено: «необходимо продолжить системное совершенствование института мировой юстиции».
И это с учетом того, что мировая юстиция, по сравнению с федеральной, иногда более приближена к гражданам – и территориально, и по предмету деятельности.
Россия по многим параметрам огромна и разнообразна, и если регионы (и этносы, там проживающие) значительно различаются друг от друга, то и участки мировых судей разных субъектов РФ различаются существенно не в меньшей мере.
При осуществлении правосудия мировая юстиция, в ряде случаев, может лучше, по сравнению с федеральными судами, воспринимать психологическое и иное мировосприятие жителей своего судебного участка, не становясь при этом слепым исполнителем закона. Не всегда судебное решение, вынесенное в полном соответствии с действующим законодательством, и в процессуально-процедурном, и в сущностно-предметном смыслах, будет при всех условиях справедливым.
В дореволюционной мировой юстиции были некоторые базовые положения, представляющие не только познавательный, но и прагматический интерес для сегодняшней мировой юстиции.
Так, в п. 12–18 гл. 1 «Общие правила» разд. 1 «О мировых судьях и их съездах» кн. I «Учреждения судебных установлений. Введение» было закреплено: мировые судьи состоят по уездам и городам. Уезд с находящимися в нем городами составляет мировой округ, а столичные города Санкт-Петербург и Москва могут быть разделяемы каждый на несколько мировых округов, состоящих из двух или более частей города, мировой же округ разделяется на мировые участки, число которых определяется особым расписанием. И в каждом мировом участке находится участковый мировой судья. При этом в мировом округе кроме участковых состоят также почетные мировые судьи. И Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого мирового округа составляет высшую мировую инстанцию, именуемую Съездом мировых судей, в котором председательствует один из мировых судей по собственному их избранию.
Эти съезды, как предусмотрено ст. 51, «собираются в назначенные сроки для окончательного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также для рассмотрения, в кассационном порядке, просьб и протестов об отмене окончательных решений мировых судей».
Но вместе с тем не следует думать, что судебной реформой 1864 г. мировая юстиция была провозглашена как полностью автономная. Статья 64 названного выше акта установила: «Непосредственный надзор за мировыми судьями принадлежит мировому съезду их округа. Высший надзор за всеми вообще мировыми судьями, так же как и за их съездами, сосредотачивается в кассационных департаментах Сената и в лице министра юстиции».
В действующем сегодня у нас Федеральном законе о мировых судьях ни о почетных, ни об участковых мировых судьях, как и об их собраниях (съездах) ничего не сказано. Установлено лишь, что деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках, что общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта РФ, согласованной с Верховным Судом РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с соответствующим субъектом РФ. При этом судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются законами субъектов РФ.
Дела каждой юрисдикции – по всей вертикали вида этой юрисдикции – должны рассматривать судьи-профессионалы, специализирующиеся именно в делах данной юрисдикции, чтобы их нельзя было «перебросить» с самыми благими целями (например, при острой производственной необходимости) на рассмотрение дел иной юрисдикции, в которых они не являются специалистами высокого уровня профессионализма, а также чтобы окончательное, финальное решение по конкретному судебному делу (в порядке надзора), как и постановление по обобщению судебной практики по конкретной категории дел с соответствующими рекомендациями, принимали судьи – специалисты именно в этой юрисдикции.
Если говорить о деятельности юрисдикций при наличии структурированной судебной системы и кодифицированном процессуальном законодательстве, то можно ожидать и справедливое правосудие.
Самостоятельная судебная система должна: обладать собственными, входящими в ее состав судебными органами, структурированными в два и более уровня; замыкаться в каждой системе на свою проверочную инстанцию; иметь собственных специализирующихся на этом виде судопроизводства судей; и руководствоваться собственной кодифицированной судебно-процессуальной основой своей деятельности.
Следует модернизировать и мировую юстицию.
Можно полностью согласиться с высказанным в современной юридической литературе мнением: мировая юстиция создавалась в России в 1864 г. для рассмотрения незначительных уголовных и гражданских дел, но основной целью было приблизить осуществление правосудия к населению, решить спор соглашением сторон или, как бы сейчас сказали, с использованием примирительных процедур. В то же время ставилась задача максимально устранить какую-либо зависимость мировых судей от местной власти[134].
Таким образом, в настоящее время именно надлежащее обеспечение и выполнение компетенций мировой юстиции (организационных, институциональных и др.) позволяет эффективно обеспечивать правовые, социальные, экономические и иные гарантии восстановления порушенной справедливости в ситуации малых их объемов.
Важно принять во внимание то обстоятельство, что справедливый судебный акт должен быть не только справедливым объективно (что, в идеале, можно посчитать, когда он соответствует закону), но и выглядеть справедливым, в том числе в глазах жителей судебного участка мирового судьи.
Возможные недостатки мировой юстиции в России – объективного, от нее не зависящего, свойства находятся не только в поле зрения юридической науки, не только в повестке дня федерального законодателя (чему свидетельство – многочисленные изменения и дополнения в Федеральный закон о мировых судьях), но и у высшего федерального органа судейского сообщества. Еще в финальном постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 19.12.2012 было отмечено: «В субъектах РФ установлены различные нормативы кадрового и материально-технического обеспечения мировых судей; по-разному решаются вопросы охраны судебных участков, обучения и повышения квалификации мировых судей, оплаты командировочных расходов и т. д. По-прежнему остаются не решенными проблемы размещения судебных участков мировых судей, обеспечения их оргтехникой и мебелью. Зачастую мировые судьи осуществляют правосудие в помещениях районных судов, что противоречит цели создания мировой юстиции. Однако решение VII Всероссийского съезда судей о передаче функции по организационному обеспечению деятельности мировых судей на федеральный уровень осталось нереализованным».
Это решение реализовано не в полной мере, что с очевидностью вытекает из постановления Х Всероссийского съезда судей от 01.12.2022 «О развитии судебной системы Российской Федерации», в котором с одобрением названа законодательная инициатива Верховного Суда РФ по вопросам взаимодействия органов власти субъектов РФ с советами судей субъектов РФ по установлению структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи, а также расширение компетенции Судебного департамента при Верховном Суде РФ по созданию условий для включения мировых судей в полной мере в единое информационное пространство судебной системы РФ. И это создаст базу для дальнейшего совершенствования законодательного закрепления механизма такого взаимодействия органов власти субъектов РФ и советов судей, а также установление в федеральных законах нормативов финансирования деятельности мировых судей.
Нужно учесть, что п. 4 ст. 4 Федерального закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в редакции Федерального конституционного закона от 08.12.2020 № 7-ФКЗ) гласит: «Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации». Это означает: а) мировая юстиция по-прежнему не федеральная, а субъектов РФ; б) при этом она относится к судам общей юрисдикции, в силу чего рассмотрение экономических споров не входит в ее полномочия.
Сегодня законом установлено: экономические споры у нас разрешают арбитражные суды. Но самое низовое звено арбитражной судебной системы – как системы, предназначенной именно для разрешения экономических споров, дислоцируется в столицах субъектов РФ, и редко где есть территориальные подразделения этих судов, которые все равно при этом остаются звеном субъекта РФ, не ниже. Если поглядеть на географическую, с административным делением, карту России, то сразу бросится в глаза – добрая половина территории России, весь ее северо-восток, это малонаселенная территория, где от большинства мелких населенных пунктов до места дислокации арбитражных судов своего субъекта РФ – сотни и сотни километров. И это – по карте. В действительности – из-за практического бездорожья, намного дальше.
Можно, конечно, сказать: территориальная отдаленность участников процесса от существующих органов судебной власти не является непреодолимым препятствием для доступа к экономическому правосудию – вследствие научно-технического прогресса.
Очевидно, что заседания в арбитражных судах по видео-конференц-связи возможно проводить там, где интернет-технологии хорошо отлажены. А там, где они отлажены неважно, где интернет-связь дает сбой или ее нет совсем, там уповать на 100 %-ный доступ к правосудию заведомо преждевременно. А уж в ситуациях, когда у участников процесса (хоть у одного) недостаточно компьютерной грамотности либо вообще нет компьютера – тем более. К тому же в немалом числе малонаселенных пунктах северо-восточной части России нет не только интернет-связи, но нет и электричества. А ведь и там предпринимательская деятельность есть, и там возникают экономические споры.
Нет сомнений в том, что для мировой юстиции не нужно создавать единый процессуальный кодекс. Однако в действующие УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и КАС РФ можно внести указания, согласно которым, к примеру, такие-то положения на мировую юстицию не распространяются, такие-то положения мировая юстиция применяет, если сочтет целесообразным. Уже сейчас, в силу положений ч. 3 ст. 193 ГПК РФ (в редакции Федерального закона от 04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному делу (за исключением некоторых случаев), что само по себе уменьшает нагрузку на мировых судей, но при этом, однако, в целом является весьма неоднозначным решением.
Каковой структурно может стать мировая юстиция в России в системно-модернизированном смысле?
Нижнее, базовое звено, оно же – первая инстанция в судопроизводстве мировой юстиции, это мировой судья на своем судебном участке, со своим аппаратом, избранный населением своего участка, ибо легислатура избранного всегда на порядок крепче легислатуры назначенного, и здесь для мирового судьи фундаментальным будет понимание: миром избран, миру служу. Но избрание мирового судьи обязательно должно производиться по особым избирательным технологиям без участия как самих кандидатов на должности мировых судей, так и без участия партий, местных и региональных властей и коммерческих структур. Здесь избирательная кампания и сами выборы на конкурсной основе (с сохранением всех установленных требований к претенденту на должность российского судьи) должны быть организованы непосредственно ЦИК и его органами на местах.
Вторым звеном, а также и апелляционной инстанцией судопроизводства мировых судей, может стать Апелляционная палата мировой юстиции такого-то района такого-то субъекта РФ. Здесь апелляционную палату будут составлять все мировые судьи района, а если их меньше пяти, то нужно будет создавать межрайонную палату. Весь штат палаты будет состоять из одного технического работника, который все поступившие в течение недели жалобы будет регистрировать, и их будет раз в неделю рассматривать отобранная специальной компьютерной программой тройка мировых судей. Сама же апелляционная палата станет также серьезным органом судейского самоуправления, решающим в том числе организационные вопросы – об отпусках мировых судей, повышении их квалификации, может быть – о присвоении квалификационных классов и др., и принимать по ним соответствующие распорядительные акты.
Третьим звеном мировой юстиции, также кассационной инстанцией судопроизводства мировых судей, может стать Кассационная палата мировой юстиции субъекта РФ, которую будут составлять все мировые судьи этого субъекта РФ. Но поскольку кассация сможет работать в основном «по праву», а не «по факту», в состав «троек» специальная компьютерная программа будет отбирать мировых судей с более высокой квалификацией – с большим судейским стажем, более высоким квалификационным судейским классом, имеющих ученые степени и пр. Кассационная палата мировой юстиции так же будет еще более значимым органом судейского самоуправления, а ее представители будут входить в состав всех органов судейского сообщества данного субъекта РФ.
А на федеральном уровне координирующую, организационную и некоторые иные, но не судопроизводственные, функции для мировой юстиции будет выполнять специальная секция мировых судей Совета судей РФ. Ряд организационных вопросов, которые решались федеральной юстицией либо органами иных ветвей государственной власти, будут решаться самой мировой юстицией (т. е. можно говорить и об их передаче органам судейского сообщества): вопросы уровня субъекта РФ – конференцией мировых судей соответствующего субъекта РФ. При такой организации дел принципиально важно, чтобы «постоянного руководителя» не было, даже из числа мировых судей. Многие вопросы изначально должны быть отражены в соответствующих регламентирующих документах, принимаемых на конференциях, например: условия и порядок замещения одним мировым судьей другого на период временного отсутствия последнего, механизм проверки жалоб и заявлений на мировых судей в рамках дисциплинарного производства и пр.
Представляется целесообразным первый этап названной модернизации провести в экспериментальном режиме – в четырех-пяти субъектах РФ.
§ 3. Особенности осуществления правосудия в регионах России
Изложенный выше перечень проблем – не мелких и не частных – механизма мировой юстиции можно продолжить. И устранять их можно по-разному. Проистекать это устранение может лишь в двух векторах.
Постепенным (как и с 1998 г. по настоящее время) превращением мировой юстиции в юстицию федеральную в качестве самого низового звена федеральной юстиции, а на финише – и по форме, т. е. с изменением уже и названия; либо существенным преобразованием ее в подлинно мировую юстицию во всех трех составляющих ее организационно-правового механизма, посредством полного ее отделения от юстиции федеральной, словом – возвратом к изначальным ее истокам, провозглашенным и реально осуществленным судебной реформой 1864 г.
Есть основание полагать, что приближение правосудия к населению посредством мировой юстиции недостаточно.
По данным переписи 2020–2021 гг. в России было зарегистрировано 153 157 сельских населенных пунктов (сел, деревень, станиц, аулов и хуторов, при этом в почти 35 тыс. Населенных пунктах живет до 10 человек), но 24 751 из них не имели постоянного населения, т. е. официально считались заброшенными, и за 10 лет (с 2010 по 2020 г.) поселений – призраков стало на 6336 больше.
Одним из путей решения этой проблемы может стать усовершенствование структуры судебной системы путем создания института органов с судебными полномочиями уровня звенности ниже мировой юстиции, максимально приближенных к редкому в тех местностях сельскому населению. Чем будет реально обеспечено требование ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, провозгласившей: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Но эти судебные органы должны не быть обычными судами – не мировыми, не тем более федеральными. Они должны осуществлять правосудие на несколько отличной основе, благо – примеров чему в нашем прошлом достаточно.
В истории нашей страны, в особенности – в дореволюционной России, правосудие осуществляли судебные органы и иные структуры с судебными полномочиями самого различного толка. В том числе – в плане приближения их к населению.
В дореволюционной России можно встретить немало судебных органов, рассматривавших «малые дела», территориально дислоцировавшихся близко к населению.
Так, в современной юридической литературе отмечается: «Псковская судная грамота 1467 г. к числу светских судов наряду с судом князя, судом посадника, судом местного старосты относила суд братчин. Братчины – это мирские пиры, собиравшиеся в определенные времена года. Организовывались они на мирскую складчину. Пир («пивцы», собиравшиеся на братчину) избирал старосту, который считался главой братчины и председателем суда. Суду братчины были подсудны дела о личных обидах, а также дела о побоях и драках, возникших на пиру. Этот суд чаще всего заканчивался примирением сторон. Суд братчины не вправе был вмешиваться в дела, отнесенные к подсудности князя или посадника»[135].
Следует сказать и о такой форме местного суда в России, как «Губные избы». Они существовали в Московском государстве в XVI–XVII вв. Многие элементы судоустройства и судопроизводства губных изб имели внешнее сходство с классической (английской) моделью мировой юстиции. Однако в них был отражен и опыт построения местного суда в «Господине Великом Новгороде». Но централизация и укрепление государственной власти вокруг Москвы, в том числе и за счет ограничения возможностей местного суда, объективно привели к замене губных изб на судей-воевод как единоличного государственного лица по отправлению правосудия[136].
Нельзя обойти вниманием и такой судебный орган в дореволюционной России, как «совестный суд», которому, как отмечается в современной литературе, отводилось особое место в судебных преобразованиях Екатерины II. Он должен был служить органом не только правосудия, но и естественной справедливости[137]. Правовой основой его служила гл. XXVI «Учреждений для управления губерний» от 07.11.1775, и состоял он из одного назначаемого совестного судьи и шести заседателей, избиравшихся по два от каждого сословия (дворян, горожан и селян). «Комплектация» суда зависела от характера рассматриваемого дела. К судье присоединялись два дворянина, либо два горожанина, либо два крестьянина (соответственно, при решении дел дворян, горожан и крестьян). Председатель суда составлял с председателями единую коллегию, совместно решавшую и «вопросы факта», и «вопросы права»[138].
В сельских местностях Восточной Сибири к XVIII в. сложилась своеобразная сельская юстиция. Как отмечается в юридической литературе (со ссылками на соответствующие источники), – в селениях, насчитывавших 15–50 дворов, избранным должностным лицом выступал сельский староста. В густонаселенных пунктах органы самоуправления были представлены сельским старшиной, старостой и выборными словесными разборщиками, число которых зависело от количества дворов. Так, например, в пределах 50–200 дворов избирались один, 200–500 дворов – два, от 500 и выше – три выборных заседателя. Исполнение судебных функций в отношении сельского населения (крестьян, приписанных к казенному ведомству) возлагалось первоначально на словесных разборщиков, разрешавших местные тяжбы в «сельской сборной избе». Возникновение разногласий между выборными заседателями, связанных с вынесением судебного решения, сопровождалось привлечением к участию в процессе высших должностных лиц – старост и старшин. Сельской юстиции подсудны были мелкие гражданские иски и незначительные уголовные дела поселян в виде «поношений», «драк» и «споров». Апелляционной инстанцией для низших сельских судов выступала Нижняя расправа[139].
Одним из классических примеров приближения суда к населению можно посчитать единый Правительственный акт «Устав об управлении инородцев» 1822 г., учитывающий этнографические и иные особенности коренного населения Сибири начала XVIII в. Исследователь этой проблемы О.А. Авдеева отмечала: относительно «оседлых иноверцев», проживавших в городах, Устав 1822 г. утверждал должности купеческих, мещанских и цеховых старост, создававших в случае многочисленности своего представительства собственные ратуши и Словесные суды, осуществлявшие судебное разбирательство на местном языке[140].
Следует обратить внимание и на такую форму местного суда, возникшего в результате судебной реформы 1864 г. в Российской империи, как волостные суды. Как указывается в современной научной литературе, привлекательность для крестьян волостных судов заключалась, прежде всего, в их доступности и простоте (нестесненности процессуальными формальностями). Еще одним аргументом в их пользу выступало то, что законодатель лишь узаконил то, что фактически было в России. Ведь крестьяне исстари судились своим собственным судом («суд стариков», старосты). И, наконец, волостной суд рассматривал дела крестьян, ориентируясь в первую очередь на нормы обычного права. Согласно ст. 107 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, при рассмотрении гражданских дел волостные суды должны были решать дело либо на основании заявленных на волостном правлении сделок и обязательств, если таковые были заключены между спорящими сторонами, либо при отсутствии таковых сделок, на основании местных обычаев и правил, принятых в крестьянском быту. Дореволюционные исследователи рассматривали решения волостных судов как единственно достоверный источник познания обычного права[141]. Правовой основой (первоначальной) создания и деятельности волостных судов послужили Временные Правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках[142].
В ходе глубокой модернизации судебной системы, сложившейся после Октябрьской революции 1917 г., сразу же стали, как указывается в научной литературе, по инициативе местных советских органов появляться различного рода учреждения, наделяемые судебными функциями: следственные комиссии, революционные суды, народные суды, разнообразные трибуналы, суды «общественной совести», сами Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, военно-революционные комитеты и пр.[143]
В начале 1930 г., к примеру, широкое распространение получили сельские общественные суды. Несмотря на слово «общественные», государственные полномочия у них были, и немалые. Правовой основой им послужило постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10.10.1930 «О сельских общественных судах», которым было установлено, что такой суд создавался при сельсовете в составе председателя, его заместителя и сельских общественных судей (народных заседателей), и их количество должно быть не менее 15 человек. Здесь судьи избирались на общем собрании граждан, пользующихся избирательными правами, и утверждались пленумом сельсовета. В круг обязанностей этого суда входило решение дел о нарушениях общественной безопасности и порядка, о хулиганстве, клевете, оскорблениях, о нанесении побоев, не причинивших серьезных телесных повреждений. Судом также рассматривались имущественные споры на сумму не свыше 50 руб., земельные и трудовые споры на сумму не более 25 руб. Права сельских общественных судов были существенно расширены постановлением Президиума ЦИК СССР от 17.04.1932 «О сельских общественных судах». В ведение этих судов были переданы дела, связанные с невыполнением крестьянами обязательств по государственным и общественным поставкам сельскохозяйственной продукции. В их компетенцию вошло и решение дел о краже, порче колхозного имущества, если размер ущерба не превышал 50 руб., а также дела о мелких кражах в размере не более 50 руб. Они имели право налагать административные взыскания в виде штрафов или принудительных работ к провинившимся. В 1933 г. по РСФСР насчитывалось 47 357 сельских общественных и товарищеских судов в колхозах. В течение всего рассматриваемого периода такие суды работали при сельсоветах, контроль за выполнением их решений осуществляли сельские исполнители[144]
