Веселые святочные истории русских писателей
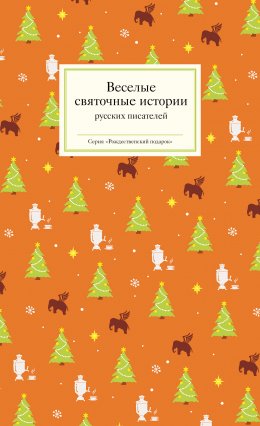
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р18-813-0487
Серия «Рождественский подарок»
© ООО ТД «Никея», 2019
Николай Каразин (1842–1908)
Чудеса хирургии, или Ночь Клеопатры
Наконец у нашего паровоза не хватило более сил. Глубоко врезался он своею горячею металлическою грудью в скатный занос, зашипел, запыхтел, жалобно свистнул раза два и встал.
Забегали по вагонам озабоченные кондукторы, направляясь к голове поезда, встревожилась и публика… На служителей «тяги» дождем посыпались вопросы: это почему? что случилось?.. кой там черт-дьявол?.. Один заспавшийся пассажир суетился и требовал носильщика, думая, спросонков, что приехали… Большинство же относилось или, по крайней мере, делало вид, что относится равнодушно к данному событию, ибо предвидеть сие было весьма вероятно.
Лило с утра, лило весь день… На каждую станцию поезд прибывал с получасовым, и даже более, опозданием… Накопилось этого опоздания уже часов восемь, а до города, до конечной цели, куда уже мы давно должны были прибыть, осталось еще верст до сотни…
А поезд был предпраздничный, набит битком пассажирами, и все рассчитывали провести канун, великий сочельник, в кругу своих родных и близких у, так сказать, уютного семейного очага… Вот тебе и прибыли!.. Конечно, досадно! И если, в предвидении такой неприятности, лица наших пассажиров уже с утра стали понемногу вытягиваться, то теперь, к ночи… Можете ли вы себе представить, что представляли бы из себя физиономии путешественников, если бы выражение «вытягиваться» понималось бы в буквальном смысле?
Вы, если не все, то, по крайней мере, большинство, по горькому опыту знаете, что такое вагон второго класса, переполненный пассажирами, да еще предпраздничными, да еще зимою… Про третий класс я и не говорю! Если бы железные дороги были изобретены во время великого итальянского поэта Данте, то, наверное, к его поэме «Ад» прибавилась бы новая глава… Пассажиры воспользовались откидными приспособлениями для спанья, а потому расположились в два слоя.
Пассажиры, кроме той одежды, что на них, запаслись еще, на всякий случай, шубами, шинелями, даже дубленками с их острым, всюду проникающим запахом, массою пуховых подушек, стеганых одеял и пледов, у всякого корзины по три, а то и больше с провизиею, ведь дело перед праздниками, и вся эта провизия тоже распространяет разнообразные ароматы, и все больше угрюмо-постные… А чемоданы, якобы ручной багаж, что двоим из вагона не вытащить, картонки, узлы, домашние собачонки, пронесенные контрабандою в вагон под полою бурнуса своей владелицы, малолетние дети, которым полагается – de jure[1] только половина места, a de facto[2] полтора… Ну, просто – ни пройти, ни продышать… Никакого порядочного приспособления для очистки воздуха… и на ходу-то скверно, а тут стоп! Ни взад, ни вперед, ни выйти некуда, ни повернуться!..
Паровоз уже давно перестал протестовать своими унылыми свистками, кондуктора попрятались от праздных вопросов, разных претензий, доходящих даже до ругани. Остается сидеть и ждать – а чего ждать?.. Разве что появления какой-нибудь благодетельной феи, которая мановением жезла разнесет в прах эти снежные заносы, освободит железного богатыря, расчистит перед ним путь… облегчит души несчастных, заточенных путников. Но когда это свершится, когда?
А вот когда. Поезд застрял, отойдя семнадцать верст от маленькой станции Голодайки, не доходя до следующей, тоже маленькой, без буфетной станции Холодайки, а за сорок верст ходу – станция Выпивайка, но это хорошая станция, большая, по шерсти и кличка…
Поездной телеграфный аппарат не действует, кондуктор «побег» до сторожевой будки, «чтобы, значит, погнать самих сторожей, от будки до будки, пешком на Холодайку, а уж оттедова – телеграмму дадут на Выпивайку, чтобы, значит, выслали паровоз с рабочими… Вот и рассчитывайте сами.
Так пояснил и растолковал сущность положения сам «обер» перед тем, как надолго скрыться с глаз претендующей публики.
Когда, под гнетом неизбежности данного тяжелого положения, всеми овладевает чувство уныния и тоски, воцаряется общее молчание, стоит только одному кому-нибудь не только слово промолвить, а просто вздохнуть «от глубины души», то сейчас в ответ послышится сочувственный вздох, а там и пошло, и пошло…
Начнет так:
– О-хо-хо!.. Хо!..
А другой в ответ:
– Да-с!.. Это точно, что о-хо-хо!
А далее:
– Ну-с, доложу вам… Ведь это уже того-с… это что, называется…
А потом:
– Был тоже раз с нами случай…
Вот и пошел разговор… спасительный, потому что объединяющий злополучную компанию, благотворно сокращающий невыносимо тягучее время. Так и теперь… Не успели повздыхать немного, как один такой сладенький, заприлавочный тенорок робко произнес:
– Это еще ничего, мол, в вагоне!.. Тепло, вольготно, да и ненадолго-с, с полсуток потерпим, а там и раскопают…
Был такой полумрак от густоты воздуха, что только туманными пятнами обозначались огни вагонных фонарей, а лиц пассажиров различить не было никакой возможности – голосами только и разнились…
– В вагоне еще можно вытерпеть, – согласился с тенорком хрипловатый бас. – А вот как на большом сибирском тракте замело нас в санях, так ведь не чаяли и живы быть, молились да к смерти готовились…
– В такие метели, – поддержал другой бас, вроде протодьяконского, – много народу гибнет… В степи ежели…
– И не только простого звания, – отозвался третий тенор с сильным насморком. – Был даже случай с одним вице-губернатором… Ямщик поехал верхом искать дороги, а он остался в возке и, конечно, погиб…
– У нас под Красноярском вице-губернатора – станового раз занесло, так на шестые сутки, без малого неделю спустя, разыскали…
– Отрыли?
– Отрыли. Только не люди, волки отрыли и сожрали. По документам только и узнали, что становой… а то…
– Должно быть, с тракту сбились… Тогда уже беда!.. А нет, лучше не пытайся, не ищи дороги – отмаливайся на месте… Да уповай на Бога!
– У нас был случай такой, целый поезд сбился с дороги. Машинист ничего не мог видеть, не мог управлять. Локомотив незаметно отклонился левее, и пошло, и пошло.
– Это с рельсов-то?..
– Какие там рельсы? Когда все, вы понимаете, все замело!..
– Ну что вы врете!..
– Позвольте, позвольте. Да это на какой дороге было?
– А на этой, знаете, на Ростов-Владикавказской!
– Ну, там возможно… Там все возможно…
– Там, батюшка мой, был такой случай, в газетах напечатано. Налетает на станцию шайка разбойников… Что, спрашивают, номер тридцатый не проходил еще? А этот номер, господа мои, был почтовый и большие суммы вез. Начальник станции оробел, понятное дело: люди в папахах, в зубах по кинжалу, в каждой руке по ружью, – вот он и докладывает: прошел не более как минут двадцать. «Давай, такой-сякой, сейчас нам экстренный!» Подали… Разбойники-то взяли билеты третьего класса, а засели в первый, дуют в два кнута… понятно, догнали да с размаху так и врезались!
– Эко, парень, врет здорово! – раздалось из дальнего угла, откуда особенно тянуло запахом семги и слышалось чавканье.
И это замечание некстати чуть было не испортило всего дела. Настало неловкое, смущенное молчание… Только рассказчик пробормотал вполголоса:
– Я не знаю… я сам не был… Что люди, то и я… В газетах было пропечатано!
– А тяжелое это состояние, быть занесенным в снегу… – отважился даже чей-то женский голос.
– Быть, так сказать, погребенным заживо… Представить себе только, так уже будто сам испытываешь адские мучения… – продолжал другой, тоже женский, голос, погрубее…
– В снегу-то еще ничего, сударыня… А вот как вас на три аршинчика да в землю, да в тесном ящичке…
– Не говорите… это ужасно!
– Я, впрочем, сомневаюсь, чтобы такие случаи действительно были.
– Бывают-с… и бывали неоднократно!
– У нас одного купца-лабазника чуть не зарыли, только тем и спасся, что Бог помиловал, чих послал, как раз, значит, в то время, как крышку заколачивать стали. Развели это олово, запаявать, значит, дух пошел едущий – он и прорвался… Как чихнет, все так со страху повалились…
– Тоже и у нас одного похоронили. Дорогою, когда везли под катафалком, кучер сказывал, будто как в гробе кто-то хрюкает, да ему не поверили, похоронили, а потом сомнение одолело, как бы что не так… Пока бумагу подавали на разрешение, значит, отрытия, пока что… разрыли – а он кверху спиною, и руки все изгрызены…
– Господа! Нельзя ли прекратить эти разговоры! Я женщина нервная… я не могу…
– А вы не слушайте, если нервная! – запротестовали женские голоса.
– Ах! Как же не слушать, когда все это так интересно?
– И хочется, и колется, значит! – захихикали в углу, откуда семгою пахло.
– А ведь это действительно ужасное положение – быть заживо погребенным. И все слышать, все сознавать, все чувствовать…
– А приходилось ли кому-нибудь слышать лично такого заживо погребенного и спасенного?..
– Нет, не приходилось…
– Я видел одного в монастыре. Только тот ничего не рассказывал, принял схиму и дал обет молчания!
– Ах, как бы это было интересно!
– Да коли бы не врали, а правду говорили… оно точно, что тогда бы занятно было и даже, могу сказать, поучительно! – опять донеслось вместе с букетом семги.
– Да вот, к примеру, померла, думали, купчиха Федулова, богатейшая старуха, дочь свою за молодого офицера выдала, с уговором, чтобы при себе жить, вместе, значит. Положили старуху в гроб, обрядили, как следует. День прошел, ничего, – завтра хоронить. Лежит купчиха да все слушает. Дочь плачет, причитает: «На кого, маменька, вы нас, сирот, покидаете?» – а муж ейный утешает, говорит: «Не плачь, мой ангел, не убивайся!.. Поверь, лучше будет. Мало ли нас эта ведьма мучила… Чтобы ей на том свете легче было, чем нам с тобой на этом было…» Тут теща и не выдержала, не стерпела – злоба всю летаргию как рукою сняла. Выскочила из гроба, да и кричит: «Вон, мерзавец, из моего дома!..» То есть такая, я вам доложу, история вышла…
– Это уже никак юмористика пошла! – заметил кто-то.
– Комедь – одно слово…
– Да вот комедия, вы говорите… А вот вы, господин, побывайте в нашей шкуре, когда раз товарищ наш в больнице помер. Дали знать, пошли наши помолиться, сами видели, как голый, под простыней в мертвецкой лежал носом кверху… А в ту же ночь просыпается один из молодцов и видит: покойник у шкафика, где водка хранилась, да так и хлопает рюмку за рюмкою…
– И семгою, небось, вот как я, закусывает…
– Да что это вы право… Все врут да врут – кушайте себе на здоровье и нас не смущайте!
– Да врите, мне что…
– Ах, господа! – томно проговорила какая-то дама. – Эти рассказы, эти страшные приключения так приятно, так хорошо слушать… сердце замирает и так бьется при этом, так бьется странно… и так хочется верить…
– Позвольте и мне, господа, простите, что я вмешиваюсь в общий разговор, а потому только и беру на себя эту смелость, что разговор именно общий. Позвольте же и мне в свою очередь… начать с небольшого вступления, а потом и приступить к самому рассказу…
Из мглы вагонной атмосферы выдвинулась довольно стройная фигура господина лет под сорок, он стоял теперь у самого фонаря, и потому, по крайней мере, ближайшим к нему можно было довольно обстоятельно ознакомиться с чертами лица этого господина.
Это был брюнет, с горбатым носом и необыкновенно роскошною, черною, как смоль, шевелюрою; такая же курчавая окладистая борода покрывала почти полгруди. Голос у него был обворожительный баритон, такой, как бывает только у пленительных исполнителей партий Цыганского барона[3] или Маркиза де Корневиль[4], да и манеры у него были округленно-изящно и как-то сценически закончены.
– Он очень недурен! – протянула вполголоса одна из дам.
– Ах! Я его где-то видела!.. – скороговоркой проговорила другая…
– Я, господа, несколько разделяю скептицизм нашего товарища по путешествию. Вот того самого, что теперь, в настоящую минуту, кажется, утолил уже свой аппетит и заворачивает соленую рыбу в газетную бумагу!
– Копченую, сударь, копченую…
– Да? Очень приятно… Так вот, господа, я с ним не могу не согласиться, что в фактах, изображенных предыдущими повествователями, чувствуется не то что неправда, а некоторая преувеличенность, граничащая с заметным уклонением от истины!
– Ах, как говорит! – восторгнулся дамский голосок.
– Держу пари, что адвокат! – шепотом заметил один другому.
– А я думаю, что актер… – отвечал тот тоже шепотом.
– Ни тот ни другой, – улыбнулся брюнет, у которого слух оказался очень тонок. – Я просто человек, которому пришлось испытать на себе лично весь ужас положения, о чем шла сейчас речь. И вот я, сознавая, что только истина, без всяких прикрас и добавлений, одна только истина может составлять настоящий трагизм рассказа…
Все насторожили уши, а дамы так те просто вздрогнули, словно их насквозь пронизала электрическая искра. С поднятых верхних сидений спустилось несколько пар полуразутых ног. Нервная дама энергично протискалась вперед, поближе к оратору, и окаменела, вперив глаза в обладателя этой черной, как воронье крыло, курчавой, великолепной бороды и шевелюры. А тот, польщенный общим вниманием, позировал.
– Да, господа, – говорил он, – прекрасное обыкновение, в высшей степени полезное и даже поучительное, как вот они изволили выразиться, рассказывать в таких случаях разные происшествия. Все интересное, что могло случиться в жизни рассказчика, но только под одним условием… Правда, правда и правда; надо избегать всего, что только может набросить тень на правдивость рассказа, всего, что может заронить искру сомнения. Ложь в таких случаях – святотатство. Да и к чему лгать, когда правда сама по себе ужасна, когда она не нуждается в прикрасах… когда… одним словом, когда происходит дело так, как оно произошло, например, со мною самим…
– Ах, как говорит!..
– Душка!..
– Ну, послушаем…
– Извольте… Если действительно я могу занять вас хоть сколько-нибудь моим правдивым рассказом, я начинаю…
– По-жа-луй-ста!..
– Во-первых, господа, позвольте мне не представляться и сохранить свое инкогнито. К этому меня обязывает моя прирожденная скромность. Непосильные труды мои на научном поприще, усиленная творческая работа моего мозга, одним словом, разные причины привели меня к роковой болезни. Я слег в постель, и даже очень серьезно… В газетах стали печататься бюллетени, все медицинские знаменитости посетили меня, предлагая свои услуги. Все принялись меня лечить, и поодиночке, и оптом, и все от разных болезней… В ежедневных консилиумах никто ни с кем не соглашался, все упорно отстаивали свои диагнозы, наконец я не выдержал и в одно прекрасное утро услышал над своею головою страшное слово: «mortus»[5]. Это был голос знаменитого Икса. Тогда ко мне нагнулся другой, Игрек, пощупал лоб, приподнял пальцем веко левого глаза, подержал за пульс и проговорил то же роковое слово… Подошел третий, Зет, приподнял веко правого глаза, приставил к сердцу инструмент, послушал и подтвердил результаты их наблюдений… И все шестеро, их было шесть, все в один голос, после долгих и тщательных исследований, согласились с первыми тремя… Мне самому оставалось только поверить… и я поверил бы. Не мог же я не верить таким знаменитостям! Меня только удивляло странное состояние, в котором я находился… Я ничего не видел, даже в те мгновения, когда чужой палец насиловал веки моих глаз, я не мог пошевелить ни одним своим членом, а между тем я все сознавал, все слышал, даже тиканье моих часов в кармане одного из эскулапов, недоумевая, как они туда попали… Все это было так ново, так странно! Я колебался и сомневался – сомневался и колебался, и вдруг меня осенила страшная, мучительная, неотвязная мысль: летаргия!.. От одной этой мысли вся кровь моя оледенела… Еще один прибавился роковой признак, убеждающий докторов в верности их определения. «Светила науки», забрав свои инструменты, тщательно помыв руки и даже попрыскавшись духами с моего туалетного стола, молча и торжественно вышли. Я остался один… Но ненадолго. Весть о моей смерти разнеслась по городу быстрее молнии. Первыми стали врываться дамы, я слышал шелест их платьев, я узнавал их по букету их омоченных слезами платков, они рыдали у меня на груди, язвительно замечая при этом друг другу бестактность такого компрометирующего выражения скорби. Затем стали появляться депутации от разных обществ с траурными венками. Затем меня перенесли в большую залу, я слышал, как шумели широколистные пальмы и другие экзотики, когда их устанавливали вокруг катафалка, как говорили грубые незнакомые голоса, как бесцеремонно хлопали двери по всему дому, как и что говорили обо мне мои бесчисленные друзья и знакомые. О, если бы я мог это записать и поставить на полях свои отметки!.. Сначала меня все это занимало и развлекало, отгоняя страшную мысль о моменте погребения. Ведь должен же наступить этот ужасный момент, когда живого, но сознающего человека уложат в тесный гроб, в этот холодный металлический ящик, как все земные звуки станут затихать под тяжелою гробовою крышкою, как понесут по лестнице, как установят на катафалк, как повезут и, наконец, как этот проклятый гроб, эта вечная тюрьма, колыхнется на холстах, спускаясь медленно в зияющую темную могилу… О Боже мой! Когда я говорю, когда я только вспоминаю об этих мгновениях!.. Посмотрите, господа, как холодеют мои руки, посмотрите, как холодный пот покрывает мой лоб, как бьется сердце!..
Рассказчик, помолчав с минуту, одним энергичным взмахом руки поправил свои волосы, тряхнул головою, словно отгоняя мучившие его страшные признаки, и продолжал:
– Но у меня все-таки еле теплилась слабая надежда. Я знал, что роковая минута наступит еще не скоро и я могу еще вовремя проснуться. Я верил в возможность своего спасения, я верил в чудо, но, кажется, напрасно… На другой день я узнал по голосам всех своих докторов; по их разговорам оказалось, что они еще раз собрали консилиум, на котором, во имя науки, во имя расследования тайны моей необыкновенной болезни, решено было предварительно меня анатомировать.
– Ай… Замолчите, замолчите!.. – вскрикнула одна из дам.
– Извините, господа, я предупредил вас, что речь будет не о чем-нибудь особенно веселом… я могу и прекратить…
– Ах, рассказывайте, – простонала дама, – это уже прошло!
– Время моего вскрытия назначено было в эту же ночь. Последний луч надежды моей погас… Кровожадные бандиты, вооруженные ножами, придут довершить свою роковую ошибку… О проклятие!.. И тут же меня осенила мысль: «А может быть, все это к лучшему?..» Легче принять смерть от удара ножом, во имя хотя бы науки, чем бесплодно проснуться в гробу, под тяжестью трехаршинного слоя песку и мокрой грязи. Я геройски решил перенести мою печальную участь, я только думал об одном: сразу ли они меня прикончат или будут резать по частям, мало-помалу углубляясь в свое исследование? Наступила ночь. Я узнал это по тишине, по тому, что даже унылое рокотание дежурного причетника прекратилось. Снова вошли люди, установили какой-то другой стол, вынули меня из гроба, раздели и уложили!.. Я слышал бряцанье железа и стали, слышал предварительные разговоры и снова споры светил науки и наконец ясно услыхал, как один из них предложил своему коллеге приступить пока к трепанации черепа. «А я, мол, пока займусь вскрытием грудной клетки». Сердце мое, почки и печень предполагалось унести с собою для дальнейших, уже кабинетных, исследований. Странное понятие о праве собственности! Если бы вы, господа, могли бы представить себе хотя бы миллионную часть того, что я пережил, правильнее – перечувствовал, в эти минуты! Но этого нельзя выразить словами, это смесь смертельной тоски, отчаяния, злобы ко всему миру, презрения к своему бессилию, безотчетного, подлого страха, чувств человека, невинно осужденного, которому уже поздно надеяться на восстановление справедливости, которого уже связали, и палачи укладывают его голову под нож гильотины!.. И самое ужасное, что связали, то есть лишили возможности борьбы, сопротивления. А между тем время шло, и мои палачи не дремали, – я чувствовал, как холодный нож плавно скользнул вокруг моего черепа, как прикоснулась к нему пила, с каким зловещим шорохом проникала она вглубь, как отделилась, словно крышка арбуза, вся срезанная часть, как мой бедный мозг обдала струя холодного воздуха… Я слышал, как под ножом другого хрустели мои ребра, я слышал, как меня обирали, грабили, мало-помалу, отделяя с своих законных мест важнейшие органы моего земного существования. Вдруг я услышал дикий, перепуганный крик одного из моих палачей: «Стойте, стойте! Он жив, смотрите…» Наступило общее молчание… Все как бы оцепенели, но сейчас же начались споры вполголоса, и поднялась суетливая работа. «Да, конечно, жив!.. Посмотрите, он поседел, его волоса, его борода. Скорее назад, все на место! Еще есть надежда на спасение… Хирургия так шагнула вперед!» Но с этой минуты, господа, я перестал уже не только чувствовать, но и слышать, одна только мысль мелькнула: убили! Теперь уже смерть настоящая!.. Мне стало так хорошо, так спокойно – я в одно мгновение примирился с людьми, с жизнью, все и всех простил, и сам, даже сознательно, потянулся, выправив свои неудобно разложенные на оперативном столе ноги! Настоящим образом я пришел в себя уже спустя месяца три после всего этого происшествия. Хирургия, господа, в наше время действительно делает чудеса… ее представителям ничего не стоит разобрать человека по частям и потом собрать все вместе, словно механизм какой-нибудь. Я потом много раз виделся со своими палачами-спасителями, и они мне рассказывали очень обстоятельно все подробности такого редкого, исключительного случая. Вы что на меня, господа, так подозрительно смотрите?
– Господин, а господин… Так нельзя!.. Ведь вы сами обещали не врать… Сами хотели только правду, чтобы без прикрас и преувеличений!
– Ах! Понимаю! Это вас смущает чудесный цвет моих волос!.. Ха-ха-ха!.. Вот видите, господа, милостивые государи и государыни. Вот что значит быть человеком безупречной правды и никогда не дерзать уклоняться, хотя бы на полсантиметра, от истины. Я бы мог объяснить вам метаморфозу моих волос вполне научно, я бы мог указать вам на такой вполне логичный факт, что ежели глубокая скорбь, сильное внезапное потрясение оказывают на волосы такое действие, как мгновенное лишение красящего вещества, то есть быстрое седение, то такая же внезапная радость и наплыв счастья могут, как обратное явление, вызвать и обратные результаты, а согласитесь сами, что мне было чему радоваться, если так удачно я отделался от такого медицинского недоразумения. Но я этим не объясню дела, я вам имею честь представить еще лучшее, превосходное средство для восстановления утраченной красоты ваших причесок. Взгляните и судите! Это дивное, вне конкуренции, изобретение известного профессора химии, почетного советника при всех иностранных дворах и кавалера многих орденов, известного, великого ученого Абрама Зомер-Цвабеля… Взгляните и судите!
Тут рассказчик повторил свой красивый жест рукою, грациозно раскланялся и, поспешно раскрыв свой портфель, очень объемистый, которого мы все как-то не заметили сначала, вынул оттуда пачку визитных карточек, на другой стороне которых было крупно напечатано:
НОЧЬ КЛЕОПАТРЫКраска для волос Абрама Зомер-Цвабеля(прошу остерегаться подделки).
1880-е
Николай Лесков (1831–1895)
Дух госпожи Жанлис[6]
Спиритический случай
Духа иногда гораздо легче вызвать,
чем от него избавиться.
А. Б. Калмет[7]
Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени.
Зимою 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц: матери – пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границею; сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошел семнадцатый год.
Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.
Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов прославленных умом и талантами французских женщин времен процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое ее чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж[8], но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracota[9] миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее[10] Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики[11]. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, так сказать, таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По ее словам выходило, что она не расстается с этими волюмами[12] «с тех пор, как себя помнит», и что они лягут с нею в могилу.
– Мой сын, – говорила она, – имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена, что они пригодятся мне даже после смерти.
Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдаленные объяснения по поводу последних слов – и получил их.
– Эти маленькие книги, – говорила княгиня, – напоены духом Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно, в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки, на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.
Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все, ею мне сейчас сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы.
– И это именно потому, – заключила она, – что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь!
При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.
Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.
Притом же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.
«Множество доказательств», о которых упоминала княгиня, можно было слышать от нее множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жан-лис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы.
Это, по словам княгини, вошло в ее «абитюды»[13], которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.
Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.
Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.
Я уже знал теорию Кардека[14] о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюсляр?[15]
Случай к тому не замедлил, но как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.
Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды; но как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти веровавания резко расходились с их собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть что они принимали все это за шутку.
Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.
Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин[16] – старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение.
Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения; она имела, или, по крайней мере, ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски… Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскою литературою – разумеется, исключительно хорошею, то есть настоящею, а не зараженною «злобою дня».
О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли – их ли силы и отваги или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определитель-нее боялась «нецеломудренных намеков», которыми, по ее понятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.
Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и поверке. Она, несомненно, была не из этих, и чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелки ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?
Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому.
Благодаря тому что княгиня имела на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определитель-на. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, – он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, где говорят о любви, а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня отвечала:
– Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, – вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.
Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно разумеет княгиня под разжигающими предметами, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?
Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?
На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».
Мне показалось, что я не вслушался или не понял.
– Локти, локти, – повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. – Неужто вы не помните… как его этот… герой где-то… там засматривается на голые локти своей… очень простой какой-то дамы?
Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод[17] из «Обломова» и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием «локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?
Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в котором покровы красоты приподняты гораздо решительнее!
Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, – и решился не советовать, а противоречить.
– Княгиня, – сказал я, – мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к художественной литературе есть преувеличение.
Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу.
Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «culotte»[18], но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить; у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «culotte» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева.
Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен.
Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.
– У вас, – сказала она, – есть доводы, а у меня есть оракул.
– Я, – говорю, – интересуюсь его слышать.
– Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.
– Потрудитесь указать, где я должен читать? – спросил я, принимая волюмчик.
– Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.
Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.
– Вы смущены? – спросила княгиня.
– Да.
– Да; это бывало со многими. Я прошу вас читать.
«Чтение – занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте». Вот что прочел я и остановился.
Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:
– По-латыни это, кажется, называется dixi?[19]
– Совершенно верно.
С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра».
О «духе» Genlis я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде.
Но «дух» действительно жил и был в действии, и вдобавок представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством, и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur, отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.
У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий – дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.
Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и, к чести наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, – особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.
Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть все-таки змея».
Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.
Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис, и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитою. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть все-таки змея».
– Правила без исключения не бывает, – сказала княгиня.
Дипломат догадался – кто должен быть исключением, и промолчал.
Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:
– Какая же она змея!
Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем: он тихо помахал пальцем и тихо же улыбался, – он не верил ни плоти, ни духу.
Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.
Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.
– Я отвечаю, – сказала она, – что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.
Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом[20] этажерке, взяла без выбора волюм – и обратилась к дочери:
– Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.
Княжна повиновалась.
Мы все изображали собою серьезное ожидание.
Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, – она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner»[21]. За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей[22]. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand[23], когда она «слаба глазами стала»[24].
Запись говорила о толстом Джиббоне[25], которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разгадала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца.
Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».
«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все… Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: „Какая гадкая шутка!“»
Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: «Что такое показалось m-me Dudeffand?» – то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику.
Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.
Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все «три друга» и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико[26] осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.
Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.
Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначащее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?
Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.
С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же «кондолеансы»[27] мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, явиться туда – тоже казалось некстати.
Может быть, я был и не прав в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от «духа» г-жи Жанлис, был очень тяжел и имел серьезные последствия.
Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.
– Давно не видал вас, – сказал он.
– Негде встречаться, – отвечал я.
– Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.
– Как, – говорю, – уехать… Куда?
– Будто вы не знаете?
– Ничего не знаю.
– Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось… Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.
– По-моему, даже двух и трех.
Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил:
– Каких-с?
– Во-первых, это доказывает, что книги, о которых решаемся говорить, нужно прежде прочесть.
– А во-вторых?
– А во-вторых, что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.
– И в-третьих?
– В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.
– И все не то: дух подтверждает одно мое мнение, что и «лучшая из змей есть все-таки змея», и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что держит свой яд в хвосте.
Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.
К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.
1881
Николай Лесков
(1831–1895)
Штопальщик
Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастие, а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событьице, имеющее совсем святочный характер.
В одну из очень давних моих побывок в Москве я задержался там долее, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит:
– Вот бы им, батюшка, к куму моему, – у него нынче комната свободная на улицу.
– К какому куму? – спрашивает священник.
– К Василью Конычу.
– Ах, это «метр тальер Лепутан»!
– Так точно-с.
– Что же, это действительно очень хорошо.
И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, и псаломщик добавил еще про одну выгоду:
– Если, – говорит, – что прорвется или низки в брюках обобьются – все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить.
Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть, а дал псаломщику ключ от моего номера с доверительною надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевезти все к его куму. Потом я просил его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.
Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мною к священнику.
– Пойдемте, – говорит, – все уже ваше там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же, на балкончике, чайку выпили. Хорошо там, – рассказывает, – цветки вокруг, в крыжовнике пташки гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, потому – зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низки обились, – сейчас исправят.
Псаломщик был парень аккуратный и большой франт, а потому он очень напирал на эту сторону выгодности моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал.
– Да, – говорит, – tailler Lepoutant такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете.
– Специалист, – серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик.
Кто это Lepoutant – я не разобрал, да притом это до меня и не касалось.
Мы пошли пешком.
Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы «два шага проминажи».
На самом деле это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотелось сделать «проминажу», может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.
Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою к Яузе, где-то на бережку. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулочек, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено:
«Maîtr tailler Lepoutant».
Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось: зачем же мой хозяин, по имени Василий Коныч, называется «Maîtr tailler Lepoutant»? Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка, и не придал этому никакого значения, но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого:
– Василий Коныч – русский или француз?
Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал:
– Что вы это? Как можно француз – чистый русский! Он и платье делает на рынок только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше он по всей Москве знаменит починкою: страсть сколько старого платья через его руки на рынке за новое идет.
– Но все-таки, – любопытствую я, – он, верно, от французов происходит?
Псаломщик опять удивился.
– Нет, – говорит, – зачем же от французов? Он самой правильной здешней природы, русской, и детей у меня воспринимает, а ведь мы, духовного звания, все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации?
– У него на вывеске написана французская фамилия.
– Ах, это, – говорит, – совершенные пустяки – одна лаферма. Да и то на главной вывеске по-французски, а вот у самых ворот, видите, есть другая, русская вывеска, эта вернее.
Смотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке, а внизу подпись:
«Делают кустумы русского и духовного платья, со специальностью ворса, выверта и починки».
Под этою второю вывескою фамилия производителя «кустумов, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».
Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василья Коныча. Скоро мы с ним стали сходиться пить чай, начали благо беседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана.
Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коныч пожелал рассказать мне странную историю: как и по какой причине он явился «под французским заглавием».
Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске.
Коныч начал просто, но очень интересно.
– Моя фамилия, сударь, – сказал он, – вовсе не Лепутан, а иначе, – а под французское заглавие меня поместила сама судьба.
– Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, – весь седенький, будто подлинялый зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке, смечет парочками на нитку и ходит «по христианам», а сам поет ласково: «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Так, бывало, по всей Москве ходит и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону. Для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя оборочками и меня к своему мастерству выучил. Но у меня с детства особенное дарование было – штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Так я к этому приспособился, что, бывало, где угодно на самом видном месте подштопаю и очень трудно заметить.
Старики отцу говорили:
– Это мальцу от Бога талан дан, а где талан, там и счастье будет.
Так и вышло; но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания: во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое Рождество, когда я был в Божьем храме у заутрени, и там погорело все мое заведение – и утюг, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастию.
Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит:
– Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо бы еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем, однако, что ты мне со временем долг отдашь.
Я отвечаю:
– Если бы только Бог позволил, то с большим моим удовольствием – отдать долг почитаю за первую обязанность.
Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику, и сказывает ему при мне:
– Вот, – говорит, – тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный.
Коммерция их была такая, чтобы разутюживать приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется.
Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо, и приказал оставаться.
– Теперь, – говорит, – Христов праздник, и господ много наехало, и все пьют-гуляют, а впереди еще Новый год и Крещенье – безобразия будет еще больше, – оставайся.
Я отвечаю:
– Согласен.
А тот, что меня привел, говорит:
– Ну, смотри, действуй, – здесь нажить можно. А только его (то есть подбуфетчика) слушай, как пастыря. Бог пристанет и пастыря приставит.
Отвели мне в заднем коридоре маленький уголочек при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, – пожалуй, и не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна.
Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сейчас надеть надо. Иной раз, бывало, даже совестно, – дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно – дают золотой.
Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, как воды капля с другою слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована.
Из денег мне, из каждой платы, давали третью часть, а первую брал подбуфетчик, другую – услужающие, которые в номерах господам чемоданы с приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел к себе: на том же дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни приехала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, как ее видите, – она и есть, дожила до старости с почтением, и, может быть, на ее долю все Бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал: «Она сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет». И она тоже говорила: «Я, говорит, счастливая, – тебе за меня Бог даст»; и вдруг словно через это в самом деле случилась удивительная неожиданность.
Пришло опять Рождество, и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя – что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, как прибегает лакей из номеров и говорит:
– Беги скорей, в первом номере страшный Козырь остановимшись, – почитай всех перебил, и кого ударит – червонцем дарит, – сейчас он тебя к себе требует.
– Что ему от меня нужно? – спрашиваю.
– На бал, – говорит, – он стал одеваться и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил, избил и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой сердитый, что на всех зверей сразу похож.
Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но, однако, оделся и пошел смотреть Козыря, который один сразу на всех зверей похож.
Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается «козырной» и не роскошный человек там не останавливается; а в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации – пятьдесят два с полтиною, и кто тут стоял, звали его Козырем.
Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный – ростом огромнейший и с лица смугл и дик и действительно на всех зверей похож.
– Ты, – спрашивает он меня злобным голосом, – можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя?
Отвечаю:
– Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь.
– Сам, – говорит, – ты мове, а мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевши, цигаркою фрак прожег. Вот осмотри его и скажи.
Я осмотрел и говорю:
– Это хорошо можно сделать.
– А сколько времени?
– Да через час, – отвечаю, – будет готово.
– Делай, – говорит, – и если хорошо сделаешь, получишь денег полушку, а если нехорошо, то головой об кадушку. Поди расспроси, как я здешних молодцов избил, и знай, что тебя я в сто раз больнее изобью.
Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь: попроховее сукнецо лучше слипнет, а которое жестче – трудно его подворсить так, чтобы не было заметно.
Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа этакая капризная, что как хорошо ни сделай, а все кто охоч придраться – легко можно неприятность получить.
Послал я фрак с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой ворочалась, и как она прибежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать.
Утром я встал и повел день своим порядком: сижу за работою и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалованье – денег полушку или головой об кадушку.
И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит:
– Барин из первого номера тебя к себе требует.
Я говорю:
– Ни за что не пойду.
– Через что такое?
– А так – не пойду, да и только; пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю.
А лакей стал говорить:
– Напрасно ты только страшишься: он тобою очень доволен остался и в твоем фраке на бале Новый год встречал, и никто на нем дырки не заметил. А теперь у него собрались к завтраку гости его с Новым годом поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе разговаривать, об заклад пошли: кто дырку найдет, да никто не нашел. Теперь они на радости, к этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьют и самого тебя видеть желают. Иди скорей – через это тебя в Новый год новое счастье ждет.
И жена тоже на том настаивает – иди да иди.
– Мое сердце, – говорит, – чувствует, что с этого наше новое счастье начинается.
Я их послушался и пошел.
Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят:
– Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.
И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.
Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему непривычен, да и такой компании не заслуживаю.
А страшный барин из первого номера отвечает:
– Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, – ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под Новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя будет.
– Желаю, – говорю, – вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастии.
– А ты за это выпей.
Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.
– Хорошо, – говорит, – только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозванию: я хочу твоим благодетелем быть.
Я отвечаю:
– Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозванием Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».
Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатились; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.
Ничего я понять не мог, и дай Бог скорее ноги.
Прихожу, а жена спрашивает:
– Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?
Я говорю:
– Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.
Жена встревожилась: что, как и за какую провинность? – а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.
Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.
Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, раскрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорище, а в другой – поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».
Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, – я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».
Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.
Торопливо оделся, – говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» – и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной, сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:
– Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. – Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. – Только мне такой дом требуется, – объясняет, – чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.
Сводчик вынул из комода тетрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой и говорит:
– Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.
– Могу прибавить.
– Так надо дать до тридцати пяти тысяч.
– Я согласен.
– Тогда, – говорит, – все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через то там теперь никто не живет.
Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.
Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:
– Одно, – говорит, – тебе мое приказание: вывеску эту никогда не сметь переменять и на это название отзываться. – И вдруг вскрикнул: – Лепутан!
– Чего изволите?
– Молодец, – говорит. – Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, – заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будеши, а ежели что… да, спаси тебя Господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю… то во первое предисловие я всего тебя изобью, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.
Я его благодарю и говорю, что никаких желаниев не имею и не придумаю, окромя одного – если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?
Но этого он не сказал.
– Это, – говорит, – тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься – «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.
Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастием, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и входят.
Жена спрашивает:
– Что прикажете?
Они отвечают:
– Нам нужно самого мусье Лепутана.
Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.
Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.
– А давно ли, – спрашивают, – вы стали под этой вывеской?
Я им сказал, сколько лет.
– Ну так и есть. Мы вас, – говорят, – помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли.
– Совершенно верно, – говорю, – был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.
Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, – Лапутин.
– Как Лапутин?
– Да, разумеется, – говорят, – Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.
– Представьте, – говорю, – а мы о сю пору ничего этого понять не могли; благодеянием пользовались, а словно как в потемках.
– Но, однако, – продолжают мои гости, – ему от этого ничего не помоглося, – вчера с ним новая история вышла.
И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.
Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, Бог их знает почему, им это долго не выходило, но наконец нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:
– Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?
Тот отвечал, что его фамилия – Лапутин.
– Лапутин? – заговорил граф. – Лапу-тин… Постой, постой, сделай милость, Лапутин… Я что-то помню, Лапутин… Это чья-то фамилия.
– Точно так, – говорит, – ваше сиятельство, это моя фамилия.
– Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню… как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?
Барин отвечает, что его отец был Лапутин.
– То-то я помню, помню… Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.
Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.
Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.
Тот разлетелся.
– Такой-то, – говорит, – и желаю видеть графа.
А швейцар его не пущает.
– Никого, – говорит, – не велено принимать.
Барин так-сяк его убеждать, – что «я, – говорит, – не сам, а по графскому зову приехал», – швейцар ко всему пребывает нечувствителен.
– Мне, – говорит, – никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.
– Не по делу я, – обижается барин, – а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию – Лапутин, а ты, верно, напутал.
– Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.
– Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию – Лапутин.
– Никогда я ничего не позабываю, а этой фамилии я даже и не могу позабыть, потому что я сам Лапутин.
Барин так и вскипел.
– Как, – говорит, – ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?
А швейцар ему отвечает:
– Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.
А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:
– Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.
Ну, разумеется, после этого уже какое свидание?
Рассказал мне это maître tailleur Lepoutant с сожалительною скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.
– Сидит, – говорит, – на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:
– Здравствуй, monsieur Lepoutant! Как живешь-можешь?
– По Божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?
– Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.
– Слышал, – говорю, – сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.
– Тронуть его, – отвечает, – невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать?
А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.
– Не ищите, – говорит, – сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, – он по всей Москве стелечки продавал…
А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою… Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.
Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?
– Да зачем, – говорит, – сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало, – через это можно вред всей окрестности сделать.
– Окрестности-то какой же вред?
– А как же-с, – моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют.
Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.
1882
Николай Лесков
(1831–1895)
Путешествие с нигилистом
Кто скачет, кто мчится
в таинственной мгле?
Гете
Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений.
Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же – все являются вместе.
Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.
Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.
– Да, плохо нас везут, – сказал какой-то военный, – а все спасибо им, – лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.
– Вот и я то же самое, – поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. – Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.
Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.
– Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, – молвил купец.
– Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.
– Чего же это так?
– А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.
– Это сужект полицейский.
– Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения… паф – и готово.
– Оставьте, пожалуйста… К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.
– Может с поля взяться.
– Лучше спать давайте.
Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.
Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо – это так уже чувствовалось.
Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.
Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.
– Вы, – говорит, – не цивильные, а вы со шпорою – вы можете на него так топнуть, что он, как биллиардный шар, выкатится. Военному все смелее.
К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.
Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и наконец подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.
Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.
Все это холодно, кратко, отчетисто, но без-участливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.
Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь – нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим надзатыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось – это его лицо. Не патлатое и воеводственнное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее – щуковатое, так сказать фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.
Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастия бежит»[28]. Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают, как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)
Черт его знает: не то его кто-то догоняет или он за кем-то гонится – никак не разберешь.
Военный, возвратясь на свое место, сказал, что, на его взгляд, нигилист немножко чисто одет и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.
Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.
– Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-депом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смирный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.
Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды!
– А очень просто, – разъяснил дьякон, – он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков, и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, – знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, – навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «Для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.
– Как же он ушел?
– С огарком и ушел.
Военный посмотрел на дьякона и сказал:
– Вы какой-то вздор рассказываете!
– Нимало не вздор, а следствие было.
– Да что же ему огарок значил?
– А черт его знает, что значил! Только после стал везде по каморке смотреть: ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображения» остались одни корневильские корешки.
– Ну, вы совсем черт знает что говорите! – нетерпеливо молвил военный.
– Ничего не вздор, а я вам говорю – и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.
– А кто же он такой был?
– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел.
Военный только рукою махнул и отвернулся.
Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:
– Я на его чистоту не льщусь, а как вот придет сейчас первая станция – здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, – я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть посмотрим… какие там у него составы…
– Только надо осторожнее.
– Будьте покойны – мы с молитвою. Помилуй мя, Боже…
Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.
– Вот оно и есть, – воскликнул дьякон, – наехали на станцию!
Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.
Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:
– Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?
Нигилист на него посмотрел и не ответил.
Кондуктор повторил предложение.
Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:
– Не желаю.
Кондуктор ему представил резоны, что «таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».
Он процедил сквозь зубы:
– И прекрасно, что не дозволено.
– Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?
– Не желаю.
– Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?
– Не желаю.
Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» – но, услыхав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.
– Там город, – сказал он нам, – там его и скрутят.
И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного – «не желаю».
Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?
Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.
Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного пороху.
– Он, – говорит, – ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.
Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:
– Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.
А тот опять тем же тоном отвечает:
– Не желаю.
– Да вы прочитайте правила!
– Не желаю.
– Так пожалуйте со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.
Приехали.
Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, все, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем allegro udiratto. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.
– Это ваша корзина? – спросил начальник.
– Нет, – отвечал нигилист.
– Как нет?!
– Нет.
– Все равно, пожалуйте.
– Не уйдешь, брат, не уйдешь, – говорил дьякон.
Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину.
– Какие здесь вещи? – спросил строго начальник.
– Не знаю, – отвечал нигилист.
Но с ним больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а в то же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везет одной знатной даме; а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.
Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье.
– А билет? – спросили у еврея.
– Ну, что билет… – отвечал он. – Я не знал, где брать билет…
Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом:
– Ваше превосходительство здесь ожидают.
А когда тот скрылся за дверью, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчетливо объявил нам:
– Это прокурор судебной палаты!
Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:
– А все это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка, где он… куда он делся?
Но все напрасно оглядывались: «куда он делся», – дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.
1882
Николай Лесков
(1831–1895)
Маленькая ошибка
Секрет одной московской фамилии
Вечерком, на Святках, сидя в одной благоразумной компании, было говорено о вере и о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле высших вопросов деизма или материализма, а в смысле веры в людей, одаренных особыми силами предвидения и прорицания, а пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же некто, степенный московский человек, который сказал следующее:
– Не легко это, господа, судить о том: кто живет с верою, а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги; случается, что разум-то наш в таковых случаях впадает в ошибки.
И после такого вступления он рассказал нам любопытную повесть, которую я постараюсь передать его же словами:
Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, – никакого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не богатые, но очень достаточные, – торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Все они были собою недурны и хорошо знали разные работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, однако очень хороший был человек и довольно зарабатывал – все брал подряды выгодно церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было, что работал Божественное, а знал какие-то вольнодумства из Курганова[29] «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про Овидия[30], про Промифея[31] и охотник был сравнивать баснословия с бытописанием. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе – то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать стали.
Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит: оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет?
Иван Яковлевич забормотал:
– Есть убо небо небесе; есть небо небесе.
Его подсказчицы перевели тетке, что батюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он Богу молился, а он, должно быть, у вас маловерующий.
Тетушка так и ахнула: все, говорит, ему явлено! И стала она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался; а тому все трынь-трава! Ко всему легко относился… даже по постам скоромное ел… и притом, слышат они стороною, будто он и червей и устриц вкушает. А жили они все в одном доме и часто сокрушались, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.
Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться о еже рабе Капитолине отверзти ложесна, а раба Лария (так живописца звали) просветити верою.
Просят об этом вместе и дядя и тетка.
Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, а его послушные женки, которые возле него присидели, разъясняют:
– Он, – говорят, – ныне невнятен, а вы скажите, о чем просите, – мы ему завтра на записочке подадим.
Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине отверзть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».
Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.
Дома они никому ничего не сказали, кроме одной Капочке, и то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее и смотрела за ним: не будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно скоморох с Пресни. Все ему шутки да забавки. Придет в сумерки к тестю: «Пойдем, – говорит, – часослов в пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть… Или садится, говорит: «С уговором, чтобы играть до первого обморока».
Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание сделала». А он рассмеялся и говорит тете:
– Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, может у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастие быть.
Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге, в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, – говорят, что дело идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется.
Вдруг и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.
Приходит к тетушке средняя ее дочь, девица Катечка, и прямо ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.
Тетушка говорит:
– Что тебе – кто обидел?
А та сквозь рыдания отвечает:
– Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отчего… в первый и в последний раз сделалось… Только вы от тятеньки мой грех скройте.
Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула и говорит:
– Это место?
Катечка отвечает:
– Да, маменька… как вы угадали… сама не знаю отчего…
Тетушка только ахнула да руками всплеснула.
– Дитя мое, – говорит, – и не дознавайся: это, может быть, я виновата в ошибке, я сейчас узнать съезжу.
И сейчас на извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.
– Покажите, – говорит, – мне записку нашей просьбы, о чем батюшка для нас просит рабе Божьей плод чрева; как она писана?
Приседящие поискали на окне и подали.
Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете? Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому что на место рабы Божьей Капитолины, которая замужем, там писана раба Катерина, которая еще незамужняя девица.
Женки говорят:
– Поди же, какой грех! Имена очень сходственны… но ничего, это можно поправить.
А тетушка подумала: «Нет, врете, теперь вам уж не поправить: Кате уж вымолено», – и разорвала бумажку на мелкие частички.
Главное дело, боялись: как дядюшке сказать? Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, – ей он всех больше и обещал.
Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать, – зовет зятя-живописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит:
– Ты, – говорит, – хотя неверующий, однако могут в тебе быть какие-нибудь чувства, – пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех.
А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:
– Извините, пожалуйста, вы хотя моей жене мать, однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали, а во-вторых, я не понимаю – какой же тут причитаете Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени просил? Я к Катечке все братские чувства имею и за нее заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата.
Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:
– Ну… уж как ни в чем?
– Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскивайте.
– Какое же с него взыскание! Он праведник.
– Ну а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с Катею три бутылки шампанского вина.
Тетушка переспрашивает:
– Что такое?
А он опять отвечает:
– Три бутылки шампанского, – одну ко мне сейчас в мои комнаты, а две после, куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.
Тетушка посмотрела на него и только головой покивала.
– Бог с тобою, – говорит, – я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься… Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.
А он отвечает:
– Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с Катею в мою мастерскую шампанское пришлете.
Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил, схватил ее за обе ручки и сам заплакал.
– Скорблю, – говорит, – голубочка моя, что с тобою случилося, однако дремать с этим некогда – подавай мне скорее наружу все твои тайности.
Девица ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя в мастерской на ключ и запер.
Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит. А он и ее обнял, поцеловал и говорит:
– Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось Бог поможет.
– Скажи же мне, – шепчет тетушка, – кто всему виноват?
А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:
– Вот это уж нехорошо: сами вы меня постоянно неверием попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.
– А где же моя бедная Катечка?
– Я ее страшным художническим заклятьем заклял, она, как клад от аминя, и рассыпалась.
А сам ключ теще показывает.
Тетушка догадалась, что он девушку от первого гнева укрыл, и обняла его. Шепчет:
– Прости меня, – в тебе нежные чувства есть.
Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:
– Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?
Сели. А домашние все двери вокруг них затворили и на цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет – все подслушивает и все крестится. Наконец как там что-то звякнет… Она поотбежала и спряталась.
– Объявил, – говорит, – объявил тайну! Теперь начнется адское представление.
И точно: враз дверь растворилась, и дядя кричит:
– Шубу мне и большую палку!
Живописец его назад за руку и говорит:
– Что ты? Куда это?
Дядя говорит:
– Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!
Тетушка за другими дверями застонала.
– Бегите, – говорит, – скорее в сумасшедший дом, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!
И действительно, дядя бы его непременно избил, но живописец страхом веры своей и этого удержал.
Стал зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.
– Ничего, – говорит, – той своя доля, а я Корейшу бить хочу. После пусть меня судят.
– Да я тебя, – говорит, – не судом стращаю, а ты посуди: какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас, чем ты рискуешь!
Дядя остановился и задумался.
– Какой же, – говорит, – вред он может сделать?
– А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.
Дядя поглядел и отвечает:
– Полно вздор городить! Разве он это может?
А живописец отвечает:
– Ну, ежели ты, как я вижу, неверующий, то делай, как знаешь, только потом не тужи и бедных девушек не виновать.
Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и начал уговаривать.
– Лучше, – говорит, – по-моему, чудотворца в сторону, а взять это дело и домашними средствами поправить.
Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить, а зять-живописец и тут помог – говорит:
– Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.
– Какое, – отвечает, – теперь, братец, веселие при таком случае?
– А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.
Старик на него посмотрел и говорит:
– Подводи, подводи! Что такое дальше будет?
А впрочем, согласился.
Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки с бокалами.
Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику кивнул, – тот взял и стал в смирную просьбу.
– Виноват, – простите и благословите.
Дядюшка зятя спрашивает:
– Бить его можно?
Зять говорит:
– Можно, да не надобно.
– Ну, так пусть он передо мною по крайности на колена станет.
Зять тому шепнул:
– Ну, стань за любимую девушку на колена перед батькою.
Тот стал. Старик и заплакал.
– Очень, – говорит, – любишь ее?
– Люблю.
– Ну, целуй меня.
Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли, потому что видят – девицы надежные.
1883
Антон Чехов
(1860–1904)
Кривое зеркало
Святочный рассказ
Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать:
– Выпороть бы тебя, братец!
Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам…
А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску.
– О, предки, предки! – сказал я, вздыхая значительно. – Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод и у каждого, или у каждой, был роман… и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты, – спросил я у жены, – видишь ли зеркало, которое висит там в углу?
И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки.
– Это зеркало обладает волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась даже, когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб.
– Она была кокетка? – спросила жена.
– Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт и что у прабабушки-де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.
Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво и физиономию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону.
– Странный вкус у моей прабабушки! – сказал я.
Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него – и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого: то упала без чувств моя жена.
Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна…
Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день вечером.
– Зеркало! Дайте мне зеркало! – сказала она, приходя в себя. – Где зеркало?
Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами.
И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение.
– Неужели это я? – шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. – Да, это я! Все лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он недостоин меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..
Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и – открыл страшную тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такою прекрасной? Отчего?
А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения его черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс.
И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно – и бешеная, безумная страсть овладевает мною.
– Ха-ха-ха! – дико хохочу я.
А жена шепчет едва слышно:
– Как я прекрасна!
1883
Антон Чехов
(1860–1904)
Мошенники поневоле
Новогодняя побрехушка
У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.
Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях.
– Нонче трудно найти человека, – говорит Гусев. – Который непьющий и обстоятельный… человек, который работающий… Трудно!
– Главное в доме – порядок, Алексей Василич! Этого не будет, когда в доме не будет того… который… в доме порядок…
– Порядка коли нет в доме, тогда… все этак… Глупостев много развелось на этом свете… Где быть тут порядку? Гм…
Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление «уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальной шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка – копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?
– Не реви, дурак! – увещевают его. – Ну, чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?
– Это кто ревет? Колька? – слышится из кухни голос маменьки. – Мало я его порола, пострела… Варвара Гурьевна, дерните его за ухо!
На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, Копайский, en face очень похожий на кота. Он ухаживает.
– Я не намерен жениться, – говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие, режущие воротнички. – Женщина есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо!
– А мужчины? Мужчина не может любить. Грубости всякие делает.
– Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств.
Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться… Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром.
– Малаша, – говорит Дядечкин. – Закуску бы подать. Гостям закусить бы…
– Подождут… Сейчас выпьете и съедите все, а что я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи… Не вертись перед носом!
– По рюмочке бы только, Малаша… Никакого тебе от этого дефицита не будет… Можно?
