Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов
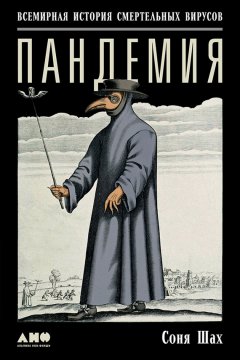
Переводчик Мария Десятова
Научный редактор Виктория Доронина, канд. биол. наук
Редактор Юлия Налетова
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры Е. Аксёнова, М. Савина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайнер обложки Ю. Буга
© Sonia Shah, 2016
Published by arrangement with Sarah Crichton Books, an imprint of Farrar, Straus and Giroux, LLC, New York
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Пандемия – от греческого pan (все) + demos (народ). Болезнь, которая охватывает всю страну, континент или весь мир.
А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут[1].
– Альбер Камю
Введение
Наследники холеры
Холера убивает быстро, не размениваясь на постепенное истощение организма. Поначалу зараженный чувствует себя нормально, а через полдня холера уже высосала из него все соки, оставив синеющий высохший труп.
Поэтому, даже заразившись, вы можете с аппетитом позавтракать в гостинице яичницей-глазуньей и теплым соком. Доехать по пыльной ухабистой дороге в аэропорт. Вам хватит здоровья отстоять все бесконечные очереди. Пока убийца незаметно плодится у вас в кишечнике, вы успеете прогнать багаж через сканеры и даже, возможно, перехватить круассан в кофейне, а потом, примостившись на прохладном пластиковом сиденье у выхода на посадку, будете вслушиваться в треск громкой связи, пока не объявят ваш рейс.
И только когда вы протиснетесь по салону к потрепанному креслу, непрошеный гость заявит о себе неукротимой лавиной поноса, ставящей жирную точку в вашем путешествии. Если современная медицина вовремя не придет на помощь, шансы на выживание у вас – пятьдесят на пятьдесят.
Именно так случилось с пассажиром, стоявшим передо мной в очереди на рейс Spirit Air 952 из Порт-о-Пренса (Гаити) в Форт-Лодердейл (Флорида) летом 2013 года. Холера скрутила его, когда все остальные толпились в душном посадочном рукаве, готовясь занять свои места. Окончания экстренной дезинфекции салона пришлось дожидаться там же – авиакомпания не сообщила, чем вызвана внезапная часовая задержка вылета. Теряющим терпение пассажирам сотрудник, промчавшийся по рукаву за дополнительными средствами санобработки, крикнул на бегу: «У нас тут человек обделался!» На Гаити в разгар чудовищной эпидемии холеры дальнейшие расспросы были излишни.
Если бы этот пассажир заразился на час-другой позже и приступ настиг его, когда все расселись в салоне (потолкавшись с ним локтями и коленями в тесных проходах и перетрогав полки для багажа, которых он касался), возможно, возбудитель болезни уже осваивался бы и в наших организмах. Всю командировку я гонялась за холерой по клиникам и охваченным эпидемией районам, и вот теперь грозный патоген чуть не подстерег меня перед самым возвращением домой.
Болезнетворный микроорганизм, или патоген, который вызовет следующую мировую пандемию, притаился где-то рядом с нами. Что это будет за микроб и откуда он возьмется, пока неизвестно, но для простоты можно называть его «наследник холеры», потому что, скорее всего, он пойдет проторенным ею путем.
Холера – один из немногих патогенов, который и сегодня наряду с бубонной чумой, гриппом, оспой и ВИЧ способен вызывать пандемии, распространяясь среди огромных масс населения. Однако холера стоит особняком. Во-первых, в отличие от чумы, оспы и гриппа ее возникновение и распространение с самого начала достаточно подробно фиксировалось документально. Два века спустя она все так же неукротима и сеет смерть и хаос с прежней силой, как наглядно показал рейс 952. Во-вторых, относительным новичкам вроде ВИЧ она даст значительную фору по количеству устроенных пандемий. В данный момент на ее счету числится семь – последняя обрушилась на Гаити в 2010 году.
В наше время холера считается болезнью бедных стран, но так было не всегда. В XIX веке холера поражала самые развитые и процветающие города мира, кося бедных и богатых без разбора – от Парижа и Лондона до Нью-Йорка и Нового Орлеана. В 1836 году она лишила жизни Карла X в Италии, в 1849 году – президента Джеймса Полка в Новом Орлеане, в 1893 году – композитора Петра Ильича Чайковского в Санкт-Петербурге. Число заболевших в XIX веке составило сотни миллионов, и больше половины из них скончались. Это была одна из самых стремительных и самых страшных инфекций в мире{1}.
Возбудитель болезни, холерный вибрион Vibrio cholerae, впервые распространился среди населения в эпоху британской колонизации удаленных от побережья районов Южной Азии. Но в потенциальный возбудитель пандемий его превратили стремительные перемены эпохи промышленного переворота. Благодаря новым средствам передвижения – пароходам, каналам, железным дорогам – холерный вибрион проникал в самое сердце Европы и Северной Америки, а сутолока и антисанитария быстро растущих городов позволяли ему без труда заражать сразу десятки людей.
Повторяющиеся эпидемии холеры бросили серьезный вызов социально-политическим институтам охваченных ею государств. Чтобы сдержать болезнь, требовалось объединение сил на международном уровне, эффективное муниципальное управление и социальная сплоченность, до которых городам в разгар промышленного бума было еще далеко. Чтобы отыскать лекарство (им оказалась чистая питьевая вода), врачам и ученым пришлось полностью пересмотреть сложившиеся представления о здоровье и распространении болезней.
Почти сто лет ушло у таких городов, как Нью-Йорк, Париж и Лондон на борьбу со смертельными пандемиями, прежде чем над холерой удалось наконец одержать верх. Для этого понадобилось улучшить жилищные условия, модернизировать водоснабжение и водоотведение, наладить систему здравоохранения, выстроить международные связи и выработать новую медицинскую парадигму.
Такова преобразующая сила пандемий.
Эффективность достижений в области медицины и здравоохранения, позволивших укротить такие патогены XIX века, как холера, внушила эпидемиологам, историкам медицины и другим специалистам, что в XX веке развитым странам удалось покончить с инфекционными болезнями раз и навсегда. На Западе «значимым фактором общественного устройства стало искоренение инфекционных болезней», как утверждал в 1951 году вирусолог сэр Макфарлейн Бернет{2}. «Писать об инфекционных болезнях, – добавил он в 1962 году, – значит ворошить давно забытое»{3}. Если в начале XX века средний американец доживал в лучшем случае до шестого десятка, то к концу столетия благополучно разменивал восьмой{4}.
Согласно популярной теории «эпидемиологического перехода», выдвинутой египетским ученым Абделем Омраном, исчезновение инфекционных болезней в процветающих странах было неизбежным следствием экономического развития. Рост благосостояния меняет характер болезней, поражающих общество. На смену инфекционным заболеваниям приходят недуги сидячего образа жизни, хронические, незаразные вроде сердечной недостаточности или рака.
Признаться честно, раньше я тоже свято верила в эту теорию. Побывав в таких местах, как трущобы на юге Мумбая, где вырос мой отец, я убедилась на собственном опыте, что в страдающих от инфекций районах действительно царят давка, антисанитария и нищета. Мы гостили на юге Мумбая каждое лето, ютясь с родней в двухкомнатной квартирке обшарпанной муниципальной многоэтажки. Как сотни других жильцов, мы выбрасывали мусор во двор, таскали воду в пластмассовом ведре для смыва в туалете и перекрывали пороги шестидесятисантиметровыми загородками от крыс. Инфекция там, как и в любом другом перенаселенном замусоренном районе без канализации, присутствовала постоянно.
И каждый год, улетая домой, мы считали, что убегаем от этой заразы, грязи и нищеты навсегда, повторяя путь, пройденный когда-то моими родителями, которые иммигрировали из Индии в Нью-Йорк с двумя медицинскими дипломами в новеньких пластиковых рамках. В американских городах с налаженным водоснабжением, со сбором, очисткой и утилизацией канализационных стоков где-то за городской чертой, с действующей системой здравоохранения об инфекционных заболеваниях никто не вспоминал.
А потом при тех же, только усугубленных, обстоятельствах, при которых в XIX веке холера проникла на берега Нью-Йорка, Парижа и Лондона, микробы решили напомнить о себе. В ходе освоения глухих районов местное население сталкивалось с новыми видами патогенов, а стремительные перемены в глобальной экономике, породившие ускоренные способы перемещения между странами, давали этим патогенам новые возможности для распространения. Урбанизация, рост трущоб и агропромышленных ферм вызывали вспышки эпидемий. Если холера разрасталась на почве промышленной революции, то ее наследники – на почве последствий индустриализации, в частности изменений климата, вызванных переполнением атмосферы углеродом за столетия сжигания ископаемого топлива.
Первой из новых инфекционных болезней, поразивших зажиточный Запад и разрушивших представление о «постинфекционной» эре, стал вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), появившийся в начале 1980-х. Хотя никто не знал, откуда он взялся и как его лечить, многие не сомневались, что медицина с этим выскочкой вот-вот справится. Изобретут лекарства, наладят вакцинацию. Основная полемика вертелась вокруг того, как заставить здравоохранение шевелиться побыстрее, никто не принимал в расчет серьезность биологической угрозы, которую представлял собой этот вирус. Даже употреблявшаяся поначалу терминология, по сути, отрицала его инфекционный характер. Некоторые специалисты, не желая признавать инфекционную природу ВИЧ (и потакая гомофобским поискам виноватых), предпочли объявить его «раком геев»{5}.
Следом объявились другие инфекционные патогены, такие же неуязвимые для хорошо отработанных, привычных мер профилактики и сдерживания: вирус Западного Нила, атипичная пневмония, лихорадка Эбола и новые разновидности птичьего гриппа, поражающие человека. «Восставшие из небытия» микробы научились противостоять воздействию когда-то эффективных лекарств, и теперь мы имеем лекарственно-устойчивый туберкулез, возрождающуюся малярию и все ту же холеру. Всего с 1940 по 2004 год более 300 инфекционных болезней появились заново или возродились в местах и человеческих популяциях, в которых они не встречались раньше{6}. Наблюдая подобный наплыв, вирусолог Колумбийского университета Стивен Морс не удержался от предположения, что эти невиданные формы принесло не иначе как из космоса – натуральные штаммы «Андромеда»[2], сыплющиеся на нас с неба{7}.
В 2008 году один ведущий медицинский журнал признал уже ставшее для многих очевидным: слухи об искоренении инфекционных болезней в развитых странах «сильно преувеличены»{8}. Инфекционные патогены вернулись не только в глухие, прозябающие в нищете районы, но и в процветающие, благополучные города. В 2008 году специалисты по инфекционным заболеваниям отметили на карте мира красными точками места возникновения каждого из новых патогенов. Алая сыпь опоясала земной шар от 30–60° северной широты до 30–40° южной. Под раздачу попал весь цвет мировой экономики – северо-восток США, Западная Европа, Япония, юго-восток Австралии. Экономическое развитие, как выяснилось, не панацея против заразных болезней. Омран ошибся{9}.
По мере осознания этого факта официальной медициной армия неразличимых невооруженным глазом микроорганизмов – бактерий, вирусов, грибков, простейших, микроскопических водорослей – кажется все могущественнее. Сегодня специалисты по инфекционным болезням трубят не победу, а отступление, предполагая, что даже те виды рака и психических заболеваний, которые когда-то объясняли образом жизни и генетикой, на самом деле результат работы других, неодолимых пока, микробов{10}. Праздновать победу никто уже не спешит. «Кругом говорят, что мы должны одержать победу над микробами, – заявил специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Брэд Спеллберг перед полным залом коллег в 2012 году. – Серьезно? Да у них совокупная масса в сто тысяч раз больше нашей. Поди их победи»{11}.
С увеличением числа новых патогенов[3] растет и смертность. С 1980 по 2000 год только в США количество смертей, вызванных патогенами, выросло почти на 60 %. В немалой их доле повинен ВИЧ, но не во всех. Если вынести ВИЧ за скобки, окажется, что число смертельных исходов при болезнях инфекционного характера увеличилось на 22 %{12}.
Пандемию холероподобного заболевания предрекают многие специалисты. В ходе опроса, проведенного эпидемиологом Ларри Бриллиантом, 90 % его коллег прогнозировали в пределах ближайших двух поколений пандемию, способную поразить до 1 млрд человек, убить до 165 млн и вызвать глобальный экономический спад, убытки от которого достигнут 3 трлн долларов{13}. Пока ни одна из двух пандемий, вызванных новоявленными патогенами – ВИЧ и свиным гриппом, не сравнилась по смертоносности и скорости распространения с холерой. ВИЧ, несомненно, смертельно опасен, но распространяется медленно; свиной грипп в 2009 году распространялся стремительно и широко, но лишил жизни только 0,005 % заболевших{14}. При этом новые патогены уничтожают целые виды братьев наших меньших. Хитридиомицеты, впервые обнаруженные в 1998 году, угрожают исчезновением многим видам земноводных. В 2004 году начали исчезать насекомые-опылители, пострадавшие от загадочного синдрома разрушения колоний. В 2006 году североамериканских летучих мышей начал косить синдром белого носа, вызываемый грибковым возбудителем Pseudogymnoascus destructans{15}.
Отчасти ощущение неумолимо надвигающейся пандемии обусловлено ростом числа возбудителей, обладающих соответствующим биологическим потенциалом. Но в то же время оно свидетельствует о недостатках системы здравоохранения, режима международного сотрудничества, способности общества сплотиться перед лицом инфекции. Пока реакция человечества на вспышки новых болезней оптимизма не внушает. Лихорадка Эбола вспыхнула в начале 2014 года в гвинейской лесной глухомани. Локализовать эпидемию можно было бы самыми простыми и дешевыми средствами, и тогда удалось бы задавить ее в зародыше. Вместо этого вирус, который прежде заражал одновременно не более нескольких сотен человек, за один год распространился на пять соседних стран, поразил более 26 000 человек и потребовал миллиардных трат на сдерживание{16}. Хорошо изученные болезни, которые легко можно укротить лекарствами и прививками, вырывались из-под контроля даже в благополучных странах, где для борьбы с ними созданы все условия. Предотвращаемая вакцинацией корь, вспыхнувшая в Диснейленде на зимних каникулах в 2014 году, распространилась на семь штатов и заразила тысячи людей. С 1996 по 2011 год США пережили 15 таких вспышек{17}.
Какой из новых патогенов вызовет – если вызовет – новую пандемию, покажет время. К моменту посадки на тот самолет на Гаити я лично успела столкнуться с несколькими кандидатурами.
В 2010 году оба моих сына – десятилетний и тринадцатилетний – ходили сплошь в ссадинах. Погонять в одних тонких шортах в футбол на асфальте, спрыгнуть с моста на каменистое русло ближайшего ручья, устроить потасовку на каменном полу – обычное дело.
На залепленное пластырем колено у старшего той весной я просто не обратила внимания. К тому времени, как начались жалобы на боль, края пластыря уже обтрепались и на клейкой поверхности собрался слой грязи за несколько дней. Сын сказал, что колено болит, но оно и понятно: его угораздило ссадить ногу прямо над коленной чашечкой, сустав в постоянном движении, ссадина не успевает зарасти. Коричневое пятно посреди пластыря свидетельствовало о том же: корочку то и дело срывали. «Ну еще бы оно не болело», – подумала я.
Через несколько дней сын начал кривиться при каждом разгибании ноги. «Вот неженка», – досадовала я. На следующее утро он спустился в кухню прихрамывая.
Мы сняли пластырь. Корочки не было. Вместо нее высилась гора жутких гнойников. Один, разроссшийся сантиметра на три – на два пальца! – пропитывал заскорузлый пластырь тошнотворной жидкостью.
Патоген, породивший эти абсцессы, как мы вскоре выяснили, называется Staphylococcus aureus – метициллин-резистентный золотистый стафилококк, или МРЗС (нет, это не сокращение от «мерзость»). Эта устойчивая к антибиотикам бактерия появилась в 1960-х и к 2010 году уносила в Америке больше жизней, чем СПИД{18}. Педиатр, обычно шутливая и жизнерадостная, взглянув на колено моего сына, резко посуровела. Назначение она выписала, не дожидаясь результатов анализов: сильный антибиотик клиндамицин, старый добрый и надежный бактрим и в придачу жесткий режим избавления от гноя с помощью горячих компрессов и выдавливания. Процесс предстоял мучительный, потому что слой гноя распространялся в глубокие ткани (сын при одной мысли об этом разревелся), и опасный, потому что гной кишел МРЗС. Каждую каплю требовалось аккуратно подбирать и удалять, чтобы она не просочилась в микротрещины на коже или, что еще хуже, не поселилась на полотенцах, постелях, обивке или свободных поверхностях, где она может ждать своего часа целый год{19}.
Через несколько недель мучений с выдавливанием и лекарствами инфекция пошла на убыль. «Повезло, – сказал мне ведущий микробиолог. – Мог остаться без ноги»{20}. Но на выписке в кабинете педиатра нам было сказано, что окончательно прощаться с этим непредсказуемым, трудноконтролируемым новоявленным патогеном еще рано.
МРЗС охватывает целые семьи – родственники годами заражаются друг от друга, как объяснила нам педиатр. К тому времени я, уже успев начитаться всякого, знала, что и смертельные случаи тоже встречаются. Но ни один из врачей, к которым мы обращались, не знал, как предотвратить повторное появление инфекции или распространение ее на других членов семьи. Один рекомендовал дважды в неделю принимать двадцатиминутные ванны в растворе хлорки. «Это не спа-процедура», – пояснил он, как будто и так было непонятно. Продолжать до тех пор, пока не убедимся, что рецидивов нет, то есть месяцами, может, даже годами. Другой врач рекомендовал тот же способ, только пропорции раствора изменил – полстакана хлорки на ванну. Как часто и как долго их принимать, он не сказал, а я в тогдашней своей прострации не уточнила.
Отсутствие единодушия среди врачей, расплывчатые сроки и отталкивающие процедуры внушали сомнение. «Может, нам голову морочат?» – думали мы. Эффективность обработки хлоркой тогда подтверждало только одно исследование, проведенное в 2008 году. Оно свидетельствовало, что хлорные ванны умеренной концентрации способны «деколонизировать» МРЗС. Но долго ли продержится эффект, сработает ли средство на человеческой коже так же, как на лабораторном материале и, самое главное, повлияет ли на частоту заражения МРЗС, никто сказать не мог. Может, МРЗС обитает где-то в организме, а может, у жертв имеется предрасположенность к заражению извне, и тогда никакие хлорные ванны не помогут. А может, как подсказал мой муж, того же результата можно добиться регулярными заплывами в местном активно хлорируемом бассейне. Или частыми солнечными ваннами.
Неуверенность медицины в обращении с этой напастью меня обескураживала. Как дочь врачей (психиатра и патолога), я выросла с осознанием, что медицина может справиться с чем угодно. Когда же былая защита и опора успела выродиться в «может быть» и «вероятно»?
Усугубляли мою тревогу воспоминания об одном случае, произошедшем за год до того, как в нашу жизнь вошел МРЗС. В 2009 году по окрестным начальным и средним школам пошел гулять новый грипп – свиной, H1N1. Я толкалась в клинике с десятками перепуганных родителей, выбивая своим детям вакцинацию. Но H1N1 наступал слишком стремительно и слишком широким фронтом, вакцины не хватало. К тому моменту, как моим детям сделали укол, было уже слишком поздно, грипп (скорее всего, H1N1, поскольку той зимой распространялся в основном этот штамм) уже поселился в организме. Несколько дней двое неугомонных мальчишек лежали пластом с температурой под сорок, сжигая вирус жаром. Как и с МРЗС, мы ничего не могли сделать и ничем не могли помочь. В конце концов оба выздоровели, в отличие от более полумиллиона не справившихся с H1N1 по всему миру, в том числе двенадцати тысяч с лишним в США. До конца сезона салоны машин, в которых мы с другими родителями по очереди возили мальчишек на футбольные тренировки, сотрясались от дружного послегриппового кашля{21}.
А потом, через несколько месяцев после вторжения в наш дом H1N1 и МРЗС, на Гаити после почти векового отсутствия обрушилась холера.
Цепь этих событий привела меня к выводу, что грозящие нам загадочные новые инфекции нельзя считать редкими и случайными. Это часть более масштабного, глобального процесса. Учитывая, что к тому времени я уже несколько лет занималась одним из старейших опасных для человека патогенов – малярией, мой журналистский интерес вспыхнул моментально. Как правило, о пандемии говорят, когда возбудители уже внедрились в популяцию и делают свое черное дело. Предысторию – как они туда попали и откуда взялись – приходится восстанавливать по обрывочным сведениям и уликам, что особенно проблематично, когда предмет исследования динамичен и изменчив. Однако эта предыстория и есть самое главное, поскольку вооружает нас необходимыми знаниями, чтобы заранее предотвращать внедрение возбудителей. Появление когорты новых патогенов давало возможность зафиксировать эту «предысторию» в реальном времени – непосредственно отследить непонятные ранее механизмы и каналы, превращающие микробы в возбудители пандемий.
Но меня мучил вопрос, как это сделать. Можно выбрать какой-нибудь из новоявленных патогенов и проследить его развитие. Я прикинула, что этот путь дает шанс как на неудачу, так и на успех. Какой патоген выбрать? Даже если вероятность грядущей пандемии действительно растет, неизвестно, какой из возникающих или возрождающихся патогенов ее вызовет на самом деле. Можно попробовать выбрать методом научного тыка – другие так и делали, – но, скорее всего, попаду пальцем в небо. Большинство появляющихся сейчас патогенов пандемии не вызовет. Это чистая математика: пандемию вызывают очень немногие.
Альтернативный вариант: углубиться в историю патогена, для которого пандемия – уже пройденный этап. Это более надежный путь, но о происходящем сейчас он все равно даст лишь частичное представление. Как ни увлекательна история холеры, оспы, малярии, у всех них имеется четкая пространственно-временная привязка. Поэтому здесь присутствует внутренний парадокс: чем подробнее и полнее будет история, тем больше вероятность, что предпосылки вчерашней пандемии окажутся уникальными, а значит, не имеющими отношения к пандемии завтрашней.
Листая на досуге подшивки работ о новоявленных болезнях, я наткнулась в Science 1996 года на статью Риты Колуэлл. Это была переработка ее выступления перед Американской ассоциацией содействия развитию науки. Там Колуэлл представила так называемую парадигму холеры: предположение, что история холеры (на которой она очень долго специализировалась) содержит все ключи к пониманию основных действующих механизмов остальных появляющихся сейчас болезней. И тогда до меня дошло: мне нужно, по сути, объединить два отвергнутых мной поодиночке подхода. Посмотрев на новые патогены сквозь призму вчерашних пандемий, можно показать, как возникают и распространяются новоявленные возбудители болезней и как преуспел в порождении пандемий патоген, использовавший те же каналы. На пересечении двух этих темных областей высветится путь от микроба к пандемии.
И я отправилась в трущобы Порт-о-Пренса, на рынки дичи южного Китая и в хирургические отделения Нью-Дели – искать колыбели патогенов, старых и новых. Я погрузилась в историю пандемий – записанную на бумаге и в наших генах. Я привлекала знания из самых разных областей – от эволюционной биологии и эпидемиологии до когнитивистики и политической истории, а также собственной биографии.
В результате выяснилось: при всем сходстве темпов экономических, социальных и политических перемен с темпами индустриализации XIX века есть одно существенное различие. Раньше движущие силы пандемии оставались загадкой для ее жертв. В XIX веке люди перевозили холеру на кораблях через моря и каналы, позволяли ей захватывать трущобы и передавали в ходе коммерческих сделок, а еще усугубляли симптомы лечением, не понимая, что к чему. Сегодня, в ожидании новой пандемии, многоэтапный путь от безобидного микроба до патогена, способного заразить миллионы, уже не кажется невидимым. Каждый этап можно вскрыть и представить на всеобщее обозрение.
Эта книга – рассказ о пройденном пути, от дебрей колониальной Южной Азии и нью-йоркских трущоб XIX века до джунглей Центральной Африки и уютных пригородов Восточного побережья США в наши дни. Для холеры и ее наследников этот путь начинается в организмах диких животных.
Глава первая
Скачок
Промозглым дождливым днем в начале 2011 года я направляюсь на продуктовый рынок в Гуанчжоу, столице южнокитайской провинции Гуандун, искать колыбель новых патогенов.
Рынки дичи – это открытые уличные торговые площадки, где продают живую дичь, которую покупатель затем забивает и готовит сам. Они обслуживают традиционную для Китая «дикую» кухню е-вэй, для которой характерны блюда из разных экзотических животных – от змей и черепах до летучих мышей{22}.
Именно там, на рынке дичи в Гуанчжоу, родился вирус, чуть не ставший причиной пандемии в 2002 году. Обычные носители этого вируса – подковоносые летучие мыши. Он принадлежит к семейству коронавирусов, вызывающих в основном легкие респираторные заболевания (у человека на долю коронавирусов приходится около 15 % всех простуд). Но разновидность, вызревшая на рынке Гуанчжоу, была иной{23}.
От подковоносов вирус перекинулся на других диких животных, продававшихся на соседних прилавках, – енотовидных собак, китайских барсуков, змей и пальмовых циветт. По мере распространения вирус мутировал. И в ноябре 2002 года одна из мутантных форм вируса подковоносов начала поражать людей.
Как и положено коронавирусам, он колонизировал клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Однако, в отличие от своих более мирных собратьев, он воздействовал на иммунную систему человека, нарушая способность инфицированных клеток предостерегать соседние о захватчике. В результате примерно у четверти заразившихся болезнь, поначалу похожая на ОРЗ, быстро перерастала в смертельно опасную пневмонию, при которой легкие заполнялись жидкостью и переставали поставлять в организм достаточно кислорода. За последующие месяцы у более 8000 заразившихся развилась так называемая атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, SARS). 774 человека погибли{24}.
После этого вирус атипичной пневмонии исчез. Как полыхнувшая в небе звезда, он выработал все имеющееся топливо, поскольку убивал слишком быстро и не успевал распространиться. Когда эксперты выяснили, что рассадником загадочного нового патогена выступают рынки дичи, китайские власти ужесточили правила торговли. Многие рынки закрылись. Но через несколько лет стали появляться вновь – пусть меньшего масштаба и полуподпольные.
По нашим сведениям, один такой рынок находится где-то в районе Цзэнча – забитого транспортом четырехполосного шоссе, проходящего под загазованной развязкой в Гуанчжоу. Поплутав некоторое время, мы спросили дорогу у полицейского в форме. Тот невесело усмехнулся. «Рынок дичи закрыли шесть лет назад после эпидемии атипичной пневмонии», – сказал он. И тут же, ухватив за полу куртки первого попавшегося работягу-прохожего, посоветовал переадресовать вопрос ему. Рабочий – под одобрительным взглядом полицейского – действительно сказал нам нечто более обнадеживающее: обойти здание с другой стороны, и там, «может быть», найдется «кое-кто», кто «кое-чем» торгует.
За углом нас встретила вонь – едкий запах мускуса и сырости. Рынок состоял из боксов, похожих на гаражные, разделенных цементными дорожками. Часть боксов была превращена в гибрид офиса-комнаты-кухни, где торговцы, укрываясь от дождя, коротали время в ожидании покупателей. В одном боксе трое мужчин средних лет и женщина играли в карты на раскладном столике; в другом скучающая девочка-подросток смотрела прикрученный к стене телевизор. На наших глазах один из продавцов, за спиной которого над дымящимися мисками с варевом сгрудилась семья из восьми человек, выплеснул остатки супа в водосток между боксами и дорожкой. Через несколько минут он снова встал из-за стола и принялся энергично сморкаться в тот же водосток.
И никто не обращал внимания на товар, ради которого мы туда и приехали: диких животных, доставленных на этот рынок по длинной цепочке перекупщиков, уходящей в глухие районы Китая и тянущейся до самой Мьянмы и Таиланда. В белом пластмассовом ведре копошилась в мутной воде четырнадцатикилограммовая черепаха. По соседству в клетках держали диких уток, хорьков, змей и диких кошек. Перед нами ряд за рядом представали клетки с животными, которые почти никогда (или вовсе никогда) не сталкиваются между собой в естественной среде. А здесь – дышали, мочились, испражнялись и питались бок о бок.
Эта картина примечательна сразу по нескольким причинам, объясняющим, почему атипичная пневмония началась именно здесь. Одна из причин – необычное, не знающее аналогов в естественной среде скопление диких животных. В природе жители пещер, подковоносы, не будут соседствовать с пальмовыми циветтами, живущими на деревьях, а с людьми обычно близко не сталкиваются ни те ни другие. Однако на этом рынке все три вида (подковоносы, циветты и люди) вдруг оказались рядом. Переход вируса с летучих мышей на циветт сыграл ключевую роль в развитии атипичной пневмонии. Почему-то циветты оказались особенно восприимчивы к этому вирусу, и его численность начала умножаться, словно многократно усиленный эхом звук в тоннеле. Такое увеличение численности дало широкую базу для мутаций и интенсивного естественного отбора, в результате которых микроб, заражающий подковоносов, трансформировался в возбудитель болезни у человека. Не образуйся подобная база для скоростной эволюции микроорганизма, о проблеме атипичной пневмонии, вероятно, не пришлось бы говорить вовсе.
Мы зашли в бокс, освещенный единственной голой лампочкой. За спиной продавца на просевшей полке стояла заляпанная пятилитровая банка, где в каком-то рассоле плавали змеи. Мой переводчик Су завел разговор с продавцом, а ко мне подошли две женщины и плюхнули на пол у моих ног два полотняных мешка. В одном извивался клубок тонких коричневых змеек, в другом шипела и угрожающе дергалась одна большая змея. Сквозь полупрозрачную ткань мешка просвечивал широкий капюшон – это была кобра.
Не успела я толком осознать увиденное, как продавец и две женщины, до того не показывавшие интереса к моей персоне, вдруг уставились на меня вопросительно. Су перевел: «На сколько человек вы собираетесь приготовить змею?»
«На десять», – выдавила я и, смешавшись, отвела взгляд. Переводчик продолжал переговоры еще несколько минут, и я заметила, как одна из женщин снова заинтересовалась мной. Кивнув в мою сторону, она, хихикая в кулачок, полюбопытствовала у Су, правда ли, что иностранцы едят индеек. Теперь уже ей мои вкусы казались экзотическими.
Холера тоже зарождалась в организмах животных. Ее носители обитали в море – крошечные ракообразные под названием веслоногие около миллиметра длиной, каплеобразной формы, с единственным ярко-красным глазом. Их относят к зоопланктону: это означает, что они не могут самостоятельно перемещаться в воде на значительные расстояния, а преодолевают их пассивно вместе с водными массами. В толще воды они держатся с помощью распростертых, словно крылья планера, длинных усиков{25}. Хоть они и не особо известны неспециалистам, но это самое многочисленное многоклеточное животное в мире. На одной голотурии – «морском огурце» – может обитать две с лишним тысячи веслоногих рачков, а на одной морской звезде размером с ладонь – сотни. Есть места, где от веслоногих мутнеет вода: неудивительно, поскольку за сезон каждая особь может дать почти 4,5 млрд потомков{26}.
Холерный вибрион – бактериальный партнер веслоногих. Как и другие представители рода вибрионов, он представляет собой похожую на микроскопическую запятую бактерию. Несмотря на возможность автономного существования в воде, он предпочитает облеплять веслоногих внутри и снаружи, прикрепляясь к их яйцевым камерам и выстилая внутренность кишечника. Там бактерия выполняет важную экологическую функцию. Как и другие ракообразные, веслоногие рачки снаружи покрыты защитным панцирем из полимера под названием хитин. Они растут всю жизнь, и, когда панцирь становится тесным, сбрасывают его, словно змеи старую кожу. Ежегодно веслоногие оставляют на морском дне в общей сложности 100 млрд тонн хитина, который затем поглощают вибрионы, перерабатывая совместными усилиям 90 % хитинового мусора. Если бы не они, на горы экзоскелетов, выращенных и затем сброшенных веслоногими, скоро израсходовались бы весь углерод и азот в океане{27}.
Вибрионы и веслоногие плодились и размножались в теплых солоноватых дельтах рек, где смешивается пресная и морская вода. Таких, например, как Сундарбан – обширные болотистые леса в бассейне крупнейшего в мире морского залива, Бенгальского. Эта «нейтральная полоса» между сушей и морем долго противилась вторжению человека. Соленый прилив ежедневно накрывал 500 миль мангровых лесов и литоралей Сундарбана, создавая временные островки – песчаные отмели, показывающиеся над водой лишь с отливом. Мангровые болота были территорией, где властвовали лишь циклоны да дикие животные: ядовитые змеи, крокодилы, яванские носороги, буйволы и даже бенгальские тигры{28}. Великие Моголы, правившие на Индостане до XVII века, благоразумно обходили Сундарбан стороной. Хронисты XIX столетия живописуют «затопленные земли, которые покрыты джунглями, задыхаются от малярии, кишат дикими зверьми», но «невероятно плодородны»{29}.
Но позже, в 1760-х, Бенгалию, а с ней и Сундарбан, захватила Ост-Индская компания. В мангровые леса устремились английские поселенцы, охотники на тигров и колониалисты. Руками тысяч наемных работников из местного населения они вырубали мангры, строили запруды и сажали рис. Через 50 лет было сведено почти 800 квадратных миль сундарбанских лесов. К концу XIX века человеческие поселения занимали около 90 % когда-то девственного, непроходимого – и кишащего веслоногими – Сундарбана{30}.
Наверное, еще никогда контакт между человеком и зараженными вибрионом веслоногими не был таким тесным, как на этих покоренных тропических болотах. Сундарбанские крестьяне и рыбаки жили по колено в солоноватой воде – идеальной среде для вибрионов, так что проникнуть в человеческий организм бактерии не составило труда. Рыбак ополаскивает лицо забортной водой, крестьянин пьет из колодца, подтапливаемого приливом, – оба прихватывают неразличимых в воде веслоногих и с ними – до 7000 вибрионов на каждом{31}.
Благодаря такому тесному контакту холерный вибрион и получил возможность «перейти» или «переключиться» на человеческий организм. Это не значит, что бактерию ждал теплый прием. У человека имеется неплохая защита от непрошеных гостей – это и кислотная среда в желудке, нейтрализующая большинство бактерий, и полчища микробов-конкурентов, населяющих кишечник, и несущие постоянный дозор клетки иммунной системы. Но со временем холерный вибрион адаптировался к человеческому организму, с которым по-прежнему то и дело контактировал. В частности, приобрел длинный, похожий на волос, жгутик на хвосте, с помощью которого вибрионы получили возможность связываться между собой и образовывать плотные микроколонии. Эти микроколонии покрывали стенки человеческого кишечника, словно мыльная пена занавеску для ванны{32}.
Холерный вибрион стал так называемым зоонозом – от греческого zoon (животное) и nosos (болезнь). Обитающий на животных микроорганизм, способный инфицировать человека. Но до возбудителя пандемии он еще не дорос.
Как зооноз, холерный вибрион инфицировал только тех людей, которые сталкивались с его «естественным резервуаром», т. е. веслоногими. Это был патоген, посаженный на цепь, неспособный заражать за пределами своей ограниченной зоны обитания. Инфицировать тех, кто не возился в кишащей веслоногими воде, он не мог, хотя вероятность заразить много людей разом, если те одновременно соприкоснутся с веслоногими, у него оставалась. Однако эти вспышки носили заведомо ограниченный характер и всегда стихали сами.
Чтобы вызвать волну последовательных заражений – эпидемию или пандемию в зависимости от масштабов распространения, – патоген должен передаваться непосредственно от человека к человеку. Иными словами, его базовый показатель репродукции должен быть больше единицы. Базовый показатель репродукции (сокращенно – БПР, в науке обозначается как R0) подразумевает среднее число лиц, заражаемых одним инфицированным индивидом (при отсутствии постороннего вмешательства). Скажем, у вас насморк и вы заражаете им своего сына и его друга. Если данный сценарий типичен для всего остального населения, базовый показатель репродукции вашего насморка равен двум. Если вы умудрились заразить еще и дочь, то БПР вашего насморка будет равен трем.
Эти расчеты необходимы при вспышке заболевания, поскольку позволяют немедленно спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Если в среднем каждое инфицирование дает менее одного дополнительного заражения – вы заразили сына с приятелем, но они, в свою очередь, больше никого не заражают, – значит вспышка погаснет сама. Можно сказать, вымрет, как поселение, в котором каждая семья рожает меньше двух детей. Смертоносность инфекции в данном случае не влияет на прогноз. Но если в среднем каждое инфицирование порождает одно последующее, то болезнь может, теоретически, распространяться бесконечно. Если каждое инфицирование дает более одного последующего, то для пораженной популяции возникает угроза существованию, требующая немедленных и срочных мер. Ведь это значит, что при отсутствии вмешательства заражение будет расти в геометрической прогрессии.
Таким образом, базовый показатель репродукции – это математическое выражение разницы между патогеном, способным передаваться только между животными (т. е. зоонозным), и патогеном, перешедшим эту грань и превратившимся в человеческий. БПР зоонозного патогена, неспособного распространяться от человека к человеку, всегда меньше единицы. Но по мере усовершенствования его «вооружения» против человека усилится и способность к распространению. Стоит патогену преодолеть порог единицы, и он сорвет оковы, удерживающие его в «животном» резервуаре. Теперь это полноправный человеческий патоген, способный самостоятельно существовать в человеческом организме.
Механизмов, позволяющих зоонозным патогенам перейти к непосредственному распространению от человека к человеку и перестать зависеть от животных-носителей, существует довольно много. Холерный вибрион добился этого, научившись вырабатывать токсин.
Токсин дал вибриону его основное преимущество. При нормальном функционировании пищеварительной системы человека пища вместе с желудочным соком и желчью поступает в кишечник, где выстилающие кишечный тракт эпителиальные клетки извлекают питательные вещества и жидкость, оставляя плотные массы экскрементов для последующего удаления из организма. Токсин холерного эмбриона воздействовал на биохимию человеческого кишечника, меняя его привычные функции на противоположные. Вместо того чтобы извлекать жидкость из перевариваемого содержимого и питать ткани организма, заселенный вибрионом кишечник принимается высасывать воду с растворенными в ней электролитами из тканей тела и сливать вместе с испражнениями{33}.
За счет токсина вибрион обеспечил себе две новые возможности, необходимые, чтобы стать человеческим патогеном. Во-первых, избавление от соперников: бурный поток жидкости вымывает остальные кишечные бактерии, позволяя вибриону (микроколонии которого научились намертво цепляться за стенки кишечника) без помех расселиться. Во-вторых, перемещение от одного хозяина к другому. Достаточно крошечной капли испражнений, чтобы вибрион через немытые руки, с зараженной пищей или водой попал к следующей жертве. Теперь он, возбудив болезнь у одного человека, мог распространить ее и на других, независимо от того, сталкиваются ли они с веслоногими и пьют ли кишащую вибрионами сундарбанскую воду.
Первая пандемия, вызванная новым патогеном, началась в сундарбанском городе Джессор в августе 1817 года после сильных дождей. Дождевая вода затопила всю округу, смешавшись с морской и наводнив веслоногими земельные участки, дома и колодцы. Холерный вибрион просочился в организмы местных жителей и заселил их кишечники. Благодаря токсину его БПР (согласно современным математическим моделям) составлял от двух до шести. Это значит, что один заразившийся мог инфицировать до полудюжины других{34}. Уже через несколько часов первые жертвы холеры были «высушены заживо»: каждый заболевший извергал более 14 литров жидкого молочно-белого стула в день, заполняя испражнениями сундарбанские ручьи и отхожие ямы. Сточные воды просачивались в крестьянские колодцы. Капли загрязненной воды оставались на руках и на одежде. И в каждой капле кишели вибрионы, готовые заражать новые жертвы{35}.
Бенгальцы назвали невиданную напасть ola – «чистка». От нее умирали быстрее, чем от любой другой известной тогда человечеству болезни, и унесла она в общей сложности 10 000 жизней. За несколько месяцев во власти новой чумы оказались почти 2000 квадратных миль бенгальских земель{36}.
Так дебютировала холера.
Поскольку микробы окружают нас повсюду, может показаться, что патогены способны появиться откуда угодно – вызреть в каком-нибудь темном углу и двинуться в наступление с самой непредсказуемой стороны. Может быть, опасные микроорганизмы притаились внутри нас и превращаются в патогены за счет новообретенных свойств, а может, развиваются в неживой среде – почве, порах камней, ледяной корке или других экологических нишах.
Однако большинство новых патогенов рождается не так, потому что проникновение их в наш организм не случайно. Патогенные качества микробы обретают с нашей же подачи, следуя определенными путями, которые мы сами для них мостим. Хотя микроорганизмы, обладающие потенциалом перехода в человеческие, водятся в самых разных средах, большинство из них, точно так же, как холерный вибрион или вирус атипичной пневмонии, становятся патогенами в организмах других животных. Более 60 % известных патогенов впервые появились у окружающих нас пернатых и хвостатых, в том числе домашних животных – как скота, так и комнатных питомцев. Из них основная масса – свыше 70 % – обязана происхождением диким видам{37}.
Микробы перебирались от одного вида к другому и превращались в новые патогены на протяжении всего того времени, что человек живет в окружении других животных. Отличную возможность для этого дает охота на животных и употребление их в пищу, т. е. тесный контакт человека с тканями и жидкостями их тел. Неплохим трамплином служат укусы таких насекомых, как комары и клещи, переносящие жидкости из чужих организмов в наш. Это древнейшие формы непосредственного контакта между Homo sapiens и другими животными, возникшие на заре человеческой истории и послужившие появлению старейших инфекционных заболеваний, таких как малярия, передававшаяся человеку от его собратьев-приматов благодаря кровососущим комарам.
Поскольку тесный межвидовой контакт должен быть достаточно продолжительным, чтобы «животный» микроорганизм успел превратиться в человеческий патоген, то исторически сложилось, что одни животные служат для нас источником новых инфекционных заболеваний чаще, чем другие. Гораздо больше патогенов нам поставили организмы обитателей Старого Света, с которыми мы живем бок о бок миллионы лет, чем Нового, знакомство с которыми насчитывает лишь десятки тысячелетий. Огромная доля человеческих патогенов поступает от других приматов, которые – притом что составляют лишь 0,5 % всех позвоночных – наградили нас 20 % самых тяжких болезней (в том числе ВИЧ и малярией). По той же причине многие человеческие патогены ведут свою историю от зарождения сельского хозяйства примерно 10 000 лет назад, когда люди начали одомашнивать другие виды и вступили с ними в продолжительный тесный контакт. От коров мы получили корь и туберкулез, от свиней – коклюш, от уток – грипп{38}.
Но хотя межвидовой перенос микробов от животных к человеку (и наоборот) насчитывает уже не первое тысячелетие, каждый такой случай формирования нового «подселенца» занимал довольно длительный период времени.
Но так было только в прежние времена.
Определить, что резервуаром вируса атипичной пневмонии выступают подковоносы, удалось экологу Питеру Дашаку, возглавляющему междисциплинарную организацию, которая занимается исследованиями новых болезней у людей и диких животных. Наша встреча состоялась у него в кабинете в Нью-Йорке. Болезнями он, как выяснилось, начал заниматься случайно, но зоологом хотел стать еще в детстве, которое прошло в английском Манчестере. «Моя большая любовь – ящерицы», – говорит он, показывая на выращенного в неволе мадагаскарского дневного геккона, неподвижно застывшего в подсвеченном террариуме у входной двери. Однако в университете все исследовательские проекты по поведению ящериц были уже разобраны, и Дашаку досталось только изучение их заболеваний. «Скукотища какая», – думал он тогда{39}.
Однако именно благодаря этому проекту он стал одним из ведущих мировых «охотников за болезнями». В конце 1990-х, когда Дашак работал в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, герпетологи начали отмечать внезапное сокращение популяций земноводных по всему миру. Лишь несколько экспертов заподозрили, что причиной является болезнь. В то время считалось маловероятным, чтобы патогенные микроорганизмы могли создать угрозу истребления популяции носителя. Ведь это – рубить сук, на котором сидишь: если патоген будет убивать слишком быстро или слишком массово, ему просто не в ком будет селиться. И поэтому биологи, пытаясь объяснить массовую гибель земноводных, в основном «выдвигали стандартные в таких случаях гипотезы», вспоминает Дашак. Подозревали загрязняющие вещества и резкие изменения климата, но Дашак предположил, что амфибий косит некая новая болезнь. У него уже был опыт выявления инфекции, истребившей целый вид древесных улиток в южной части Тихого океана.
В 1998 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что массовую гибель земноводных по всему миру вызывает патогенный гриб – Batrachochytrium dendrobatidis, провоцирующий грибковое заболевание хитридиомикоз. Скорее всего, распространению патогена способствовало ускорение темпов разрушительной человеческой деятельности, в частности, рост спроса на амфибий как на домашних питомцев и подопытных животных{40}.
Но на этом открытия Дашака не кончились. Те же самые губительные процессы, которые обрушили на амфибий хитридиомикоз, могут спустить с цепи и другие патогены. И на этот раз жертвами могут оказаться люди. По мере осушения болот и сведения лесов, всё новые виды животных начинают тесно и продолжительно контактировать с людьми, что позволяет живущим на этих видах микроорганизмам переселяться на нового хозяина – человека. Перемены эти происходят по всему миру, поражая беспрецедентным размахом и темпами.
Путь от зооноза к человеческому патогену превращается в скоростную магистраль{41}.
Перенесемся теперь на юго-запад западноафриканского государства Гвинея. Когда-то эту часть страны покрывали леса, биологическому разнообразию которых не было равных на планете. Это был огромный девственный лесной массив, куда почти не ступала нога человека, а значит, контакт между лесными жителями и Homo sapiens оставался минимальным. Дикие животные обитали в своей среде, не сталкиваясь ни с людьми, ни с человеческим жильем.
Все начало меняться в 1990-х, когда гвинейские леса подверглись планомерному уничтожению. Туда хлынула волна беженцев, укрывающихся от затяжного кровопролитного конфликта между повстанцами и вооруженными силами соседних Сьерра-Леоне и Либерии. (Поначалу они пытались устроиться в лагерях беженцев в столице лесного края Гекеду, но там их постоянно терроризировали повстанцы и правительственные войска.){42}
Беженцы сводили леса под посевы и жилье, перерабатывали деревья в древесный уголь. Повстанцы рубили лес на продажу, чтобы на вырученные деньги финансировать свою борьбу{43}. К концу 1990-х изменения уже можно было заметить из космоса. Если на спутниковых снимках середины 1970-х гвинейские джунгли, граничащие с Либерией и Сьерра-Леоне, напоминали зеленое море с крошечными коричневыми островками поселений, то снимки 1999 года выглядели с точностью до наоборот: коричневая пустошь с крохотными островками зелени. От исконных лесов региона осталось только 15 %{44}.
Как именно эта масштабная вырубка повлияла на лесную экосистему, еще до конца не определено. Многие виды лесных животных, вероятно, просто исчезли, когда в их среду обитания вторглись люди. Но какие-то из них, конечно же, сохранились, вынужденные теперь ютиться на тех самых крошечных островках, к которым все ближе подступали человеческие селения.
Среди сохранившихся оказались и летучие мыши. Вполне логично, учитывая их распространенность и живучесть: из 4600 видов млекопитающих нашей планеты летучие мыши составляют 20 %. Мало того, как показало проведенное в Парагвае исследование, некоторые виды летучих мышей размножаются в нарушенных лесных экосистемах еще активнее, чем в нетронутых{45}. К сожалению, рукокрылые – прекрасные инкубаторы для инфекций, способных заразить человека. Они живут гигантскими колониями по миллиону особей, при этом срок жизни у таких видов, например, как малая бурая ночница, довольно длинный – до тридцати пяти лет. Иммунная система у летучих мышей тоже необычная. В частности, поскольку кости у них полые, как у птиц, они не вырабатывают иммунные клетки в костном мозге, как остальные млекопитающие, и потому выступают носителями огромного числа уникальных микробов, не живущих на представителях других видов животных. С этими микробами они путешествуют на огромные расстояния, поскольку умеют летать. Некоторые мигрируют за тысячи миль{46}.
По мере уничтожения гвинейских лесов между людьми и летучими мышами, несомненно, возникали новые формы контакта. На мышей охотились, а значит, охотники соприкасались с населенной микробами тканью мышиных органов. Мыши объедали фруктовые деревья вблизи человеческого жилья, оставляя слюну и экскременты. (Летучие мыши едят на редкость неаккуратно: выбрав спелый плод, они высасывают сок, усеивая землю под деревом обляпанными слюной ошметками.)
В какой-то момент – когда точно, не известно – микроб летучих мышей, филовирус Эбола, начал распространяться на человека. У людей Эбола вызывает геморрагическую лихорадку и в 90 % случаев приводит к летальному исходу{47}. Исследование проб крови, взятых у жителей восточной части Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинеи в 2006–2008 годах, показало, что почти 9 % с этим вирусом уже сталкивались: их иммунная система выработала в ходе ответной реакции особые белки-антитела{48}. В 2010 году схожий анализ четырех с лишним тысяч проб, взятых у представителей сельских районов Габона, где вспышек лихорадки Эбола не отмечалось, выявил предшествующие столкновения с вирусом почти у 20 % населения{49}.
Но никто не обратил внимания. Продолжающиеся военные действия отсекали каналы поставок и пути сообщения, оставляя укрывшихся в джунглях беженцев без помощи извне. Даже самые стойкие и упорные гуманитарные организации вроде «Врачей без границ» вынуждены были отступить. Положение западноафриканских беженцев, оказавшихся под гнетом насилия и отрезанных от мира, ООН назвала «величайшей в мире гуманитарной катастрофой»{50}.
И только в 2003 году, когда накал политического конфликта снизился и прячущиеся в гвинейских лесах начали постепенно восстанавливать контакт с внешним миром, вирус дал о себе знать. Шестого декабря 2013 года от лихорадки Эбола скончался двухлетний ребенок в небольшой лесной деревушке недалеко от Гекеду. Может, малыш подобрал под деревом ошметок фрукта, покрытого слюной летучей мыши. Может, свежепойманную мышь разделывали родители, перед тем как взять ребенка на руки. Может, это был не первый случай заражения вирусом Эбола от летучей мыши в окрестностях Гекеду, но теперь местные жители постепенно обретали связь с окружающим миром. И вирус получил возможность для распространения.
К февралю 2014 года медицинский работник разнес вирус по трем соседним селениям. Через месяц в лесной части Гвинеи полыхали по крайней мере четыре очага лихорадки, от каждого из которых тянулась своя цепочка распространения{51}.
К тому времени, как медицинские учреждения и добровольцы уведомили Министерство здравоохранения и ВОЗ об отмеченной в марте 2014 года вспышке заболевания в гвинейских лесах, вирус уже проник в Сьерра-Леоне и Либерию{52}. Полгода спустя он уже проявлялся в городах по всему региону, и масштабы эпидемии удваивались каждые две-три недели. Согласно математическим моделям, каждый инфицированный заражал не меньше одного-двух других человек, обеспечивая БПР от 1,5 до 2,5. При отсутствии мер сдерживания возникала угроза экспоненциального роста эпидемии{53}.
Вспышки лихорадки Эбола случались на Африканском континенте и раньше. Локальные очаги в удаленных селениях Центральной Африки возникали с 1970-х, в основном в переходный период между сезонами засухи и дождей – возможно, в связи с появлением урожая на плодовых деревьях и нашествием перелетных летучих мышей. Однако никогда прежде вирус не вызывал таких разрушительных последствий, как в Западной Африке. Тысячи заболевших подорвали и без того хрупкую экономику и здравоохранение трех наиболее пострадавших стран. «Никто из нас, имеющих опыт сдерживания эпидемий, за всю жизнь не видел бедствия такого масштаба», – заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан{54}.
В сентябре 2014 года Центры по контролю и профилактике заболеваний прогнозировали заражение вирусом Эбола более миллиона человек по всей Западной Африке{55}. Прогноз оказался преувеличенным, однако в то время ему поверили многие. Вирусу Эбола уже доводилось ставить на грань катастрофы популяции родственных человеку приматов – горилл и шимпанзе, которые питаются теми же фруктами, что и летучие мыши. В 1990-х и в начале 2000-х вирус уничтожил треть мировой популяции горилл и почти такую же долю шимпанзе. Когда в начале 2015 года эпидемия в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии наконец пошла на убыль, число ее жертв уже перевалило за 10 000{56}.
Вирус Эбола оказался самым смертоносным из новоявленных зоонозов, переходящих к человеку от лесных африканских животных, однако он в этой категории не единственный.
Оспа обезьян – вирус, носителем которого выступают центральноафриканские грызуны. Происходит он из того же семейства, что и ныне исчезнувшая оспа – вирус-возбудитель одноименной болезни, погубившей в XX веке от 300 до 500 млн человек. У людей оспа обезьян вызывает заболевание, клинически неотличимое от оспы натуральной, с характерной сыпью в виде папул, т. е. оспин, по всему телу, особенно на лице и на руках. В отличие от натуральной оспы, обезьянья представляет собой зооноз, однако, согласно исследованиям эпидемиолога Калифорнийского университета Энн Римойн, он все чаще начинает заражать и людей{57}.
С 2005 по 2007 год Римойн отмечала случаи обезьяньей оспы в 15 труднодоступных селениях Демократической Республики Конго. Анализы крови, взятой у инфицированных, подтвердили, что возбудителем действительно выступает вирус оспы обезьян. Окончательный подсчет показал, что заражение обезьяньей оспой у человека выросло в двадцать раз по сравнению с 1981–1986 годами{58}.
Причин для этого роста несколько. Во-первых, более частый и тесный контакт между грызунами и человеком. Из-за сокращения площади лесов все больше людей живет в непосредственной близости к местам обитания центральноафриканских лесных грызунов, зараженных обезьяньей оспой{59}. Из-за уничтожения популяций привычной дичи и сокращения рыболовных промыслов многие перешли на «бушмит» – мясо диких тропических животных, в том числе грызунов, которыми когда-то брезговали. Немаловажную роль сыграло и прекращение вакцинации против оспы. Глобальная массовая вакцинация, искоренившая оспу в конце 1970-х, давала пациенту пожизненный иммунитет против всего семейства вирусов оспы, в том числе и обезьяньей. Однако в Демократической Республике Конго эта кампания закончилась в 1980-м. Любой родившийся позже точно так же уязвим для обезьяньей оспы, как столетиями были уязвимы для натуральной оспы непривитые{60}.
В данный момент обезьянья оспа все еще привязана к грызунам – скорее всего, как считает Энн Римойн, полосатым белкам, но доподлинно это не установлено – как переносчикам. Передаваться непосредственно от человека к человеку вирусу удается лишь случайно. По мнению коллеги Римойн эколога Джеймса Ллойда-Смита, БПР обезьяньей оспы у человека колеблется между 0,57 и 0,96, не дотягивая до единицы, необходимой, чтобы перерасти из зооноза в человеческий патоген. Все-таки инфицируемое им центральноафриканское население достаточно рассеяно и удалено от мест массового проживания – у вируса попросту слишком мало потенциальных жертв{61}.
К счастью, даже если обезьянья оспа совершит окончательный переход от «животного» микроба к человеческому патогену, ей вряд ли удастся вызвать такие же последствия, как натуральной оспе. Вакцины и лекарства, разработанные для борьбы с натуральной оспой, скорее всего, помогут сдержать и вспышки обезьяньей, приспособившейся к человеческому организму. Обезьянья оспа, как считает Римойн, это зло известное. Сходство с натуральной оспой и характерная клиническая картина с симптомами, которые сложно не заметить, облегчает отслеживание этого микроба-перебежчика. Однако есть и другие микробы, с менее очевидными симптомами, которые движутся теми же путями перехода от зоонозов к человеческим, но незаметно для нас. И какие-то, возможно, уже подбираются к финишу.
Вирус атипичной пневмонии тоже появился в результате резкой экспансии: в данном случае продовольственных рынков с их немыслимым разнообразием живого товара.
Вирус атипичной пневмонии не был новым. Не отличалась новизной и деятельность, обеспечившая летучим мышам на юге Китая непосредственное соседство с человеком. Вирус атипичной пневмонии «возможно, существовал у летучих мышей столетиями», утверждает вирусолог Гонконгского университета Малик Пейрис, лаборатории которого первой удалось выделить этот вирус{62}. «Дикая» кухня е-вэй и продовольственные рынки, столкнувшие летучих мышей с людьми в южном Китае, тоже существуют достаточно давно.
«Дикая» кухня – составная часть китайской культурной традиции, согласно которой человек должен, соприкасаясь с дикой природой, черпать из нее силу, энергию и долголетие. Люди заводят диких животных в качестве питомцев (хотя, если вам очень хочется выделиться, почему бы просто не покрасить собаку под тигра или панду) и имитируют их позы в единоборствах вроде ушу. В традиционной медицине части тела и органы животных используются в снадобьях: усы тигра – от зубной боли, медвежья желчь – от болезней печени, скелет летучей мыши – от камней в почках{63}. Приверженцы этой традиции считают употребление дикого мяса в пищу целительным и полезным для организма, получающего таким образом частицу природной энергии животного{64}. Причем чем экзотичнее животное, чем реже встречается и чем более дикое, тем более оно ценится в качестве «лекарства».
Однако распространение «дикой» кухни, а с ним и размеры продовольственных рынков в Китае долгие годы сдерживались экономическими и географическими барьерами. Политические отношения Китая с соседними Таиландом, Лаосом и Вьетнамом, где водилось большинство самых вожделенных экзотов, оставались напряженными, поэтому поставки были скудными, а цены – высокими. Если состоятельная верхушка могла позволить себе пообедать жареной медвежьей лапой с язычками карпа, губами гориллы и свиными мозгами в винном соусе, леопардовой плацентой, пропаренной с верблюжьим горбом, и грушами на гарнир, то обычные люди покупали продукты попроще или добывали себе дичь сами{65}
