Первый учитель
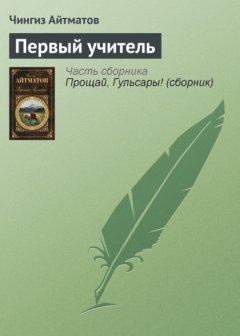
Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина – еще только замысел.
Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, – просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу – я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.
Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую: мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.
Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю…
Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.
А над аилом, на бугре, стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, – то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, – но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.
Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.
Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугорок к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».
В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные: у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.
Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.
Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка…
В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, как бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше – а ну, кто смелее и ловчее! – и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.
Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватало глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.
Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?
Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» – ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя – воробьев разгонять!»
Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была – название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда, кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось…»
Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[1] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень, и конь его был похож чем-то на хозяина – такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец – это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так…
Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил – ехать, не мог же я в такой радостный для нашего аила день усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.
Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:
– Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.
– Надо бы, конечно, съездить, – невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. – Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.
Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым – всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.
Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.
После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности, очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас – гостей, учителей и активистов колхоза – к себе.
И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.
– Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? – спросил директор.
– Да, – ответил парень. – Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.
– Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!
Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.
– А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?
Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:
– Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.
– Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит, – недовольно проговорил кто-то.
– О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.
– Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя – на Украине это было – и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет…
– А все-таки зайти бы ему сейчас… Ну да ладно. – И хозяин махнул рукой.
– Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. – Один из почтеннейших людей аила поднял бокал. – А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. – Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.
– А ведь и правда, было так, – отозвалось несколько голосов.
Кругом засмеялись.
– Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.
Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:
– Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!
Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговором, не замечали ее состояния.
Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор – туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате – у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.
Я подошел к Алтынай Сулаймановне.
– Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета, – сказал я ей.
– И я об этом же думаю, – вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: – Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.
По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.
– Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?
– Да, в одиннадцать ночи.
– Значит, мне надо собираться.
– Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.
– Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.
Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.
Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.
Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, – просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.
На станции я все-таки спросил ее:
– Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?
– Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.
Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:
«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо… Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте…»
Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.
Это было в 1924 году. Да, именно в тот год…
Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.
Еще осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.
Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.
В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», – но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.
Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.
– Слушай, сынок, – начал он заикающейся скороговоркой, – раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?
– Я не мулла, аксакал, я комсомолец, – быстро отозвался Дюйшен. – А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.
– Ну, это дело…
– Молодец! – раздались одобрительные возгласы.
– Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу – с вашей помощью, конечно, – вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?
Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.
– Ты постой, парень, – проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. – Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?
– Как зачем? – растерялся Дюйшен.
– А верно ведь! – подхватил кто-то из толпы.
И все разом зашевелились, зашумели.
– Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!
Голоса приутихли.
– Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? – спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.
– А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!
Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.
– Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!
Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.
– Мы бедняки, – уже тихо проговорил Дюйшен. – Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей…
Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:
– Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что… Мы не против закона.
– Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе…
– Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! – оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.
Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.
– Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя – ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять… Только у нас их нет. А у кого табуны есть – те в горах.
Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:
– Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.
– А-а, давно бы так! – И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. – Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава Богу, своих забот полон рот…
С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься…
Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:
– А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! – И я кинулась догонять ребят. – Ишь ты, и они уже повадились на сходки!
На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.
С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:
