Изображая женственность. Женщина как артистка в раннем русском кино
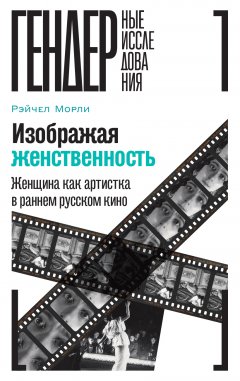
Rachel Morley
Performing Femininity. Woman as Performer in Early Russian Cinema
© Rachel Morley, 2017
© И. Марголина, перевод с английского, 2023
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Предисловие редакторов серии
В первой половине XX века именно кино являлось господствующим видом искусства по крайней мере в Европе и Северной Америке. Более, чем где-либо, это было характерно для России и Советского Союза, где цитата Ленина о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино» превратилась в клише, а посещаемость кинотеатров до недавнего времени была одной из самых высоких в мире. В эпоху массовой политики советское кино эволюционировало от недолговечного, но действенного способа получить поддержку безграмотных крестьян в гражданской войне, через эксперимент, в массовое орудие пропаганды. Последняя активно использовала сферу развлечений для формирования публичного облика Советского Союза: дома и за рубежом, для элиты и массовой аудитории. Наконец, во время синхронных процессов гласности и перестройки кино стало инструментом рефлексии по поводу слабых мест в прошлом и настоящем страны. Сейчас национальные кинематографии постсоветских стран сталкиваются с теми же озадачивающими проблемами – от незначительных до неразрешимых, – что и другие бывшие советские ведомства; сама же Россия на данный момент является шестой страной в мире по объему проката[1]. Настоящая книга демонстрирует, что русское кино существовало и до революции 1917 года, а советское кино появилось не на пустом месте.
Центральное место кинематографа в российской и советской культуре, а также уникальное сочетание его возможностей как средства массовой информации, вида искусства и развлечения превратили кино в постоянное поле боя – не только для России и Советского Союза, но и для внешнего мира. Достоинства документального кино перед игровым, кино перед театром и живописью, истинное значение кино в формировании постреволюционной советской культуры и нового человека – отголоски всех этих споров 1920-х слышны и в нынешних дискуссиях о том, насколько кино повлияло на культурную и психологическую революцию, вызванную процессами экономической и политической трансформации бывшего Советского Союза. Центральное место кинематографа сделало его незаменимым источником как для пристального изучения чистых страниц российской и советской истории, так и для возможного примирения нынешнего поколения со своим прошлым.
Ричард Тейлор и Биргит Боймерс
Благодарности
Я благодарна щедрой поддержке Совета по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук (AHRC), который предоставил трехлетнюю стипендию, ставшую частичным финансовым подспорьем в работе над этой книгой. В измененном виде и под названием «Изображая женственность в годы перемен: Евгений Бауэр, Иван Тургенев и легенда о Евлалии Кадминой» седьмую главу можно найти в книге «Тургенев. Искусство, идеология. Наследие» под редакцией Роберта Рейда и Джо Эндрю (Амстердам, Нью-Йорк, 2010, с. 269–316). Я благодарю первоначального издателя, Koninklijke Brill NV, за разрешение на повторную публикацию материала здесь.
Биргит Беймерс, Джулиан Граффи, Брайан Каретник, Джеймс Манн, Арнольд и Светлана МакМиллин, Милена Михальски, Анна Пэйкс, Люк Понсфорд, Кэндис Вил и Эмма Уиддис предоставляли мне материалы. Я очень благодарна им.
Часть материалов, включенных в эту книгу, была представлена на семинарах, организованных Центром русских исследований UCL SSEESS, Группой по исследованию русского кино UCL SSEESS, Центром исследования танца в Университете Рохэмптона, а также на конференциях, проведенных в университетах Оксфорда, Кембриджа и Суррея. Спасибо всем, кто присутствовал на этих мероприятиях, за то, что с интересом выслушали и отозвались вдумчивыми и наводящими на размышления вопросами и предложениями. Особая благодарность Владу Струкову и Ричарду Марксу, чьи комментарии побудили к новым поискам в исследовании. Я также благодарна Тиму Бисли-Мюррею, Филипу Кавендишу, Памеле Дэвидсон, Титусу Хьельму, Роберту Пинсенту, Кристин Рот-Эй, Бруку Таунсли, Эмме Уиддис и Питеру Зуси, которые читали ранние версии разных глав и давали ценные советы и вносили предложения по улучшению материала. Я также в долгу перед редакторами серии, Ричардом Тейлором и Биргит Беймерс, а также Мадлен Хэйми-Томас и Дэвидом Кэмплбеллом из I. B. Tauris за их полезные комментарии к рукописи и их терпение. Любые оставшиеся огрехи, безусловно, на мне.
Сердечное спасибо Ди и Рою – за все; Бруку – за его неиссякаемую поддержку; а также Ив и Мэй, которые запаслись терпением и хорошим настроем, хотя работа над этой книгой часто означала, что я уделяю им меньше времени и внимания, чем они того заслужили.
Наконец, я задолжала огромную благодарность Джулиану Граффи, который познакомил меня с ранним русским кино и чье преподавание вдохновило меня на дальнейшие исследования в этой области. Хочу поблагодарить Джулиана за то, как щедро делился он со мной своими знаниями, временем, опытом; за то, что читал (многочисленные) черновики этой монографии с терпением, энтузиазмом и чуткостью; за многие бесценные советы. Я и мечтать не могла о лучшем наставнике, читателе и друге, и в знак признательности я посвящаю эту книгу ему.
Введение
Открывая заново раннее русское кино: сегодняшний день
[Евгений] Бауэр умер, но живо и еще долго будет жить его творение. Бауэр мертв, но еще долгие годы картины его постановки не будут сходить с экранов России, будут заказываться с них все новые и новые копии, наконец, они проникнут за границу, понемногу появятся во всех уголках земного шара. Долгое время еще по образцам бауэровских постановок будут учиться молодые режиссеры, а спустя много лет какой-нибудь кинописатель извлечет из архива истрепанные ленты и будет по ним тщательно изучать бауэровскую эпоху кинотворчества, тайну обаяния и секрет успеха его картин у широкой публики[2].
Повторное открытие двухсот восьмидесяти шести дореволюционных русских фильмов в Госфильмофонде СССР в конце 1980-х и показ отобранных картин в программе «Немые свидетели» на Восьмом фестивале немого кино Giornate del Cinema Muto, проходившем в Порденоне в октябре 1989-го, стали событиями фундаментального значения в истории российского и советского кино. До этого общепринятая картина российского кинопроизводства дореволюционных лет была неполной. Киноведы, не имея возможности отсматривать фильмы, довольствовались прочтением их описаний в немногих академических исследованиях, посвященных этому периоду.
Впрочем, объем и форма раннего российского кинопроизводства были прояснены еще в 1945 году благодаря фильмографии дореволюционного кино, опубликованной Вениамином Вишневским[3]. Работа Вишневского – внушительный том, в котором описывается 1716 русских игровых фильмов, снятых между 1907-м и 1917-м, – неизменно остается важнейшим источником для исследователей кино данного периода. Однако, ограниченная форматом, фильмография сообщает лишь ключевые факты о фильмах: названия, дополнительные названия, имена съемочной группы, актеров и их персонажей, дату выхода, если она известна, и выпускающую студию. Информация о содержании картины, порой разрозненная или вовсе несохранившаяся, сводится к беглому описанию темы или сюжета фильма одним предложением. Никаких попыток критического анализа, как то и следует ожидать от фильмографии, здесь нет.
Только спустя полтора десятилетия после публикации справочника Вишневского появилось первое критическое исследование дореволюционного российского кинопроизводства. Американский киновед Джей Лейда, будучи в 1930-е студентом ВГИКа, имел возможность смотреть хранившиеся в институте дореволюционные фильмы и в 1960 году опубликовал историю российского и советского кино. Таким образом, он стал первым человеком на Западе, попытавшимся тщательно проанализировать дореволюционные картины, к тому же отсмотренные им лично[4]. Сам Лейда признавался, что его работа не была ни исчерпывающей, ни безупречной, однако стала «смелой отправной точкой»[5]. В годы оттепели вышли еще две книги, посвященные этому периоду, написали их советские историки кино Ромил Соболев и Семен Гинзбург[6]. Хотя эти работы так и не переведены на английский, некоторые выводы Гинзбурга доступны европейским ученым благодаря французскому историку кино Жоржу Садулю, который обратился к исследованию Гинзбурга, чтобы включить отдельные наблюдения о раннем русском кино в позднейшие издания третьего тома своей «Всеобщей истории кино»[7]. Однако, как и предостерегают редакторы каталога, подготовленного к кинопоказам в Порденоне, высказывания Садуля о дореволюционном русском кино глубоко субъективны и окрашены идеологической предубежденностью автора:
Достаточно вспомнить, что Садуль презирал мещанское общество и кино царского периода, так как те избегали «острых проблем того времени», погружались в «чисто индивидуалистические и зачастую патологические действа», в которых, по мнению Садуля, «правили смерть, страсти, преступления, извращения, безумие, мистицизм, космополитизм, порнография»[8].
За исследованием Садуля в 1967 году последовало еще одно, тоже написанное французом, Жаном Митри[9]. Митри также подчеркивал болезненность фильмов и их «упоенность несчастьем», но, в отличие от Садуля, утверждал, что эта характерная атмосфера на самом деле и была отчетливым отражением социальных условий, в которых делалось кино, в частности «социального пессимизма, вызванного провалом революции 1905 года»[10].
А потом наступила тишина. Ничего существенного о кино позднеимперской России почти четверть века не публиковалось. Как отметили в 1988 году британские историки кино Ричард Тейлор и Йен Кристи: «Существование самобытного русского дореволюционного кино признано по крайней мере со времен предварительного отчета Лейды в „Кино“, но этот период еще предстоит оценить критически»[11].
Потому неудивительно, что повторное открытие этих фильмов, в том числе на Западе, как и предсказывал в 1918 году анонимный рецензент, чьи размышления о возможной судьбе фильмов Бауэра цитируются выше, привели к возрождению научного интереса не только к фильмам Евгения Бауэра, признанного ведущим режиссером периода, но и к русскому кинопроизводству вообще, остававшемуся в тени. Отправной точкой для такой оценки послужил вышеупомянутый каталог «Немые свидетели: русские фильмы 1908–1919 гг.», напечатанный в 1989 году в честь ретроспективы в Порденоне. В этом энциклопедическом издании на английском и итальянском языках приведены все ранние русские игровые картины, хранящие в Госфильмофонде России, а также списки актеров, выдержки из рецензий и синопсисов, напечатанных в современных журналах, биографии ключевых фигур раннего русского кино и краткие критические замечания о фильмах, включенных в серию показов. Русская версия каталога была опубликована в 2002-м[12]. Она содержит дополнительные материалы из современных журналов и пересмотренные и дополненные биографии кинематографистов и актеров, но в ней отсутствуют замечания к фильмам, написанные редакторами «Немых свидетелей».
В годы, последовавшие за ретроспективой в Порденоне, массив работ о кинематографе интересующего нас периода пополнился публикациями таких исследователей, как Мэри Энн Доан, Джейн Гейнс, Михаил Ямпольский, Рашит Янгиров, Виктор Короткий и Нея Зоркая. И все же именно Юрий Цивьян зарекомендовал себя как ведущий эксперт раннего российского кино. За последние два десятилетия Цивьян выпустил множество книг, статей, видеоэссе, закадровых комментариев и компакт-диск о русском кино и его культурном контексте. Он сделал больше, чем любой другой исследователь этой темы, для того, чтобы прояснить особенности раннего киноискусства, проследить его развитие и совершенствование. Слишком многочисленные, чтобы приводить их здесь, труды Цивьяна будут подробно рассмотрены на страницах этой книги, поскольку его работа, неизменно поучительная и вдохновляющая, послужила отправной точкой для многих идей, развернутых в настоящем исследовании.
В начале 1990-х также было опубликовано несколько интересных феминистско-фрейдистских ответов на фильмы, показанные в Порденоне, в первую очередь от киноисследовательниц Хайде Шлюпманн и Мириам Хансен[13]. Они же обозначили и подход, который будет использоваться в настоящей работе. В конце 1990-х и в 2000-е несколько заметных американских социокультурных историков, интересующихся империалистической Россией, также обратили внимание на кино этого периода. Большинство их работ обращается к вопросу, поставленному Ричардом Стайтсом в его рецензии на десятичастную видеоантологию о раннем русском кино Британского киноинститута (1992), а именно: «Что фильмы говорят нам об обществе и жизни в сумеречные годы империи?»[14] Так, объемное исследование Дениз Дж. Янгблад о раннем русском кино фокусируется на «факте и контексте, а не теории и эстетике»[15]. Свой вклад в эту богатую исследовательскую традицию внесла видная исследовательница Луиза Макрейнольдс, чья последняя статья на эту тему рассматривает семь фильмов Бауэра с лакановской точки зрения, доказывая, что, как предположил в 1967-м Митри, психосексуальная болезненность их сюжетов отражает социальный упадок и сопутствующую фрустрацию, характеризовавшие жизнь большинства русских мужчин в эпоху поздней империи[16].
Другие исследователи данной темы пристально анализируют не столько нарративы и сюжеты фильмов, сколько технические и эстетические элементы стиля в раннем русском кино. Так, Филип Кавендиш отводит главную роль в создании визуальной эстетики фильмов кинооператору, сосредотачивается на смыслах, созданных тем, что он определяет как «поэтика камеры»[17]. Следуя его примеру, Наташа Друбек рассматривает освещение как бауэровскую эстетическую доминанту[18]. Алисса Деблазио также избегает тематического подхода и, в свою очередь, исследует новаторское использование Бауэром мизансцены как смыслообразующего элемента[19].
Таким образом, спустя более двадцати пяти лет после повторного открытия этих выдающихся фильмов наше понимание раннего русского кино значительно расширилось. Однако за вычетом Янгблад, Кавендиша и Макрейнольдс большинство исследователей сосредоточили все свое внимание исключительно на фильмах Евгения Бауэра в ущерб работам других ранних режиссеров. Потому значительные пробелы в нашем понимании этого периода кинопроизводства в целом все еще присутствуют; некоторые из них настоящее исследование и намерено устранить.
Цели и подход
…Женщина находится в периоде эволюции; поэтому трудно теперь создать типичный образ женщины.
М. Моравская[20]
В настоящей монографии исследуется фигура исполнительницы в раннем российском кино 1908–1918 годов. Эта тема выросла из моей аналитической работы о репрезентации гендерных отношений в шестнадцати фильмах Евгения Бауэра[21]. Я была поражена тем, как часто бауэровские героини выступают в качестве сценических исполнительниц. Рассмотрев сохранившиеся фильмы, я поняла, что преобладание этого женского типажа не было исключительно бауэровским явлением: начиная с первого русского игрового фильма «Стенька Разин» Владимира Ромашкова (1908)[22], через более сложные сельские и городские мелодрамы середины 1910-х и заканчивая «Последним танго» Вячеслава Висковского (1918), одним из последних фильмов, сделанных прежде, чем дореволюционная киноиндустрия пала. Одни героини дают любительские представления в лесах, полях, селах или кабинетах, комнатах, которые снимают для частных вечеринок в большинстве городских ресторанов. Другие являются профессионалками и выступают в домах богатых мужчин и женщин, нанявших их, либо на сценах театров, танцевальных залов и ночных клубов, где они за деньги развлекают публику в качестве актрис, оперных певиц и танцовщиц всех мастей. Некоторые делают это наедине с собой: в своих спальнях, гримерках или перед зеркалом. Итак, если воспользоваться репликой Моравской, приведенной в начале раздела, «типичный образ женщины», созданный ранним русским кино, – это несомненно образ исполнительницы. Следовательно, одна из главных целей данного исследования – рассмотреть, почему эта фигура появляется в таком количестве разных фильмов, снятых столь разными режиссерами, и изучить, как используется этот образ.
На самом очевидном уровне повсеместное появление артистки может быть интерпретировано как прямое отражение современной им социальной действительности, и мой анализ, таким образом, коснется режиссерской репрезентации своих героинь в социоисторическом контексте создания этих фильмов. В конце XIX – начале XX века глубокие и стремительные перемены затронули все слои российского общества, но в особенности социальную роль женщины. В таковом контексте исполнительские искусства представляли одну из важнейших сфер, в которой женщины могли найти выход за пределы положенного им пространства дома и заполучить публичную профессию: она обеспечивала их социально приемлемой «видимостью», позволяла вносить вклад в культурную жизнь общества и, что не менее важно, давала им возможность обрести финансовую независимость. Кроме того, к концу XIX века артистки в России получили более высокий статус, общественный и профессиональный. Беспрецедентное количество честолюбивых девушек стекались в театр в поисках карьеры артистки любого рода – явление, которое историк русского театра Катерина М. Шулер охарактеризовала как «эпидемию Нины Заречной», отсылая к молодой актрисе, героине чеховской пьесы 1896 года «Чайка»[23]. А наиболее успешные исполнительницы, перевернув привычное положение дел, вытеснили своих коллег-мужчин как в плане популярности, так и в плане зарплаты. Вокруг самых выдающихся артисток складывались культы личности, а их щедрая публика позволяла устанавливать все более высокую плату за представления[24]. В этом смысле, как заметила Луиза Макрейнольдс, в российском обществе того времени «театр во многих отношениях был важным пространством фиксации растущего присутствия женщин в публичных местах»[25].
Безусловно, это лишь полдела. Фильмы – не только социальные документы, но еще и произведения искусства. В начале XX века кино в России представляло собой зарождающуюся форму искусства; братья Люмьер привезли в Россию свой кинематограф в мае 1896-го, но национальное кинопроизводство началось куда позже: первые российские выпускающие кинокомпании открылись только в 1907 году. Таким образом, рассматриваемый период является не только эпохой великих социальных потрясений, но и временем огромных перемен в искусстве, эрой, когда родилось новое художественное средство. Поэтому фильмы, снятые в данный период, репрезентируют и первые шаги в создании новой формы искусства. Поразительно, что постижение кинематографистами новой технологии и их попытки развить специфический киноязык, способный выразить их интересы и проблемы, невероятно тесно связаны с репрезентацией фигуры исполнительницы. В работах крупнейших русских режиссеров раннего кино два этих начинания, действительно, неразрывно связаны. Посему вторая цель этой монографии – рассмотреть, как режиссеры изображали артистку именно сквозь призму попыток экспериментировать и изучать технологические и эстетические возможности фильма, чтобы выработать таким образом специфический киноязык. При этом я попытаюсь очертить стилистические и эстетические особенности, характерные для раннего русского кино, и проследить их развитие на протяжении рассматриваемого периода.
Разумеется, эти фильмы не находились в культурном вакууме. Поэтому и мои рассуждения не ограничиваются кино, я постараюсь охватить значимые особенности широкого художественного и культурного ландшафта России начала XX века, в частности литературного, театрального и художественного наследия, благодаря которому сформировалось русское кино и к которому не раз обращались первые русские режиссеры.
В построении теоретической основы для данной работы предпочтительным подходом стал бриколаж в том смысле, в котором этот термин использовал Клод Леви-Стросс в «Неприрученной мысли»[26]. Я опираюсь на различные теоретические подходы, продиктованные мне первичным рассматриваемым материалом, а также на ряд разнообразных дисциплин, включающих кинотеорию, теорию танца, гендерную теорию, историю искусств, литературную критику, феминистскую теорию и общую теорию культуры. Я также предпочитаю детальный анализ развернутому комментарию, ибо сложность картин, рассмотренных в данной работе, такова, что только углубленный разбор уместен по отношению к ним. Соответственно, я не стремлюсь дать исчерпывающий разбор всех ранних русских фильмов, в которых присутствует фигура исполнительницы, но отбираю для анализа ключевые примеры этого широко распространившегося тропа, чтобы представить их в виде модели, показательной для этого типичного сюжета из раннего русского кино.
Глава 1. Восточная танцовщица
Первый русский художественный фильм: первые шаги в создании нового вида искусства
Пятнадцатого октября 1908 года недавно основанная в Санкт-Петербурге студия «Торговый дом Дранкова» выпустила фильм, который сегодня принято считать первой русской художественной картиной: «Стенька Разин» с подзаголовком «Понизо́вая вольница», известный также как Free Men of the Volga («Вольные люди Волги». – Примеч. пер.). Заявленный как историческая драма фильм опирался на красочную легенду о донском казаке Стеньке Разине, который прославился тем, что в конце 1660-х возглавил крестьянские восстания по всей Волге против царского правления. Согласно предварительным рекламным материалам Дранкова, это была «картина, подобно которой еще не было в кинематографическом репертуаре!»[27].
Описания кинокарьеры Дранкова обыкновенно сосредоточены на его личности, подчеркивают его вульгарность и отсутствие образования, предполагая, что его интерес к кинопроизводству был продиктован исключительно финансовыми соображениями. Очевидно, Дранков был прозорливым и конкурентоспособным бизнесменом, но не только: он обладал разными талантами и, говоря словами Александра Позднякова, был «человеком-оркестром»[28]. Начинал он с фотографии: открыл студию в Санкт-Петербурге, работал российским фотокорреспондентом для нескольких зарубежных газет, включая Times, London Illustrated News и L’ Illustration, находящуюся в Париже, а также являлся официальным фотографом Государственной Думы. Его первой работой в сфере кинематографа было составление программ с хроникой, а связь с игровым кино возникла, когда он, используя поддержанную камеру Pathé, занялся съемкой русских титров к французским фильмам, выходившим в российском прокате. Более того, к 1908 году у Дранкова имелся и непосредственный опыт съемок художественного кино. Он хоть и рекламировал «Стеньку Разина» как «первый» русский игровой фильм, но сам еще в 1907 году успел выпустить «Бориса Годунова» – экранизацию пушкинской трагедии 1831 года[29]. В том же году снимал он и театральную экранизацию романа Алексея Толстого 1862 года «Князь Серебряный».
Отчего Дранков отказался от своего предыдущего фильма в угоду «Стеньке Разину»? Отчасти, оно и ясно, он знал о маркетинговой ценности обозначения «первый фильм» и хотел им воспользоваться. И все же более существенное объяснение заключается в том, что «Стенька Разин» был фильмом куда более совершенным и сложным, чем «Борис Годунов». Побеспокоился этот проницательный бизнесмен и о своем месте в истории. Стремясь заработать как можно больше на своем фильме, Дранков в том числе был движим желанием создать долговечное произведение киноискусства. В преддверии выхода «Стеньки Разина» он заказал рекламные плакаты, на которых возвестил о серьезности своих художественных намерений:
Затратив громадные средства и массу труда и времени, я приложил все усилия к тому, чтобы настоящая картина, как в техническом выполнении, так и в самой обстановке пьесы и ее исполнителей, стояла на том высоком уровне, какой подобает ленте, делающей эру в нашем кинематографическом репертуаре[30].
О стремлении Дранкова к техническому и художественному совершенству свидетельствует и профессионализм привлеченных им сотрудников. И хотя о режиссере Владимире Ромашкове известно немного и, судя по всему, «Стенька Разин» остался единственным его фильмом, сценарист Василий Гончаров был важной творческой фигурой, впоследствии он и сам стал успешным режиссером и внес огромный вклад в русский кинематограф[31]. Николай Козловский, работавший с Дранковым в качестве второго оператора, был (как и Дранков) бывшим фотографом. Он тоже был серьезным художником и в дальнейшем работал с Евгением Бауэром, наиболее успешным русским режиссером. Филип Кавендиш в своем исследовании о дореволюционных кинооператорах описывает Козловского как «специалиста по хронике» и включает его в список самых «умных и утонченных» кинооператоров этого периода[32]. Актеры были профессиональными театральными артистами, что было нормой для ранней кинопромышленности. Наконец, музыкальное сопровождение Дранков поручил написать не кому-нибудь, а известному композитору и руководителю Московской консерватории Михаилу Ипполитову-Иванову[33].
Обилие художественных талантов и амбиций обеспечили «Стеньке Разину», говоря современным языком, исключительно «гладкое» производство, и когда фильм вышел, то моментально обрел коммерческий и зрительский успех. Зрители, привычные к французским картинам, которые преобладали на российском рынке со времен прибытия в Россию синематографа братьев Люмьер в 1896-м, были в восторге от «русскости» картины, от буйных пьянок персонажей и в особенности от использования двух популярных народных русских песен. Гончаров в своем сценарии вольно адаптировал события, пересказанные в песне «Из-за острова на стрежень», а Ипполитов-Иванов позаимствовал для музыкального аккомпанемента мелодию из «Вниз по матушке по Волге», песни, согласно рекламному материалу Дранкова, известной каждому русскому человеку и звучащей везде: «в концертах, бомонде и в бедной семье крестьянина»[34]. Джей Лейда пишет, что восторженные кинозрители подхватывали песню и подпевали прямо во время показа[35]. А советский кинорежиссер Николай Анощенко в своих мемуарах упоенно пишет о собственном опыте просмотра фильма в Москве в 1908-м, когда ему было всего тринадцать лет, утверждая, что и событие, и вдохновенный отклик зрителей на фильм были настолько сильны, что воспоминание о показе осталось с ним на всю жизнь[36].
Получил фильм признание и со стороны критиков. Журналист, писавший в газете «Сцена» 20 октября 1908 года, заявил, что фильм «делает эру» в истории русского кино, а рецензент в своей статье для той же газеты от 1 ноября 1908 года отрекомендовал: «Посмотрите хотя бы „Стеньку Разина“. Это еще, конечно, далеко не совершенная постановка, но и теперь картина дает зрителю очень и очень много»[37]. Рецензент же из «Вестника кинематографии в Санкт-Петербурге» расщедрился на самую высокую похвалу:
Из новинок за прошлую неделю отметим картину «Стенька Разин». В техническом отношении она исполнена прекрасно. Видно, что г. Дранков в совершенстве постиг дело фотографирования; жаль только, что лента коротка, – сюжета хватило бы на несколько сот метров. Прекрасно снят вид на Волгу и флотилию лодок с разбойниками; очень интересна картина в лесу, а также и последний момент…[38].
И все же более поздние отзывы о фильме оказались единогласны в низкой оценке его художественных качеств. Это касается и советских, и западных отзывов о фильме, написанных как до, так и после показа «Стеньки Разина» в Порденоне в 1989 году. Например, Эдуард Арнольди в своей статье к пятидесятой годовщине выхода фильма резюмирует все те многочисленные неудачи, которые, по его мнению, настигли пионеров кино: каждая из шести частей фильма снята одним планом и на одной локации; кинематографисты полагаются на титры, чтобы передать смысл происходящего; декорации и игра актеров «грубы и примитивны»; а из-за того, что актеры слишком много двигаются и расположены слишком далеко от камеры, их невозможно различить[39]. «Постановщики фильма оказались пошлыми спекулянтами», – заключает он[40]. Лейда также рассматривает фильм в первую очередь как источник обогащения, отмечая, что фильм оказался «успешным во всех отношениях – принес деньги и оставил зрителей с пустыми впечатлениями»[41]. В статье к восьмидесятой годовщине фильма Андрей Чернышев вторит критическим замечаниям Арнольди и заявляет, что этот, а на деле и все другие дореволюционные русские фильмы доказывают следующее: «В широком смысле мы правы, называя кино искусством, рожденным революцией»[42]. Даже Анощенко, сохранивший такие яркие воспоминания о просмотре картины мальчишкой, признается, что, когда показывал фильм своим студентам во ВГИКе, много лет спустя нашел «Стеньку» очаровательно наивным и неуклюжим, в чем его мнение совпало с мнением студентов[43].
На протяжении 1990-х западные исследователи все так же пренебрежительно относились к картине. Для Петера Кенеза это был «даже не фильм, а сборник картин… неуклюжий продукт, [в котором] современный зритель мог насладиться разве что изображениями сельской местности, и, возможно, его тронет факт сопричастности важному моменту в истории кино»[44]. Ричард Стайтс описывает фильм как «грубо сыгранный бешено жестикулирующими театральными актерами»[45]. Дениз Янгблад признает, что фильм рассказывает «достаточно хорошую историю», но сожалеет о ее «простом пересказе» и «невыразительной статичной камере» в фильме[46]. Александр Прохоров, хоть и настаивает, что не делает негативных оценочных суждений, все же проговаривается, что фильм нельзя отнести к разряду «искусств», когда приводит его в качестве первого случая коммерческого низкопробного кино, противопоставленного в современной России качественным художественным картинам[47].
Безусловно, некоторые из этих критических замечаний не лишены оснований. И все же, несмотря на то что «Стенька Разин» безыскусен даже по сравнению с русскими фильмами середины 1910-х, сделан он не так грубо, как то преподносят критики. Напротив, этот первый русский художественный фильм заслуживает быть рассмотренным как произведение исключительно кинематографического искусства. Два исследователя в своих относительно недавних текстах признают это, хотя и в разной степени. Так, Нея Зоркая утверждает, что несомненные недостатки фильма компенсируются изображением естественной среды. Она настаивает, что фильм должен быть рассмотрен как «поучительный» в том, как он подчеркивает способность нового медиума запечатлеть «органичную естественность» сельской местности и физического мира, его материалов и текстур[48]. Это приводит ее к выводу: «Первый фильм, таким образом, был и первым уроком киновыразительности»[49]. Юрий Цивьян подчеркивает, что многие явные ошибки в фильме вовсе не являются результатом некомпетентности или безразличия кинематографистов к новому средству, напротив, они появились из стремления Дранкова учиться, развивать свое операторское мастерство и в особенности отыскать способ обойти те многочисленные сложности, с которыми он столкнулся во время съемок «Бориса Годунова» в 1907 году[50]. Получается, Дранков не был халтурщиком, как о нем думали большинство исследователей. Скорее старательным, целеустремленным художником, который вместе с командой коллег-новаторов снял фильм «Стенька Разин», который был серьезной попыткой создать произведение киноискусства.
Персидская княжна: первая исполнительница русского кино
Поразительно, что внимание кинематографистов к специфике нового художественного средства особенно ярко проявляется в изображении единственного женского персонажа фильма, персидской княжны.
Оставленная без внимания в угоду заглавному персонажу, эта безымянная женщина – первая героиня русского кино и его первая исполнительница – подлинно кинематографическая в том, насколько ее изображение зависит от сугубо кинематографических средств.
Более того, несмотря на программное название фильма, именно княжна стоит в центре сюжета. Ведь этот фильм не совсем о Разине, по крайней мере не об исторической личности Разина[51]. Повествование не сосредотачивается на его подвигах или боевых успехах. В фильме рассказывается о страсти Разина к плененной женщине, о страсти, которую герой пытается забыть в пьяных кутежах и которая увлекает его настолько, что он забывает о своем долге возглавить восстание. Возмущенные таким поведением люди Разина подделывают письмо, в котором княжна выставлена предательницей. Убежденный в ее неверности и распаленный ревностью Разин бросает княжну в серые воды Волги, где она и тонет.
Таким образом, недавнее описание «Стеньки Разина» Евгением Добренко как «исторической мелодрамы» более уместно[52]. В соответствии с требованиями жанра «Стенька Разин» сфокусирован на обостренных эмоциях главных героев, при этом в фильме отчетливо прослеживается предпочтение психологизма и эмоций действию, а это, как показывает Цивьян, станет отличительной чертой ранних русских мелодрам 1910-х[53]. Жанровый анализ фильма Добренко уместен и по другой причине. Как отметила Луиза Макрейнольдс, мелодрама, как правило, «помещает действие в рамки современных социальных условий»[54]. Несмотря на исторический лоск, этот первый русский художественный фильм и в самом деле чрезвычайно показателен в том, что касается социопсихологических тревог, особенно гендерной тревоги, всколыхнувших русское общество начала XX века. Поэтому один из способов прочтения этого фильма – рассмотреть его как фильм об отношениях между мужчинами и женщинами, о природе гендерных ролей и состоянии гендерных отношений в России начала XX века.
Объективированная исполнительница: мизансцена, визуальное удовольствие и мужская фантазия
С самого начала сюжетные детали подчеркивают, что в киноповествовании «Стеньки Разина» персидская княжна имеет статус объекта, товара; захваченная во время стычек с персами и ставшая любовницей торжествующего Разина, она – военный трофей. Потому хозяин вправе грубо обходиться с княжной, и Разин по ходу фильма обращается с ней со все нарастающей жестокостью и заставляет подчиняться собственной воле. Подчеркивает ее незначительность и тот факт, что имя княжны не фигурирует ни в названии, ни в подзаголовке фильма, которые тем временем сосредоточены на мужских персонажах. Более того, поскольку альтернативное название «Из-за острова на стрежень», песни, на основе которой Гончаров создал сценарий фильма, – «Стенька Разин и княжна», исключение княжны из названия фильма видится преднамеренным.
Незначительность женского персонажа акцентирована и визуально: различными способами, которыми камера снимает ее, и тем, с какой внимательностью создатели фильма выстраивают мизансцену, то есть организуют движение и расположение героев в кадре. В отсутствие устного текста в 1910-х подробная проработка мизансцены была важным инструментом выразительности и ключевой техникой в бесконечных попытках отделить новый вид искусства от театра. Очень скоро режиссеры поняли, что этот прием по своей выразительности гораздо лучше подходит для кино, чем для театра: на театральной сцене расположение актеров продиктовано в том числе нуждой в обеспечении слышимости, которая в немом кино роли не играет, а значит, и расположение персонажей внутри кадра может быть более гибким. Кроме того, в кинозале все зрители, вне зависимости от рассадки относительно экрана, видят изображение под одним и тем же углом, а именно углом, заданным камерой, в то время как в театре вид сцены меняется в зависимости от места в зале. По этим причинам мизансцена была определяющей и в претензии раннего кинематографа на оригинальность, и в поисках киновыразительности[55].
Так, в открывающем эпизоде создатели фильма используют мизансцену, чтобы княжна была гарантированно вытеснена, маргинализирована камерой. В первые секунды этого эпизода, озаглавленного как «Разгул Стеньки Разина на Волге», в кадре не персонажи, чью гульбу мы ожидаем увидеть, а река, на которой те бражничают. Более того, с приближением лодок к камере княжна остается композиционно вытеснена из кадра: только ближе к концу эпизода она появляется, сидя на правом колене вожака, но и там – прямо у левой рамки кадра. Время от времени она и вовсе исчезает: отчасти это спровоцировано движением лодки по воде, а еще – нерешительными попытками оператора снять несколько горизонтальных панорам.
К 1908 году панорамирование уже широко использовалось в видовой и новостной хрониках, над которыми работали и Дранков, и Козловский, прежде чем приступить к игровым фильмам. Как отмечает Кавендиш, в раннем документальном кино панорамирование часто использовалось, чтобы подчеркнуть реальность места съемки. Так как панорамы исследуют и раскрывают то, что находится за рамкой кадра, они заставляют поверить, что и «актеры более не „узники“ кадра, показывая, что те обитают в „подлинном“ жизненном пространстве»[56]. Несомненно, в случае со «Стенькой Разиным» это было частью замысла, а еще создателям, вероятно, хотелось похвалиться количеством задействованных актеров, которых было так много, что они с трудом умещались в кадре разом[57]. Но нельзя не отметить, что панорамирование также работало на еще бо́льшую маргинализацию княжны, если не полное вытеснение за рамку кадра. Разин и княжна оказываются в центре и относительно близко к камере только в финальном, мимолетном фрагменте эпизода. Более того, та же визуально-пространственная маргинализация повторена и в начале следующего эпизода, озаглавленного как «Разгул в лесу»: княжна снова расположена прямо у левой рамки кадра и с самого края группы разбойников.
Тем не менее Цивьян утверждает, что в обоих эпизодах описанное кадрирование отражает не замысел создателей фильма, а неопытность оператора; маргинализацию княжны Цивьян видит как огрех, результат неосведомленности Дранкова и Козловского в работе камеры Pathé, которую они использовали для съемок[58]. У этих камер не было видоискателя, что усложняло кадрирование, ведь оператор не имел возможности увидеть, что именно он снимает. Бывшие фотографы, Дранков и Козловский были более привычны к камерам, которые позволяли видеть снимаемое изображение. И все же, возможно, Цивьян преувеличивает техническую неопытность операторов. В конце концов, к тому времени, как Дранков приступил к съемкам «Стеньки Разина» летом 1908-го, он пользовался камерой Pathé уже больше года: и когда снимал русские титры для французских лент, показанных в ряде петербургских кинотеатров, и во время съемок «Бориса Годунова».
Как бы то ни было, утверждение о том, что маргинализация княжны и ее исключение из кадра, вероятно, не были преднамеренными, вовсе не лишает ни ее расположение в кадре, ни способ кадрирования значимости или смысла вообще. В конечном счете «плохое кадрирование» всего-то вытесняло княжну из кадра больше, чем это планировалось изначально: будь кадрирование в этих эпизодах «лучше», она все равно находилась бы с края композиционной группы. Однако, рассуждая об эпизоде в лесу, Цивьян вновь утверждает, что создатели фильма набрели на средства киновыразительности по чистой случайности, поясняя, что Ромашков до работы над «Стенькой Разиным» имел театральный опыт и эпизоды фильма, вероятнее всего, разработал «по-театральному», поскольку на сцене «такое композиционно маргинальное положение героев не противоречит их значению в драме»[59].
Нельзя отрицать театральные корни сюжета фильма. Как указывает Зоркая, многое в нем напоминает традиционную русскую народную пьесу «Лодка», которую часто описывают как инсценировку народной песни «Вниз по матушке, по Волге»[60]. Однако «Стенька Разин» – не просто заснятый народный театр, это подчеркивает и Зоркая, описывая картину как «кинематографическую версию» «Лодки»[61]. То, как развивается сцена в лесу, действительно указывает на кинематографическую природу фильма. В этом эпизоде Разин приказывает княжне танцевать, и во время подготовки к исполнению она перемещается на передний план и к центру кадра. Создатели фильма, действительно, подчеркивают данную мизансцену, заставляя нескольких разбойников выйти вперед и расстелить на земле персидский ковер, создавая для княжны импровизированную сцену. Нарочитость этого действия захватывает и окончательно развеивает всякие сомнения: создатели фильма сознательно контролируют положение женщины в кадре. Явно «неуклюжее» кадрирование открывающего эпизода и начала эпизода в лесу лишь усиливают воздействие от тщательно скадрированного танца невольницы.
Ее расположение в центре обладает определенной экспрессией. С одной стороны, оно сигнализирует о том, что хоть княжна и жертва, но все же обладает существенной силой и весьма значима для сюжета. И в этом условность раннего кинематографа отличается от театральной. В отличие от ранней русской сцены, на экране главный герой практически всегда размещался в центре экрана. Это «правило» было сформулировано Цивьяном: «На немом экране… главный герой – тот, кто в центре и чья фигура крупнее»[62]. Потому, как отмечает Зоркая: «Это можно считать „кинематографической новацией“»[63]. Княжна здесь господствует над сборищем мужчин, над пространством экрана и кадра, равно как и над разумом Разина.
Одержимость Разина пленницей наделяет ее властью и неминуемо ослабляет самого атамана. Его слабость также обозначена пространственно. В первых двух эпизодах фильма Разин тоже смещен к самому краю кадра, скованный своим желанием быть рядом с княжной, вдали от центра экрана, в то время как там размещены преданные ему люди, которые символизируют дело, брошенное Разиным ради страсти. Показателен и тот факт, что на протяжении всей лесной сцены Разин остается композиционно маргинализированным. Он находится с краю кадра и во время, и после танца княжны, когда ее центральное положение в кадре перехватывает троица разинских мужиков, исполняющих свой национальный танец и тем самым подчеркивающих обособленность и инаковость женщины, а заодно и собственную сплоченность.
Однако, хотя танец невольницы и предполагает ее значение для повествования и ее власть над Разиным, он же, как ни парадоксально, намекает, что ее сила мнимая, а не подлинная. В этой связи полезно применить к «Стеньке Разину» предложенный Лаурой Малви в «Визуальном удовольствии и нарративном кинематографе» психоаналитический анализ того, как мейнстрим/классическое кино структурируется в соответствии с бессознательным патриархального общества, то есть в соответствии с мужскими фантазиями о вуайеризме и фетишизме[64].
В данном эссе Малви разработала концепцию контролирующего «мужского взгляда», чтобы объяснить, как мейнстрим поощряет зрителя, будь то мужчина или женщина, отождествлять свой взгляд со взглядом героя фильма и, таким образом, видеть героиню как пассивный объект эротического желания. Ровно это и происходит, когда княжна выходит вперед, чтобы станцевать. Пока длится танец, на переднем плане и в центре кадра женщина привлекает взгляды не только героев, которые составляют ее благодарную аудиторию внутри повествования, но и взгляды зрителей фильма. Более того, расположение княжны побуждает и их, и нас неотрывно наблюдать за ней, она выставлена на обозрение специально, чтобы все на нее смотрели. Говоря языком Малви, княжна заснята скопофильной камерой, согласно которой мужчина является зрителем, а женщина – «зрелищем». Малви использует термин «зрелище» для обозначения отношений объекта/субъекта, в которых (женский) объект взгляда – камеры или героя фильма – рассматривается как принадлежащий, контролируемый и определяемый (мужским) субъектом или «носителем взгляда». Как поясняет Малви, Фрейд ассоциировал скопофилию с «использованием других людей как объектов» и видел в ней активный источник удовольствия[65]. Согласно анализу Малви, в мире, «построенном на половом дисбалансе», удовольствие от рассматривания расщепляется «между активным/мужским и пассивным/женским», поскольку
конституирующий мужской взгляд проецирует свои фантазии на женскую фигуру, которая в соответствии с ними обретает свою форму. В обычных для себя эксгибиционистских ролях женщины одновременно рассматриваются и демонстрируются, их внешность кодируется для достижения интенсивного визуального и эротического воздействия. Можно сказать, что женские роли коннотируют бытие-под-взглядом (to-be-look-at-ness)[66].
Однако на репрезентацию актрисы как «зрелища» влияет не только ее расположение в кадре. Укрепляет ее «бытие-под-взглядом» и костюм. Ведь то, что видит зритель, когда княжна исполняет национальный танец, является продуктом мужской фантазии: изображение женщины как «Другой», структурированное в соответствии с общепринятым и узнаваемым представлением. Одетая в то, что для «западных» глаз является квинтэссенцией «восточного» наряда – шаровары и развевающиеся вуали, скроенные из одинаковой прозрачной ткани, – княжна с длинными, ниспадающими на спину темными волосами представляет собой манящее зрелище экзотической женственности для услады мужчин. Таким образом, она становится клише, карикатурой на типичную восточную женщину, которая в западной живописи XIX века представлена, как показал Эдвард Саид, в неизменной связи с танцем и, следовательно, с «безграничной чувственностью» и является «обычно существом властной мужской фантазии»[67]. Как мы увидим, подобно большинству западных концепций о Востоке, персидская княжна куда «меньше относится к Востоку… чем к „нашему“ миру»[68].
Смерть танцовщицы и мотивы убийцы: гомосоциальность и самосохранение
Исследовать подчинение женщин – значит исследовать и братство мужчин.
Кэрол Пейтон[69]
В своей крайне познавательной статье Зоркая исследует, как образ персидской княжны или, точнее, поступок Разина, утопившего княжну, преподносится в лубке, фольклоре и русской литературе XIX и начала XX века. Среди прочего она рассматривает, как меняется со временем толкование мотивов Разина[70],[71]. Она заключает, что с середины XIX века каждая последующая версия смерти княжны стремится истолковать убийство через «психологическое и часто достаточно сложное оправдание разинских зверских действ»[72]. И что же в таком случае предлагают нам в качестве мотивов разинского убийства создатели фильма и как они сообщают зрителю свою интерпретацию мотивов Разина?
Зоркая демонстрирует, что пересказы легенды, созданные в первые годы XX века, как правило, уделяют повышенное внимание ее социополитическому измерению, подчеркивая статус Разина как лидера восстания[73]. На первый взгляд, «Стенька Разин» Дранкова соответствует этой обобщенной тенденции, и социополитическое прочтение действительно предзадано его общим историко-мелодраматическим срезом. Как и подобает мелодраме, в основе сюжета лежит череда любовных треугольников. Однако необычно, что главные треугольники основаны вовсе не на эротическом соперничестве; так, один треугольник вовлекает в конфликт Разина, персидскую княжну и Родину, во имя которой всегда сражался Разин и которую символизирует матушка Волга. Если невольница символизирует личное разинское удовлетворение, то река олицетворяет его самопожертвование во имя общественного долга. Конфликт между двумя этими женскими фигурами становится явным в финальном эпизоде, когда титры воспроизводят речь Разина перед тем, как тот бросает княжну в реку: «Волга-матушка, ты меня поила, кормила, на своих волнах укачивала, прими мой дорогой подарок». Впрочем, еще в самом начале фильма Волга опознается визуально (то есть кинематографически) как наиболее важная фигура в этом треугольнике: вспомним, что открывающий эпизод начинается с продолжительного общего плана, на котором лодки первые секунд двадцать пять из полутора минут всего эпизода задвинуты на задний план и едва различимы в раздольных водах реки. Фильм не раз критиковали за «неуклюжесть» его «чрезмерно долгих» общих планов, но этот кажущийся «недочет» можно интерпретировать как намеренный выразительный прием, особенно если рассматривать его в свете четкого мизансценирования последующих эпизодов. Практически целиком исключая героев из кадра, авторам удается ввести в повествование и задать характеристики Волги и Родины, которую та репрезентирует. Река, таким образом, затмевает и лодки, и плывущих в них крошечных людей, подчеркивая тем самым и их сравнительную незначительность. Другими словами, река захватывает экран, следовательно, и зрительское внимание, так же – и примерно на тот же промежуток времени – захватит в следующем эпизоде экран, танцуя, и княжна.
И все же, чтобы добраться до социополитического прочтения фильма, придется пройтись детально по тому, что именно сподвигло Разина на убийство княжны. Чтобы учесть все эти важные факторы, зритель вынужден обратиться к другому треугольнику, к тому, что возникает между Разиным, княжной и разбойниками. И снова баланс сил получает визуальное отображение. Разин с княжной неизменно вынесены на край кадра, в то время как разбойники властвуют внутри: и за счет своего расположения в центре и/или на переднем плане, и за счет своего количества (вспомним, как в сцене в лесу трое разбойников сменили княжну на восточном ковре и исполнили свой национальный танец). Разумеется, в характере отношений с Разиным и в своей обеспокоенности тем, что Разин пренебрегает долгом, забавляясь с княжной, разбойники тоже связаны с Родиной. Однако их стремление вырвать своего лидера из лап этой женщины вызвано в том числе и страхом перед тем, что ее присутствие разрушит их мужское братство. Воодушевляющая речь главаря подчеркивает, что заговор разбойников мотивирован не только чувством общественного долга, но и сильным личным переживанием, что их лидер/отец покинул их, а их место отняла княжна[74].
Следовательно, власть женственности/сексуальности княжны над Разиным неминуемо оказывается губительна для нее самой. Персиянка угрожает мужскому образу жизни, отвлекая атамана от обязанностей главаря разбойников. И их ответ в контексте кинопроизводства начала XX века, времени глубинных социальных перемен в России, вполне предсказуем и отражает страх общества перед женщиной, представляющей угрозу все более нестабильному патриархальному укладу. Именно за тем, чтобы усмирить силы этой «чаровницы» и свести на нет опасность, которую она собой представляет, разбойники и замышляют ее гибель.
В фильме отчетливо показана и другая тревога, на которой и сыграют разбойники: личный разинский страх перед тем, что эта красивая женщина может – своей неверностью – унизить и демаскулинизировать его. Эта боязнь, действительно, обнаруживается в Разине еще до того, как разбойники показывают ему поддельное письмо. Четвертая часть фильма предваряется заглавием «Ревность заговорила» и изображает атамана, одолеваемого подозрениями, который мучает княжну вопросами о ее чувствах к нему – жестокость его эмоций очевидна уже по тому, как он бросает женщину на землю. Итак, когда люди Разина подтверждают измышленные преступления наложницы своим поддельным письмом[75], на бессознательном уровне вскрывается проблема ее женственности/сексуальности. По Малви, женский персонаж, пусть и заданный как пассивное зрелище, по сути, все же остается проблематичной и даже опасной фигурой:
Проблема женского персонажа приобретает более глубокое измерение в терминах психоанализа. Фигура героини несет в себе нечто, к чему прикован взгляд, который, тем не менее, не хочет этого признать, – а именно отсутствие у женщины пениса, предполагающее угрозу кастрации, а следовательно, и неудовольствия. <…> Таким образом, женщина в качестве визуального знака, демонстрируемого для рассматривания и удовольствия мужчины, активного распорядителя взгляда, всегда таит опасность вызвать то глубинное беспокойство, к которому этот знак изначально отсылает[76].
Для мужского бессознательного Малви выделяет «два стратегических пути избежать этого кастрационного беспокойства». Иначе говоря, два способа, при помощи которых зритель может быть уверен в сохранности собственного удовольствия на протяжении всего фильма. Первый она обозначает как «садистский вуайеризм», при котором удовольствие гарантировано за счет повествования в целом и развязки фильма, для мужского персонажа, как правило, заключающиеся в «удостоверении вины (непосредственно связываемой с кастрацией), установлении контроля над субъектом вины и осуществлении над ним правосудия посредством [sic] наказания или помилования»[77].
Другими словами, удовольствие «зависит от способности породить некоторые события, вызвать изменения в другом человеке, от борьбы воли и силы, от победы/поражения»[78]. Второй стратегический путь, который она обозначает как «фетишистскую скопофилию», гарантирует удовольствие за счет превращения представленной женщины в фетиш, чтобы та сообщала «чувство уверенности, а не опасности»; конструируется физическая красота объекта, которая превращает его в нечто «удовлетворяющее само по себе»[79]. Возможно, то, что создатели фильма предпочли первую стратегию второй, и задает глубину беспокойства, которое испытывали русские мужчины в начале XX века.
При прочтении фильма в контексте гендерной проблематики того времени важно и то, что ни убийственный план разбойников, ни тревожность Разина в связи с неверностью княжны не упомянуты в тексте песни «Из-за острова на стрежень». Эти психосексуальные проблемы были изобретены Гончаровым для его сценария и действительно были характерны для своего времени[80]. Как показала Зоркая, явный эротический подтекст появился в описании княжны (и, стало быть, начал объяснять ее власть над Разиным) еще в 1890-е, но только в начале XX века эротический элемент сюжета вышел на первый план[81]. Показательно, что Марина Цветаева в своем поэтическом триптихе 1917 года, озаглавленном «Стенька Разин», интерпретировала убийство Разиным персидской княжны аналогичным образом – как вызванное его желанием отомстить за отсутствие у нее сексуального влечения к нему. Во втором стихотворении триптиха Разин, называя себя «вечным рабом» княжны, просит ее лечь поближе, и княжна встречает его просьбу с равнодушием и тихим вздохом о своем восточном возлюбленном Джаль-Эддине[82]. Следующий куплет лишь подтверждает, что в интерпретации легенды Цветаевой решение Разина убить княжну напрямую связано с тем, что она его отвергла:
- – Не поладила ты с нашею постелью,
- Так поладь, собака, с нашею купелью![83]
Как формулирует Зоркая: «Цветаева вводит нюанс какой-то мужской неудачи-недостачи атамана, его уязвленности (комплекса неполноценности)»[84]. Можно отыскать эти нюансы и в дранковской киноверсии легенды.
От фантазийного образа к роковой женщине: персидская княжна и «саломания»
Молодой сириец. Как красива царевна Саломея сегодня вечером!
Паж Иродиады. Ты постоянно смотришь на нее. Ты слишком много смотришь на нее. Не надо так смотреть на людей. Может случиться несчастье.
Молодой сириец. Она очень красива сегодня вечером.
Оскар Уайльд. Саломея, 1893[85]
Знаменателен и тот факт, что ни в одной из прежних версий судьбоносной встречи княжны с Разиным, включая и песню, по которой был написан сценарий фильма, она не была танцовщицей – эту роль придумали для нее создатели фильма. Заставляя свою восточную героиню танцевать для услады Разина, авторы умудрились добавить еще один, вполне конкретный, «мифологический» слой своему емкому женскому персонажу. Танец наложницы отчетливо отсылает к другой восточной царевне, которая была к тому же в большой моде в России первого десятилетия XX века, – это Саломея, дочь Иродиады, которая, по легенде, танцевала для одного мужчины, что повлекло гибель другого.
Остались многочисленные свидетельства беспрецедентной увлеченности так называемой саломеевской тематикой, которая проявилась во всех формах европейского искусства где-то в 1860-м и оставалась центральным художественным интересом, если не одержимостью, и во втором десятилетии XX века[86]. Каждое новое художественное воплощение Саломеи вдохновляло последующее, и эти взаимосвязанные произведения искусства стали настолько многочисленны, что сегодня принято рассматривать их вместе как единый «культурный текст» того периода. Исследователи неизменно отмечают, что саломеевская тема волновала в основном мужчин-художников рубежа веков, соглашаются они и в том, что такой интерес можно объяснить как возникшим резонансом и востребованностью мифа в связи с модной «декадентской одержимостью убийством, инцестом, женской сексуальностью и загадочным Востоком»[87], так и социопсихологическими страхами о смене гендерных ролей и изменении гендерных отношений. Как пишет Лоуренс Крамер:
В целом, это помешательство на Саломее, как и наука, и медицина того времени, стремилось узаконить новые формы контроля мужчин над телами и поведением женщин. <…> Как обычно поясняется в современных исследованиях, Саломея своей статью или, скорее, танцем недвусмысленно персонифицирует патриархальные страхи перед женской сексуальностью, страхи настолько разрушительные, что они навязчиво разыгрываются в сценарии о фетишизме и кастрации. <…> Вполне очевидно, что помешательство на Саломее представляло собой попытку нормализовать средствами эстетического удовольствия повальный мужской невроз, который сочетал сексуальную потенцию с отвращением и ужасом перед женщинами.
Таким образом, заключает Крамер, Саломея предстала «кастрирующей роковой женщиной… монструозной иконой сексуальности и фокальной точкой в изображении целого ряда колебаний, порожденных гендерной системой конца века»[88].
В России начала XX века, возможно, наибольшее влияние на образ Саломеи оказала пьеса Оскара Уайльда «Саломея» 1891 года. Среди русских символистов и декадентов существовал культ Уайльда: в 1904-м поэт Константин Бальмонт опубликовал свой перевод уайльдовской «Саломеи», к 1908-му вышло еще пять переводов пьесы. Уайльд изобразил Саломею, как никто и никогда не изображал ее прежде. Он наделил ее новыми чертами, которые позднее были подхвачены и разработаны художниками: во-первых, это была идея о том, что сама Саломея, а вовсе не ее мать, Иродиада, просила Ирода наградить ее за танец головой Иоанна Крестителя; во-вторых, предположение, что Саломея поступила так из-за того, что Иоанн – или Иоканаан, как именует его Уайльд, – отверг ее; в-третьих, название и, следовательно, характер танца Саломеи[89]; в-четвертых, Уайльд добавил убийство Саломеи Иродом; наконец, через иератические повторы Пажа его пророческих предостережений, обращенных к Молодому сирийцу – и приведенных в начале этого раздела, – с тем, что тот не должен смотреть на Саломею, Уайльд вынес идею о том, что сам акт созерцания красивой, «непокрытой», откровенно сексуальной женщины опасен[90].
С апреля 1907-го по ноябрь 1908-го в российских столицах трижды пытались ставить уайльдовскую «Саломею». В апреле 1907-го заявку Владимира Немировича-Данченко, сооснователя Московского Художественного театра, отклонил цензор. Однако в начале октября 1908-го Николай Евреинов, режиссер петербуржской театральной труппы Веры Комиссаржевской, известный современникам как «русский Оскар Уайльд», получил разрешение на начало репетиций пьесы Уайльда. В это же время организует еще одну постановку «Саломеи» Ида Рубинштейн, богатая и амбициозная молодая женщина, которая в будущем прославится как танцовщица в «Русских сезонах» Сергея Дягилева[91]. Обе намеченные постановки были запрещены Русской православной церковью прежде, чем удалось представить их широкой публике. Однако Рубинштейн не оставляла идеи воплотить Саломею на сцене. 3 ноября 1908 года на закрытом показе в Михайловском театре в Санкт-Петербурге она представила пьесу в виде пантомимы. А свой «Танец семи покрывал», или «Танец Саломеи», превратила в самостоятельный номер, исполнив его в Санкт-Петербургской консерватории 20 декабря 1908 года.
И хотя изначально рубинштейновскую версию танца Саломеи поставил Михаил Фокин, когда Рубинштейн отделила свой танец от пьесы Уайльда и сделала ее самостоятельным номером, она встала в один ряд с растущим числом европейских и североамериканских танцовщиц, в чьих репертуарах присутствовал танец Саломеи, который они поставили сами. Впервые сольно исполнила фрагмент с танцем Саломеи Лои Фуллер в марте 1896 года. Правда, принят он был прохладно, и только после выхода оперы «Саломея» Рихарда Штрауса – премьера состоялась 5 декабря 1905 года в Дрездене, – либретто которой было основано на немецком переводе пьесы Уайльда, «саломания» началась всерьез[92]. В последующие годы Саломея появлялась на сценах мюзик-холлов по всей Европе и Северной Америке. Экзотическая танцовщица Рут Сен-Дени и танцовщицы-куртизанки Мата Хари и Прекрасная Отеро выступали каждая со своей версией танца, а в ноябре 1907-го Фуллер представила второй танец Саломеи под названием «Трагедия Саломеи». Однако присвоила себе танец Саломеи уроженка Канады Мод Алан. Танцовщица-самоучка, начавшая выступать в 1903-м, Аллан дебютировала как Саломея в Карл-театре в Вене 26 декабря 1906 года. Двадцатиминутный танец под названием «Видения Саломеи» принес Аллан состояние и международную славу. В 1906-м она была увековечена в этой роли немецким художником Францем фон Штуком, пригласившим ее позировать для картины «Саломея». Между 1906-м и 1909-м она гастролировала со своим танцем по всему миру: от Парижа до Праги, Будапешта, Лейпцига и, по приглашению короля Эдуарда VII, в Лондон, а оттуда, в конце 1909-го, – в Северную Америку и Россию.
Почему так много танцовщиц начала XX века обратились к образу этой классической роковой женщины? Джейн Маркус видит в танце Саломеи способ выразить себя для новой женщины; чем-то подобным была и тарантелла, исполненная Норой в «Кукольном доме», пьесе Генрика Ибсена 1879 года; обе героини, отмечает Маркус, «неохотно идут на ритуальное повиновение своим хозяевам, но в конечном итоге предпочитают акт унижения полному отсутствию самовыражения»[93]. Тони Бентли предполагает, что для женщин начала XX века этот танец представлял беспрецедентную форму освобождения:
Великий парадокс покрывала – того, что скрывает, но и приглашает к откровению, – играет решающую роль в значении танца Саломеи. <…> Саломея Уайльда разоблачается в вызывающем действе воли, движимом не другими, но ее собственным желанием. Именно в ее танце спадают покровы таинств – таинства целомудрия, брака, траура, пола, гарема. Саломея прорывается сквозь навязанные мужчинами законы, которые пытаются скрыть женский объект желания. Она автономна, и ее танец – глубокая брешь в покрове таинств[94].
Более того, хотя Уайльд дал танцу Саломеи название, он не описал его, не прописал детали. Сценическая ремарка, предваряющая танец, незатейливо гласит: «Саломея танцует танец семи покрывал». Посему и конкретная интерпретация танца оставалась за исполнительницей, поощренной к импровизации. Несомненно, именно эта свобода художественного решения сделала фигуру Саломеи и ее танец столь популярными. В самом деле, при явной схожести костюмов, в которые облачались танцовщицы-Саломеи в начале XX века, поразительно, насколько отличались исполнительские трактовки истории Саломеи[95]. Таким образом, Саломея позволила женщинам-исполнительницам быть авторами своих танцев, а ее история стала идеальным средством для исследования напряженности, возникшей из таких спорных вопросов своего времени, как женская автономия, женская власть, женская сексуальность и женское желание. Потому и воплощение образа Саломеи на сцене стало мощным высказыванием как об осознании женщинами собственной власти, так и об их неповиновении патриархату, который стремился лишить их права на использование этой власти. Другими словами, повальное увлечение Саломеей позволило женщинам начала XX века драматически артикулировать для себя и для своей аудитории собственное стремление к эмансипации в различных областях[96].
Непохоже, что Дранков и его коллеги-кинематографисты не знали об этих исполнительницах и помешательстве на Саломее. Можно даже заподозрить, что Арнольди намекает на связь между их персидской княжной и танцовщицей-Саломеей, когда отмечает, что в «Стеньке Разине» «княжна танцует „персидский национальный танец“ (в манере кафешантанной сцены!)». Впрочем, так как намерение Арнольди – умалить значение танца, он эту мысль не развивает. Повлияли реальные танцовщицы-Саломеи на Дранкова и его команду напрямую или нет, как бы то ни было, таковым был культурный фон, на котором их саломеяподобная персидская рабыня предстала на российском экране. Волей-неволей закрепились за ней и богатые аллюзиями ассоциации как с образом Саломеи, так и с танцовщицами-Саломеями начала XX века. Посему и неудивительно, что персидской княжне, как и уайльдовской Саломее до нее, пришлось умереть.
В итоге в «Стеньке Разине» все хорошо, что хорошо кончается. Гомосоциальные узы Разина и его товарищей оказываются более крепкими, чем его эфемерное эротическое влечение к персидской княжне. Так, в финальном эпизоде фильма великий лидер освобождается от препятствия в виде женщины, ставя мужскую солидарность – определяющую черту патриархата – выше любовной страсти. Поступая так, он устраняет и угрозу оказаться уязвимым перед этой красивой и откровенно сексуальной женщиной. Следовательно, стоит княжне сгинуть в серых водах Волги – патриархальный статус-кво восстановлен, и мужская потенция Разина остается нетронутой. Через вуайеристский и садистический контроль над княжной наш герой утверждает позицию хозяина как за собой, так и, опосредованно, за (мужским) зрителем. Как и следовало ожидать, о двух этих фактах создатели фильма сигнализируют позицией Разина в кадре: на протяжении финального эпизода фильма он наконец занимает свое законное место (примерно) в центре кадра и на (относительно) переднем плане. Показательно и то, что рекламные киноафиши того времени выделяли этот триумфальный финальный эпизод на фоне всех остальных[97].
Реакция зрителя: триумф или трагедия?
Пожалуй, нет причин сомневаться в том, что публика того времени воспринимала смерть княжны с ликованием чаще, чем со слезами. И вправду, легко представить восторг зрителей по поводу ее гибели, ведь в финале фильма все несет в себе ощущение триумфа: опасность предотвращена, порядок взял верх над хаосом, русские граждане одолели незваного иностранца, мужские гордость и солидарность восстановлены. Однако если перевернуть красноречивое высказывание Кэрол Пейтман, приведенное в начале предыдущего раздела главы, то получится, что исследовать братство мужчин – значит также исследовать и подчинение женщин, а это неминуемо поднимает вопрос о том, реагировали ли разные зрители фильма на его финал по-разному? В частности, что думала о развязке фильма его современница? Женщина того времени видела в смерти княжны триумф или трагедию? Отождествляла ли она себя, как и мужская часть зрителей, с идеалом мужского эго, Разиным, и, следовательно, аплодировала ли смерти княжны вместе с героями фильма и, вероятно, мужчинами-зрителями? Или же финал фильма оставлял женщину с ощущением отчуждения, даже угрозы?
И хотя на эти вопросы, разумеется, невозможно ответить однозначно, можно предположить ответ в теории, опять же опираясь на анализ Малви того, как работает мейнстримное кино. Наиболее частым из множества возражений против теории Малви о «мужском взгляде» является то, что она игнорирует опыт женщины-зрителя[98]. И вот в 1981-м Малви ответила на эти возражения[99]. И вновь опираясь на идеи Фрейда – на этот раз о существовании доэдиповой «фаллической фазы» у девочек (связанной с активностью), которая позже оказывается поддавленной вместе с развитием «женственности», – Малви утверждает, что женщина-зритель способна ставить себя на место мужчины и, более того, активно наслаждается такой возможностью. Как отмечает Фрейд, многие женщины на протяжении жизни возвращаются к этой фаллической фазе, в результате чего их поведение чередуется между «пассивной» женственностью и регрессивной маскулинностью. Малви утверждает, что зрительница может временно принимать «маскулинизацию», то есть отождествлять себя с активной мужской позицией, в память о своей активной фазе. Так, по Малви, эффект объективации персидской княжны необходим, чтобы заставить зрительниц временно маскулинизироваться и, следовательно, отождествиться с идеалом мужского эго в лице Разина[100].
Таким образом, о «Стеньке Разине» Дранкова мы можем заключить то же, что и Малви о фильмах классического Голливуда 1930-х, 40-х и 50-х годов, и утверждать, что «магия» этого первого русского игрового фильма во многом возникла «из его превосходной способности манипулировать визуальным наслаждением» и из того, как «фильм кодировал эротическое на языке господствующего патриархального порядка»[101]. В этом фильме мужская точка зрения преобладает в ведении нарратива, а женская – игнорируется или, по крайней мере, подавляется. Можно сказать, что репрезентация создателями фильма своей главной героини, таким образом, отражает бессознательное господствующего патриархата начала XX века в России. Они не стремятся бросить вызов ни традиционным представлениям о женственности, ни гендерным ролям. В «Стеньке Разине» сила саломеяподобной персидской княжны, которую та обретает танцуя, оказывается не более чем силой красивого объекта, способного заворожить и пленить. Она не сообщает княжне ни агентности, ни контроля над ее судьбой. Посему подобно бесчисленным Саломеям и персидским княжнам до нее она – первая исполнительница в русском кино – остается «существом легендарным… отвечающим мужским идеям, желаниям и страхам об эротичной женщине»[102].
Глава 2. Крестьянка и воспитанница боярина
Как и «Стенька Разин», многие ранние русские фильмы снимались в сельской местности; соответственно, и их главные герои зачастую изображались крестьянами, а фигура красивой молодой крестьянки часто становилась центральной. Фильм Дранкова послужил образцом для изображения крестьянской девушки, и в годы, последовавшие за 1908-м, как это было и в «Стеньке Разине», очарование крестьянки неизменно передавалось при помощи танца. Призванная развлекать любительскими танцами публику, в основном, если не целиком, состоявшую из зрителей-мужчин, крестьянка, как и персидская княжна, неоднократно выступала в роли естественной исполнительницы. Вдобавок эти выступления использовались в тех же целях, что и в «Стеньке Разине»: для репрезентации женщин, которые, как правило, были более низкого социального класса, чем мужчины, наблюдавшие за их танцем, в качестве доступных объектов скопофильного и сексуального желаний. Так, в «Ваньке-ключнике» (1909) Василия Гончарова фигурирует группа танцующих крестьянских девушек и служанок: они не появляются в тексте песни, по которой написан сценарий, и их единственная функция в фильме – дать возможность создателям картины подсветить распутство старого князя и его пьяного друга-дворянина. В двух из четырех картин фильма показано, что мужчины настолько разгорячены танцем, что им трудно удержаться от прикосновения к женщинам. То же и в фильме «Ухарь-купец» (1909), который приписывается разным режиссерам: Гончарову, Каю Ганзену, Морису Гашу и Михаилу Новикову. Купец по имени Ухарь настолько поражен красотой молодой крестьянки, которую, так уж вышло, он видит танцующей, что он уговаривает пьяного отца девушки продать ему дочь.
При всем сходстве между «Стенькой Разиным» и этими фильмами все же есть важные различия, которые не в последнюю очередь касаются того, какую позицию занимают создатели фильма по отношению к своим героям. В «Стеньке Разине» авторы однозначно соотносили себя с мужским взглядом и мужской позицией в ведении нарратива и различными способами поощряли своих зрителей к тому же. Зато и в «Ваньке-ключнике», и в «Ухаре-купце» мужские герои представлены в равно негативном ключе – как отвратительные сексуальные хищники. Это, правда, не значит, что фильмы исследуют или даже выдвигают на передний план женскую точку зрения, ибо танцующие в этих фильмах женщины хоть и показаны жертвами патриархальных представлений, но на протяжении всего повествования остаются не более чем удобным средством для характеристики мужчин. А режиссеры, похоже, не были заинтересованы ни в изображении событий с женской точки зрения, ни в исследовании женской психологии.
Более того, отдельные ранние русские фильмы продолжали использовать троп с танцем, чтобы изобразить свою героиню как опасную роковую женщину, которая представляют серьезную угрозу благополучию любого из мужчин, достаточно глупого, чтобы связаться с ней. Взять, к примеру, «Русалку» (1910) Гончарова. Основанная на одноименной драме Пушкина 1829–1832 годов, которая, в свою очередь, была создана по мотивам традиционной русской сказки, «Русалка» повествует о крестьянке, соблазненной князем. Спустя какое-то время князь устает от романа и намеревается вступить в брак с женщиной своего класса. Он пытается расплатиться со своей возлюбленной и ее отцом, бедным мельником, ценными украшениями, но опустошенная девушка отказывается от покоя и утешения, бросается в реку и тонет. Правда, почти сразу она возвращается в виде призрака и неустанно преследует князя, являясь и на свадебном пиру, и в его ночных покоях в брачную ночь. Проходит восемь лет, но князю никак не позабыть крестьянку. Доведенный до нервного истощения ее мстительным и неумолимым духом, он бежит на мельницу, где жила девушка. Там он встречает сначала ее отца, обезумевшего из-за безвременной кончины дочери, а потом и саму девушку. Вся в летящих тканях и с цветами в волосах, она превратилась в русалку. Вместе со своими подругами героиня танцует перед князем и тем самым заманивает его в воду. Незаурядная финальная сцена изображает мертвого князя, лежащего на дне реки и навеки воссоединенного со своей торжествующей возлюбленной-крестьянкой, которая (под одобрительными взглядами других русалок) нежно гладит его волосы.
Ольга: танец и желание
Любишь ли ты пляску!.. А у меня есть девочка – чудо… а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич…
Михаил Лермонтов. Вадим, 1832–1834[103]
Ольга тешит плясками пьяного гостя.
Титр из восстановленной версии «Вадима» П. Чардынина
Как мы наблюдали в первой главе, тенденция мужчин обращаться с танцовщицей как с пассивным объектом скопофильного удовольствия, фантазии и желания, нашла свое кинематографическое выражение в первом русском игровом фильме «Стенька Разин». О том, насколько мощной оказалась сцена с танцем персидской княжны и насколько значительным и эффективным такое средство киновыразительности, как мизансцена, свидетельствует небольшая сцена в фильме, вышедшем через два года после «Стеньки Разина». Речь идет о «Вадиме» Петра Чардынина, созданном на студии Ханжонкова, где Гончаров – автор сценария «Стеньки Разина» – в то время работал.
Картина Чардынина, как и одноименный роман Михаила Лермонтова, по которому был написан ее сценарий, фокусируется на попытках главного героя отомстить за своего отца, мелкого помещика, который много лет назад был разорен могущественным помещиком Палицыным, из-за чего и умер. Дабы избежать наказания за свои действия, Палицын взял под опеку трехлетнюю сестру Вадима Ольгу, которая, будучи уже взрослой молодой женщиной, все еще не знает, что это Палицын сгубил ее родную семью.
На этом моменте и начинается действие фильма. В 1910-м обозреватель журнала «Сине-фоно» пишет: «Прошли годы; из малютки Ольги выросла настоящая красавица, и Палицын, теперь уже на склоне лет, втайне готовил ее для постыдных удовольствий»[104]. Из-за того, что фильм сохранился без титров, невозможно сказать, было это намерение передано зрителю устно, через титр или не было вовсе. Но уж точно ясно, что, даже будь это титр в картине, он был бы излишним, настолько наглядно передано гнусное намерение Палицына по отношению к Ольге в одной из крайне выразительных сцен: ближе к началу фильма, где Ольга, как некогда дранковская персидская княжна, выступает в роли вынужденной танцовщицы перед группой пьяных мужчин. Во время возлияний с другом Палицын отсылает жену, чтобы та позвала Ольгу танцевать. В следующей сцене, которая происходит в спальне Ольги, боярская жена грубо поднимает Ольгу с постели и приказывает ей переодеться и приготовиться к выступлению. Очевидно, это регулярное явление в доме Палицына. Ольга неохотно начинает одеваться, камера возвращается в гостиную, где Палицын с гостем по-прежнему пьют. Когда его жена приводит музыкантов в комнату, Ольга входит с левой стороны кадра. Она кланяется Палицыну и его гостю и начинает танцевать, двигаясь от края кадра к центру, где тоже выступает на «ковре-сцене».
Зритель, как и мужчины, снова оказывается в позиции наблюдателя, пока молодая женщина представляет собой «зрелище». Оба явно сражены девушкой, и, пока Ольга танцует, гость Палицына больше не может сдерживаться: он встает с места, подходит к Ольге и грубо пытается ее поцеловать. Показательно, что в лермонтовском оригинале эта деталь отсутствует: от Ольги в романе требуется терпеть только мужские «пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести»[105]. Когда в фильме Ольга отталкивает гостя и в смятении бежит к себе в комнату, жена думает только о том, чтобы просить прощения у гостя. Палицын, также взбудораженный танцем Ольги, следует за ней в ее комнату и пытается взять девушку силой. Только когда входит жена и застает Палицына врасплох, он останавливается. Она грозит кулаком Ольге, которую, очевидно, считает виновной в поведении своего мужа, и выпроваживает мужа из комнаты. И все же по ходу чардынинского фильма Ольга оказывается более удачливой, чем персидская княжна. Она находит счастье в любви с мужчиной своего возраста, сыном Палицына Юрием, и фильм нехарактерно заканчивается тем, что молодая пара намеревается жить долго и счастливо[106].
И хотя очень разные судьбы дранковской персидской княжны и чардынинской Ольги, несомненно, намечают сдвиг в сторону женской точки зрения, которая (согласно Мириам Хансен) отличает раннее русское кино от ранних кинематографий других стран[107], все же более существенным для данной дискуссии является тот факт, что Чардынин использует те же кинематографические приемы, что и Дранков. Причем ровно по тем же причинам – чтобы сосредоточить внимание зрителя на молодой героине, охарактеризовать ее как объект (мужского) желания и вместе с этим показать и власть, которой она обладает, и сопутствующую парадоксальную уязвимость.
Более того, не исключено, что танцевальная сцена из более раннего «Стеньки Разина» и вдохновила Чардынина на разработку этой сцены. Вхождение Чардынина в русскую кинопромышленность началось с поступления на московскую студию Ханжонкова в качестве актера в 1908 году. В 1909-м он начал работать на Ханжонкова как режиссер, там и оставался, пока в начале 1916-го не перешел к конкурирующей продюсерской компании Дмитрия Харитонова. По ходу своей карьеры Чардынин приобрел репутацию плодовитого режиссера, чьи фильмы неизменно пользовались огромной популярностью у зрителей. При этом художественного признания, которое получили другие авторы раннего кино, такие как Евгений Бауэр и Яков Протазанов, Чардынин так и не добился. Верно, не будет преувеличением сказать, что если Бауэр считался большим новатором, то Чардынин был его большим имитатором. В своих мемуарах Ханжонков называет его, пусть и несправедливо, «человеком без выдумки»[108], а критики отмечали – и, надо сказать, не всегда в негативном ключе – его склонность из фильма в фильм переносить, лишь с небольшими изменениями, одни и те же формулы. Это могут быть темы, типы персонажей, декорации, сюжетные коллизии или даже костюмы, которые имели успех в предыдущих картинах, причем как его собственных, так и сделанных другими режиссерами. Невозможно отрицать, что сцена с танцем чардынинской Ольги имеет поразительное сходство с выступлением персидской княжны в «Стеньке Разине». В самом деле, между двумя этими эпизодами существует всего одно существенное различие: сцена из «Стеньки Разина» снята на натуре, Чардынин же переносит танец Ольги в интерьер. Большинство рецензентов того времени отмечали умелое и практически повсеместное использование натурных съемок в «Вадиме»[109], интерьерная съемка обособила сцену с танцем от всего остального фильма. Поместив выступление Ольги в помещение, Чардынин добавил к нему оттенок стилизации, «постановочности», словно акцентировав, что к 1910-му выступление стало признанной «единицей кинопостановки». Вероятно, это объясняет, почему тексты того времени все как один игнорировали танец, описывая достоинства фильма: в первые годы русского кинопроизводства рецензенты, как правило, уделяли внимание тому, что считалось новаторским. В итоге показное заимствование Чардыниным многих деталей сцены с танцем персидской княжны, вероятно, является самым ярким показателем того, что создатели первого русского игрового фильма заслуживают звания кинематографических художников, а сама полоненная персиянка может претендовать не только на звание первой танцовщицы в русском кино, но и его первой, истинно кинематографической героини.
Луша: танец, инцест, самоубийство
Образ танцующей крестьянки вновь появится два года спустя в необычном фильме, который заслуживает куда большей известности[110]. Как следует из красноречивого названия, «Снохач» (1912)[111] рассказывает шокирующую историю. Луша, молодая крестьянка, замужем за безвольным пьяницей Иваном (в исполнении будущего короля экрана Ивана Мозжухина). Жизнь Луши только ухудшается, когда ее красота привлекла внимание свекра. Как и следовало ожидать, все решительные попытки Луши сопротивляться тщетны: пока пьяный Иван лежит в поле во время вспашки, свекор насилует Лушу тут же. По селу пошли пересуды, свекровь советует Луше спасать душу молитвой. Иван бездействует, и его отец продолжает добиваться Луши. Вызванная им на ночное свидание, Луша вешается, тем самым доведя свекра до безумия.
Многочисленные сведения о создании «Снохача» остаются неподтвержденными. Неизвестен режиссер – фильм приписывают Александру Иванову-Гаю и/или Петру Чардынину; нет общего мнения в отношении некоторых актеров; и оператор Александр Рылло – фигура загадочная. И все же фильм демонстрирует почти преждевременную кинематографическую глубину. Как заметила Дениз Янгблад, этот фильм (который она упоминает под названием «Любовник невестки» [The Daughter-in Law’s Lover]),
становится одним из первых признаков «смены парадигмы» в русском кино: от заснятых картин или «аттракциона» к фильму как фильму, целиком созданному при помощи средств киновыразительности. Это не рудиментарная отснятая пьеса, а история, которую можно рассказать гораздо выразительнее на экране, чем на сцене. Темы насильственного секса, инцеста, смерти введены в фильм не только тем, что показано на экране, но и тем, как сцены смонтированы[112].
Более того, многие сугубо кинематографические средства выразительности, найденные в относительно сыром виде в «Стеньке Разине», появляются и в этом более позднем фильме. В частности, мизансценирование, работа с природными, экстерьерными сценам и использование различных методов съемки и движения камеры. Все они усовершенствованы и доработаны в «Снохаче», и эти способы не встречаются ни в фильмах, вышедших на экран в 1912-м, ни в более ранних картинах. Как мы вскоре увидим, отношение создателей фильма к женским и мужским персонажам и к теме их взаимоотношений здесь также будет более сложным.
Мизансцена
Впервые свекор осознаёт влечение к Луше, когда наблюдает за ее работой в поле, но, как и следовало ожидать, именно во время исполнения Лушей танца его желание становится необоримым. Сцена танца – одна из наиболее новаторских, мощных и четко выстроенных в фильме, но очевидно и то, что своим существованием она по-прежнему обязана дранковской постановке танца княжны в «Стеньке Разине».
Дневные труды окончены, и крестьяне хотят отдохнуть. Выстроившись полукругом, который создает скромное сценическое пространство перед ними, крестьяне настойчиво призывают Лушу станцевать. И хотя она трижды просит мужа составить ей пару, Иван каждый раз отказывается, отдаляясь от своей жены к крайней левой стороне групповой композиции и кадра и оставляя женщину на центральной сцене в одиночестве. Когда она выходит на передний план, то, как и многие танцовщицы до нее, автоматически становится точкой притяжения всеобщего внимания – и персонажей, и зрителей. Луша танцует с такой живостью и чувством, что зритель, как и крестьяне, увлечен ее движениями и не замечает: среди смотрящих находится и ее свекор. Он хоть и стоит прямо посередине наблюдающей толпы, но оказывается скрыт от глаз танцующей девушкой. Поэтому для зрителя и становится полной неожиданностью, когда свекор внезапно встает, выходит на передний план и, отбрасывая картуз и армяк, готовится сделать то, в чем отказал Луше ее безвольный муж – танцевать с ней.
Распаленный их танцем, свекор не может удержаться и поддается желанию: он обхватывает невестку за талию и, приподняв ее над землей, целует в губы, сбивая при этом платок – традиционный символ замужества у крестьянок[113]. Луша замирает, но уже через секунду она в ужасе обхватывает голову руками. Иван безмолвно взирает, едва ли выражая хоть какую-то реакцию. Наступает недолгое затишье, но музыканты не прерывают игру, и вот уже следующая крестьянка выходит танцевать, привлекая внимание односельчан. Зрительское же внимание остается на трех центральных героях и на драме, постепенно разворачивающейся между ними. В отличие от других крестьян, Иван, его отец и Луша недвижимы, словно окаменев от ужаса и важности произошедшего.
Этот украденный свекром поцелуй явно предвосхищает будущее изнасилование девушки. За счет четкой расстановки трех ключевых персонажей в кадре пусть и не столь явно, но обозначено неминуемое присвоение отцом роли своего сына. И Иван, и его отец стоят с левой стороны экрана: Иван – на заднем плане и на несколько шагов ближе к центру, чем отец, отец же – ближе к передней части кадра, но у самого левого края. Луша тем временем стоит впереди, у правого края кадра: по диагонали от Ивана, своего все более отчуждающегося супруга, и прямо напротив свекра. Благодаря этой расстановке зарождающийся между свекром, невесткой и сыном/мужем треугольник обретает визуальное воплощение на экране.
К тому же Луша и свекор расположены и на одной прямой, и на переднем плане, что позволяет создателям фильма обозначить: эти двое формируют новую «пару». Еще лучше эту перемену поясняет последующее хоть и неявное, но все же тщательно спланированное и замышленное создателями фильма, движение героев в кадре. Иван медленно делает шаг в сторону жены, но затем останавливается, смотрит в противоположном направлении, на своего отца, и неожиданно делает шаг назад – прочь от Луши. Надевая картуз, он смотрит вниз и отворачивается от жены. Пока Иван отступает, его отец делает один уверенный шаг к Луше, заслоняя Ивана. Так режиссер обозначает: здесь отец утверждает доминирование над Иваном. Вскоре он утвердит и свою власть над телом его жены. Луша, несомненно, сознаёт, что ни один, ни другой добра ей не принесет, и отворачивается от обоих, склоняя голову к земле и тревожно укладывая свои растрепанные выбившиеся косы.
Эпизод занимает всего несколько секунд, танцы продолжаются, но создателям фильма удается донести до зрителя огромное количество информации одной расстановкой актеров в кадре и координацией их движений и жестикуляций относительно друг друга и кадра в целом. Сложное, сверхточное построение мизансцены, которое предлагают создатели «Снохача», достигает того уровня нюансировки, какой редко можно встретить в фильмах 1912 года; вместе с тем очевидно, что такое мизансценирование отталкивается от своего более раннего образца в «Стеньке Разине».
С женской точки зрения: природный фон и подвижная камера
В остальном, однако, «Снохач» сильно отличается от «Стеньки Разина». То, как вдумчиво, изучающе подают создатели главных героев, резко контрастирует со схематичной обрисовкой в «Стеньке Разине»; не похож «Снохач» и тем, с чьей стороны задано повествование, по крайней мере в первых сценах. Если в «Разине» зрителя подталкивали к тому, чтобы отождествлять себя с мужчиной-разбойником и видеть персидскую княжну его глазами и глазами его товарищей, то в «Снохаче» авторы развивают тенденцию, присутствующую также в чардынинском «Вадиме» и направленную на утверждение повествовательной точки зрения виктимизированной женской героини. Таким образом, на протяжении всего «Снохача» создатели фильма стремятся побудить зрителя к тому, чтобы он отождествлял себя с Лушей и сочувствовал ее беспомощному положению.
Одним из ключевых методов, которым авторы достигают своей цели, является неизменное использование экспрессивных возможностей природного фона, в особенности естественных света и тени, – на тридцать минут фильма только одна сцена снята в интерьере. Их обращение с природой и стихиями (особенно с ветром) для передачи Лушиной жуткой повести, действительно, сравнимо с кадрами из Тарковского. При всей захватывающей красоте и глубине некоторых пейзажных кадров природа в фильме не является просто привлекательным задником. Напротив, она разнообразно используется, чтобы задать настроение и атмосферу, отразить душевное состояние героев и предсказать их неизбежную судьбу.
Показательно, что именно Лушины точка зрения на мир и ее положение в нем наиболее часто выражены через природные образы. Поразительно и то, что визуальные, а значит, и эмоциональные характеристики природного мира, в котором существует Луша, кардинально меняются по ходу фильма. В первых сценах фильма Луша снята на фоне природы, которая показана плодородной, богатой и щедрой. Так, они с мужем лежат на красивом лугу, утопающие в высоких травах и диких цветах. Позже, когда женщина возвращается к своим повседневным заботам, босая и с голыми ногами, она излучает силу, энергию и витальность. Крестьянка получает чувственное удовольствие от природы вокруг, сладко потягиваясь от тепла, разлитого солнцем по ее оголенной коже. Однако после сцены с танцем и украденным поцелуем свекра природный мир, окружающий Лушу, постепенно претерпевает трансформацию, равно как и ее отношения с ним. Мягкие лучи солнца сменяет безжалостный ветер, да и природа вокруг все чаще представлена враждебной и грубой: так, мягкие травы из первых сцен фильма заменены выжженными бороздами полей, которые кажутся настолько бесплодными, что зрителю впору усомниться, способны ли они вообще дать урожай, невзирая на все старания Луши с плугом.
Точно так же беспомощность и смятение Луши, безнадежность ее ситуации выражены в пейзаже на пути женщины, когда она после изнасилования отправляется к колдуну. Глубоко в тени, окруженная густыми зарослями и деревьями, Луша пытается править лодку по реке. И хотя течение не сильное, лодку то и дело сносит в направлении, противоположном тому, что держит Луша. Все же ей удается причалить. И как только она выходит на заросший берег, происходит что-то странное: камера начинает двигаться, медленно панорамируя слева направо и следуя за движением героини. Берег крутой, и, поднимаясь, Луша выходит за рамку кадра. Однако же побег невозможен. Быстрый монтажный стык, и камера уже поджидает Лушу на вершине склона. Такое сочетание киноприемов повторяется дважды, создавая почти невыносимое напряжение. И хотя иногда кажется, что Луша сможет ускользнуть от взгляда камеры, – она не сможет. При такой съемке камера перестает быть пассивным наблюдателем событий и становится антагонистом, зловещим двойником беспощадного хищного свекра.
Камера продолжает следить за девушкой на пути к заброшенной мельнице, где живет колдун. Луша движется почти по сюрреальному ландшафту: крутые склоны усеяны обрушенными камнями, валунами, мертвыми деревьями, покинутыми домами и другими преградами. В этой и других сценах после судьбоносного танца Луши показано, как она угнетена агрессивной и злобной природной средой, которая предстает ярким символом социальных и культурных обычаев, поработивших женщину. Как формулирует Хансен, в сценах после танца на Лушу «давит заговор между миром вещей (выжженные борозды, безжалостный ветер, огромные камни и щебень на пути к мельнице) и социальными условиями патриархата»[114]. Глядя на нее, зритель просто не может не ощущать сострадание и обреченность.
Луша: от жертвы к автору собственной судьбы
Описанные выше киносредства делают очевидным тот факт, что, как бы горячо ни желал зритель, чтобы Луша сбежала, она не сможет этого сделать. На обратном пути в село ее свекор продолжает домогаться ее, и она не может ему отказать. Как поясняет Янгблад: «Насилуя жену своего сына, отец… „всего-то“ берет то, что ему причитается по деревенскому обычаю»[115]. И такова, по-видимому, была реальность многих молодых крестьянок того времени. В работе 1879 года «История русской женщины» историк С. Шашков, оценивая механику снохачества, подчеркивал, что невестка не имела никакого права отказать свекру в его посягательствах. Генриетта Мондри резюмирует выводы Шашкова:
…вся семья со стороны мужа, включая и самого мужа, оказывала давление на молодую невестку, чтобы та вступила в сексуальные отношения со свекром в знак покорности деспотичным запросам патриарха в крестьянской семье. Страх домочадцев перед ним настолько силен, что девушка, которая откажется стать снохачкой, подвергается тирании и унижению со стороны остальных членов семьи[116].
Впрочем, Луша настолько полна решимости сопротивляться, что придумывает выход из ситуации, прибегая к тому, что Хайде Шлюпманн называет «окончательным отказом», то есть к самоубийству. В этом отнюдь не сентиментальном фильме сцена с самоубийством, тем не менее, должна шокировать. Она начинается, когда Луша, одетая в простую белую ночную рубашку, на которую спадают ее длинные распущенные волосы, в тиши туманной ночи покидает дом. Зритель знает, что она направляется на свидание со свекром, так как в предыдущей сцене он приказал ей сделать это, отмахиваясь от мольбы Луши оставить ее в покое. Более того, когда Луша выходит, у двери внезапно появляется ее свекровь и гневно обращается к ней: «Знаю, распутная, к кому направляешься…» Девушка смотрит на нее с сожалением и печалью, но ничего не отвечает и решительно уходит в туман. Дальше авторы фильма через монтажный стык показывают свекра, который украдкой приближается к клети, которую назначил местом встречи. Подходя к двери, он постоянно оглядывается, проверяя, не видит ли кто его, и все еще оглядывается, когда, наконец, отворяет дверь. Следующий кадр внезапно показан с обратной точки: мы внутри хижины и смотрим на другую сторону двери, которую вот-вот откроет мужчина.
В этот момент освещение минимально: внутри хижины почти полная темнота, и зритель может видеть только несколько тонких полос света, которые пробиваются через скверно подогнанную дверь. Но как только свекор открывает ее, свет заливает хижину, и зритель понимает, что она не пуста: там повешенная Луша. Зритель видит тело девушки еще до снохача, так как, заходя в клеть, тот все еще оглядывается. Поэтому он и натыкается на ее обмякший труп. Моментально сообразив, что натворила его невестка, снохач в ужасе выбегает из клети. Для зрителя, однако, такая ретировка не предусмотрена: на семь секунд камера задерживает взгляд на мертвом теле ниже пояса и, таким образом, вынуждает аудиторию созерцать и размышлять над судьбой девушки. Более того, важно и то, что это зрелище не предполагает скопофильное удовольствие, скорее – уродливую действительность Лушиной смерти. Так происходит благодаря тому, что авторы фильма отказываются эстетизировать мертвое тело или окружающее неприютное пространство. В самом деле, темная клеть, в которой Луша повесилась, является мощным символом не только ее будущей могилы, но и угнетающего, исключающего всякую жизнь социального положения, которым эта энергичная девушка оказалась стеснена и раздавлена.
Однако, как следует из описания самоубийства у Шлюпманн, поступок Луши не может рассматриваться как пассивное принятие поражения. Напротив, он представлен создателями фильма, понят другими героями и задуман Лушей как акт неповиновения и попытка разговора. На протяжении всего фильма мы видим, как девушка пытается бросить вызов воле ее свекра и избежать его посягательств, мы также видим ее попытки, неоднократные и всегда безуспешные, завести разговор со своими родственниками – с Иваном, со свекровью и с самим свекром, – чтобы заручиться их поддержкой в ее сопротивлении патриарху и убедить их в неправильности того, к чему он ее принуждает. Парадоксальным образом самоубийство Луши позволяет ей достичь обеих целей. Ибо, как настойчиво утверждала Элизабет Бронфен, в тех нарративах, культурах и обществах, которые неразрывно связывают женственность с телом и объективацией, женское тело как таковое порабощает женщину[117]. Мир «Снохача» и есть тот самый случай: страдания Луши вызваны такими неизменными факторами, как ее пол, физическая красота и социальные и культурные убеждения. Следовательно, единственный способ, которым она может вернуть себе субъектность, – это «отринуть» или «уничтожить» свое тело через самоубийство[118]. С такого ракурса момент Лушиного саморазрушения парадоксальным образом становится актом самоутверждения. Как пишет Бронфен:
Выбор смерти выступает как женская стратегия, в рамках которой написание телом – это способ избавиться от гнета, связанного с женским телом. Инсценировка развоплощения как формы бегства от личных и социальных ограничений служит критикой тех культурных установок, которые сводят женское тело к позиции зависимости и пассивности, к уязвимому объекту сексуальных вторжений[119].
Выходит, когда Луша вешается, она собственноручно превращает свое тело из источника удовольствия в объект террора. Она отказывает снохачу в том, что он требует, и этим бросает вызов не только его патриархальным представлениям о природе и роли женщины, но и его патриархальному авторитету и, воистину, его вере в себя.
«Полная сцена» и снохач: от угнетателя к угнетенному
Итак, самоубийство Луши – мощный и красноречивый жест. Он показывает ее как сильную, решительную девушку, которая не соглашается пассивно следовать укоренившему патриархальному праву снохачества. И все же «Снохач» не заканчивается долгим планом мертвого тела девушки. Вместо этого, вероятно, встревоженные криками патриарха, прибывают Иван и его мать, они срезают веревку с телом Луши и уносят ее труп обратно в дом. Покидая клеть, Иван бросает на отца полный отвращения взгляд, явно обвиняя его в смерти своей жены. Поразительно все же, что камера не следует за Иваном, когда он уносит Лушу с места ее смерти, как мог ожидать зритель. Напротив, камера остается позади, обращенная на свекра, который делает шаг в ее сторону. Это любопытное движение словно бы намекает, что с этого момента снохач будет находиться в центре внимания, как и было обещано его названием ленты. Действительно, ровно это и происходит: далеко не останавливаясь на смерти Луши, фильм длится почти пять полных минут, на протяжении которых камера преследует снохача так же неотступно, как ранее она, да и сам снохач преследовали Лушу.
И вот мы движемся за ним по пути домой, где Иван уложил тело своей жены, наблюдаем, как он пытается выразить сыну свое раскаяние, на что тот лишь в ужасе отшатывается от отца. Мы наблюдаем, как в поисках прощения старый патриарх припадает к другому источнику: склонив голову перед иконой, которая висит в углу, он начинается молиться. Отвернувшись от иконы, он явно потрясен присутствием трупа Луши и не может заставить себя прикоснуться к ней, хотя, кажется, хочет этого. Вместо этого он бежит из хаты, а потом из села. Камера, разумеется, следует за ним в его пробеге, и финальная сцена фильма изображает снохача бредущим вдоль ветреного берега реки. Босой, обезумевший и терзаемый случившимся, невидящий и недвижимый, он взирает на реку, очевидно, воскрешая в памяти кошмарные события минувшей ночи и каменея от ужаса.
Современному зрителю при первом просмотре может показаться, что эти финальные кадры ослабляют общее воздействие фильма, ведь после напряжения, динамизма и новизны предыдущих двадцати пяти минут финал выглядит медленным и конвенциональным. Кажется, что такая фильмическая «кода» противоречит и всему предшествующему повествованию, которое, как мы видели, участливо изображало события с точки зрения Луши. Однако, как отмечает Хансен, такой переход к мужской точке зрения не является полной неожиданностью, поскольку ранее в фильме авторы снабдили снохача «долей субъектности», когда его «первоначальное признание неудачи сына с Лушей» выделили в отдельном титре: «Тоскует ее душа, не любит она моего Ивана»[120].
Этот словесный индикатор, однако, не единственный способ, которым авторы фильма прокладывают путь к точке зрения старика. Сцена, к которой обращается Хансен, утверждает субъектность героя и визуально, то есть кинематографически. В начале фильма показана ссора между Лушей и ее мужем. Жалуется ли она на его пренебрежительное отношение к ней, на его алкоголизм или на его нежелание помогать ей в поле? Как бы то ни было, Иван отказывается слушать; все, что ему хочется делать, – спать. В следующей сцене Луша безуспешно пытается его разбудить. Появляется свекор и тоже пытается растолкать своего ленивого сына. Свой гнев он обращает и на Лушу, ведь, в конце концов, она тоже отлынивает от работы, вот он и отправляет ее обратно в поле. Луша подчиняется, но она еще не отошла от перебранки с мужем и останавливается у дерева, чтобы собраться, прежде чем возвращаться к другим рабочим, которые видны на заднем плане. Заметив на ее лице слезы, свекор искренне обеспокоен ее состоянием, он приближается к ней и пытается утешить, по-отцовски поглаживая по голове и тихо подталкивая вернуться к работе. Успокоившись, Луша и вправду возвращается в поле, оставляя свекра у дерева. Он смотрит, как молодая женщина уходит, в этот момент и появляется титр. Дальше мы возвращаемся к свекру, который стоит на том же месте. На мгновение он замирает, затем, словно от физической боли, резко хватается за сердце и отшатывается к стволу дерева, ища опоры. Там он и остается, и лицо его выражает потрясение и ужас от эмоций, которые испытывает старик. Кадр держится несколько секунд, позволяя зрителю стать свидетелем того, как отцовскую заботу свекра сменяет сексуальное влечение.
То, что видит здесь зритель, – первые попытки передать психологию персонажа на экране. Конечно, к 1912 году интерес к психологизму не новость, на тот момент это уже одна из наиболее явных отличительных черт русского кино, которое ценило психологизм выше действия практически с самого начала: как мы видели в 1-й главе, в первом русском фильме «Стенька Разин» такое предпочтение уже проявилось, пусть и в довольно сыром виде. На протяжении 1910-х, однако, русские кинематографисты сформировали вполне определенные идеи о том, как лучше всего передать внутреннюю диалектику персонажей, для которой темп и качество игры стали основополагающими: так называемый русский стиль игры определялся приверженностью «доктрине неподвижности», сознательной эстетической программе, согласно которой камера надолго задерживалась на актерах; последним же требовалось передать эмоции, избегая действия и движения в угоду бездействию и почти полной обездвиженности. Такие сцены стали со временем известны как «полные» сцены, как назвала их Ольга Гзовская, и в 1916 году в теоретической статье киножурнала «Проектор» были определены следующим образом:
Полная сцена – это такая, где актеру дана возможность сценически изобразить определенное душевное переживание, сколько бы метров для этого ни понадобилось. «Полная» сцена является вместе с тем полным отрицанием обычного стремительного темпа кинематографической пьесы. Вместо быстро сменяющегося калейдоскопа образов она надеется приковать внимание зрителя к одному образу[121].
В эпизоде «Снохача» мы получаем зачаток «полной» сцены, через который создатели фильма пытаются передать зрителю ту борьбу, которая происходит в сознании патриарха, и позволить зрителю/зрительнице наблюдать не только рождение в свекре инцестуозного желания к Луше, но и боль, которую он испытывает от осознания этого желания. Сцена, таким образом, удачно представляет свекра как человека, который находится в конфликте со своими чувствами и желаниями, и мы должны не столько осудить его, сколько попытаться понять. Ту же функцию выполняют и последние пять минут фильма, что тем более поразительно, ибо, заканчиваясь таким образом, «Снохач» выпадает из типичной продукции своих времени и места. Как отмечает Хансен, обычно характерные катастрофические финалы русских мелодрам не смягчаются моментом узнавания, раскаяния или скорби: «С куда большей вероятностью за самоубийством шел финальный титр – „Конец“, – чем, скажем, кадр-реакция с участием вовлеченного персонажа»[122]. Здесь же мы получаем пять минут реакции и свекровы терзания во всей их мрачной прогрессии. Только вот они не приводят ни к раскаянию, ни к прощению – только к сумасшествию, к страшной растерянности и, что важно, к одиночеству во враждебной, одолеваемой ветрами глуши, вдали от безопасной сельской общины, даровавшей ему право, в котором так драматично отказала свекру Луша.
Итак, хотя создатели фильма явно поддерживают Лушину точку зрения на протяжении всей картины, неоднократно изображая девушку, говоря словами Хансен, «субъектом страданий или даже объектом тройного угнетения – нищетой и тяжелой работой, сексуальным насилием и позицией сельской общины», нельзя сказать, что свекор – «единственный злодей, или, если уж на то пошло, что он единственно злодей»[123]. Авторы фильма подчеркивают безнадежность положения девушки, но в том числе выявляют и несоответствие между предполагаемой социальной властью старика и его фактическим бессилием и поражением. Более того, они показывают, какое влияние оказывает на патриарха осознание этого несоответствия, вызванного Лушиным финальным актом неповиновения: этот однажды проявивший силу мужчина не в силах справиться с бунтом девушки. Последние пять минут фильма, таким образом, не позволяют зрителю не испытать хотя бы долю сочувствия к участи старика, ведь в конечном счете, если снова процитировать Хансен, создатели фильма показывают мужскую субъектность «непоправимо поврежденной, скомпрометированной насилием, присущим [мужской] роли в обществе»[124],[125].
Исходя из описанного, слабость мужского героя, которая подразумевалась и в «Стеньке Разине», но была там всецело устранена, в «Снохаче» не только заявлена напрямую, но и показана непреодолимой. Как и в «Разине», причиной проблем патриарха становится танцующая девушка. Но, в отличие от персидской княжны, которая четырьмя годами ранее была убита на экране своими мстительными и испуганными партнерами-мужчинами, Луша обладала достаточной силой характера, чтобы взять ситуацию в свои руки. Не желая пассивно подчиняться устаревшей традиции XIX века, которая превращала ее не более чем в собственность патриарха с правом пользоваться ею, Луша взбунтовалась. Если это и был своеобразный прогресс в сравнении с 1908 годом, то, конечно, неоднозначный. То, что Луша может отстоять собственную независимость от мужчины, стремящегося завладеть ею, только через самоубийство, неминуемо ослабляет момент ее триумфа над снохачом, сводя его к мрачной и терзающей пирровой победе.
Глава 3. Оперная певица
Первая профессиональная исполнительница: Вера Дубровская Евгения Бауэра[126]
Год, когда вышел замысловатый «Снохач», оказался важным переходным периодом в русской кинематографии и по другим причинам: в 1912-м в мир кино пришел Евгений Бауэр. С тех пор, как его фильмы были переоткрыты в конце 1980-х, Бауэр считается крупнейшим русским режиссером своей эпохи, причем фигурой фундаментального значения в истории и развитии не только русского, но и мирового кинематографа. Соответственно, его работы станут центральными в этой и последующих главах. Учащийся Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Бауэр успел поработать актером, карикатуристом, автором сатирических статей, фотографом-портретистом и уже был известен как театральный художник-декоратор, когда осенью 1912-го его привлекли к оформлению декорации на фильме Александра Уральского и Николая Ларина «Трехсотлетие царствования дома Романовых, 1613–1913» производства Дранкова и А. Талдыкина. Впоследствии Бауэр поработал режиссером и у Дранкова, и у «Патэ», прежде чем присоединился к конкурирующей компании Ханжонкова в конце 1913-го, где и оставался до своей безвременной смерти от пневмонии в июне 1917-го[127]. Бауэр быстро занял место ведущего кинематографиста Ханжонкова и, судя по всему, наиболее высокооплачиваемого режиссера в России. Несмотря на короткую кинокарьеру, вклад Бауэра был непомерен. Он снял не менее восьмидесяти двух фильмов, двадцать шесть из которых сохранились. Как будет отчасти продемонстрировано далее, разнообразие и количество фильмов Бауэра позволяет получить представление о повторяющихся стилевых и тематических чертах, которые делают «кино Бауэра» моментально узнаваемым[128].
Также нам поможет, что среди дошедших до нас фильмов Бауэра есть и его режиссерский дебют у Ханжонкова, «Сумерки женской души», вышедший на экраны 26 ноября 1913 года. Снятый Николаем Козловским, оператором, работавшим в 1908 году вместе с Дранковым на «Стеньке Разине», фильм демонстрирует, насколько далеко продвинулся в своей изощренности этот новый вид искусства с момента выхода первого русского игрового фильма. Иллюстрирует он и сдвиг, произошедший в русском кино того времени, при котором городские декорации пришли на смену деревенским. Но «Сумерки женской души» замечательны другим: фильм знаменует перемену в изображении женщины-исполнительницы в русском кино, ибо героиня Бауэра, Вера Дубровская (Нина Чернова), выходит на сцену по собственной воле, становясь, таким образом, первой профессиональной исполнительницей в русском кино. Это важно, ведь за счет подобной перемены, как мы увидим, Бауэр сможет наделить топос сценического выступления смыслами, отличными от тех, что были в фильмах до 1913 года. В «Сумерках женской души» Бауэр напрямую обращается к фундаментальному вопросу, который во всю силу прозвучит из уст французской писательницы-феминистки Симоны де Бовуар в 1949-м: «Что такое женщина?». И топос выступления станет центральным в исследовании Бауэром этого вопроса.
«Становясь» женщиной I: объективация, идеализация и инкультурация
Женщиной не рождаются, ею становятся. Ни биология, ни психика, ни экономика не способны предопределить тот облик, который принимает в обществе самка человека. Существо, называемое женщиной, нечто среднее между самцом и кастратом, могло возникнуть только под воздействием всех сторон цивилизованной жизни.
Симона де Бовуар[129]
Мы [женщины], в наших телах и в наших умах, черта за чертой, были вынуждены соответствовать той идее натуры, которая была для нас определена.
Моник Виттиг[130]
Бауэровская Вера становится сценической исполнительницей только в самом финале «Сумерек женской души». Но уже с первых сцен Бауэр, изображая свою главную героиню, использует топику сцены и идею выступления в более абстрактных, общих смыслах. Особенно поразительно это в сцене, где режиссер знакомит зрителя с Верой. Мы впервые встречаем девушку в ее спальне, этот кадр тщательно выстроен. В последние годы он несколько раз оказывался в центре внимания больших аналитических работ о киноискусстве Бауэра, и авторы этих работ сходились в том, что эта сцена служит отличным образцом многих стилистических черт, которые позволяют моментально узнавать бауэровские фильмы[131]. И самым поразительным тут, вероятно, является необычайное внимание к деталям декораций. Еще в театре сложно устроенное и новаторское сценическое оформление было визитной карточкой Бауэра, вскоре он овладел этой сферой и в кино[132]. Стремясь преодолеть плоскостность киноэкрана, режиссер бесконечно экспериментировал с новыми способами усиления глубины и стереоскопических качеств декораций: тщательно расставлял колонны, предметы мебели, лестницы, драпировки, перегородки или кадки с растениями, чтобы разделить пространство на планы, как горизонтальные, так и вертикальные. Его декорации и вправду настолько самобытны, что советский режиссер Лев Кулешов, который работал художником-постановщиком на нескольких поздних фильмах Бауэра, говорит о «методе Бауэра» в выстраивании декораций[133],[134]. Такое внимание к деталям имеет свои причины и значение. Безусловно, отчасти задуманные как впечатляющие задники, бауэровские декорации и объекты, которые он в них помещает, всегда значат больше, чем просто украшение, – они служат смыслам, ибо используются для того, чтобы подчеркнуть отдельные стороны персонажа и/или темы. Бауэровское изощренное мизансценирование и его склонность обращаться с актерами как с элементами мизансцены, тщательно расставленными относительно камеры и друг друга, также часто упоминается в обзорах того времени на фильмы Бауэра[135]. И мы видим все эти тщательно продуманные элементы стиля в кадре знакомства с Верой.
Что Бауэр сообщает здесь о Вере? Во-первых, он сигнализирует о том, что это заглавная героиня и о собственной заинтересованности. Поскольку Верина фигура помещена в центр кадра, очевидно, что Бауэр хочет сосредоточить внимание зрителя на ней. Вдобавок к ее месту неподвижность Веры позволяет, даже подталкивает зрителя приглядеться к ней: снова Вера представлена здесь зрителю скопофильной камерой. Хоть она и отделена от зрителя тонкой газовой занавесью, которая спадает почти через весь кадр, – Вера на виду, выставлена на обозрение, что Бауэр и подчеркивает, заставляя оператора удерживать кадр почти десять секунд.
Более того, камера здесь отождествляется со специфическим мужским взглядом, где мужчина – активный наблюдатель, а женщина – (пассивное) «зрелище». Вера здесь «дана как объект» и «обретает форму», чтобы отобразить «фантазии» «конституирующего мужского взгляда»[136]. Природа таких «фантазий» предсказуема: Вера репрезентирует компиляцию клишированных патриархальных представлений XIX века о женщине. В России в 1913 году одержимость образом вечной женственности – воплощенным, пожалуй, наиболее полно в ранних сборниках стихов поэта-символиста Александр Блока – достигла своего пика и стала для многих художников законной мишенью для сатиры. Поэты-футуристы Алексей Крученых и Велимир Хлебников, например, вписали в свой свежий поэтический манифест пренебрежительное замечание о том, что «в последнее время женщину старались превратить в вечно женственное, Прекрасную Даму, и таким образом юбка делалась мистической»[137]. И действительно, именно так Вера и была изображена: расположенная посреди экстравагантного «царства газа и кружев», которым обернулась ее спальня, красивая, пассивная, целомудренная и чистая. Само воплощение «пассивности, покорности, податливости, мягкости», которые для будущего советского политика Александры Коллонтай были сутью устаревшего образа «вечно женского»[138].
Газовая занавесь, опущенная посередине кадра, подчеркивает отчужденность Веры от внешнего мира и всякой общественной деятельности. Эта занавесь напоминает «завесу девственной плевы»[139] и буквализирует то, что Люс Иригарей описывает как «метафорическую завесу вечно женственного»[140]. Выразителен и свет: если пространство перед занавесью находится в абсолютной темноте, то хорошо освещенный задний план, где сидит наша героиня, на контрасте кажется еще ярче, и Вера купается в неземном свете, который намекает и на ее эфирность. О тонкой, девственной натуре Веры говорят и хрупкая, прозрачная занавесь, и просвечивающее платье на ней. Белизна занавеси, пастельного белья и Вериных одежд также порождает ассоциации с чистотой и невинностью, равно как и вазы с цветами, которые украшают Верину комнату. Вера превращается в «женщину в белом».
Итак, с самого начала фильма и задолго до того, как мы видим реакцию и обращение с Верой со стороны героев-мужчин, Вера предстает одновременно и таинственным, манящим объектом эротического созерцания, и воплощением фантазий мужчин XIX века о совершенной женщине. Она находится в состоянии, которое Симона де Бовуар позже назовет «имманентностью»: непроходимой, тупиковой, замкнутой зоной, внутри которой женщины пассивны, статичны, заключены как в тюрьме.
Последующие сцены, снятые в Вериной спальне, предлагают те же идеализированные и абстрактные образы девушки. Так мы наблюдаем, как Вера спит и видит сны. Правда, в сцене знакомства с Верой ее эротическая притягательность возвышена: густые черные волосы спадают на спину, свободная белая ночная рубашка при всей ее подспудной чувственности напоминает о Вериной девственной чистоте. Подчеркивается это и тем, что в какой-то момент Вера опускается на колени у своей кровати для молитвы, и эта поза вкупе с ее нарядом и ярким освещением создает вокруг Веры ореол святости. Когда она укладывается в постель во время болезни, она снова изображена в тех же выразительных позах и наряде, бледная, изможденная и хрупкая, но оттого не менее красивая и желанная. Позже в фильме Вера будет изображена напротив зеркала – в созерцании собственной красоты и грезах о своем возлюбленном, князе Дольском, – пока горничная будет расчесывать ее волосы. Знакомая по многим женским портретам в истории искусства, эта поза заставляет зрителя сосредоточиться на том, что историк искусства Элизабет Преттеджон описывает как «талисманные части женского тела: глаза, губы, руки, распущенные волосы»[141]. Снова зритель обозревает Веру глазами мужчины, ибо, как продолжает Преттеджон, опираясь на работы феминистского критика Гризельды Поллок, эти «символы эротизма… характеризуют не столько изображенную женщину, сколько мужское желание»[142],[143].
Однако такие клишированные проявления Вериной женственности не выражают отношения самого Бауэра. В том и заключается бауэровская изощренность – ему удается показать, что эти идеализированные, конвенциональные и устаревшие образы женственности существуют только в сознании героев-мужчин. Показывает он это в том числе тем, что вводит в кадр героя-мужчину, подчеркивая при этом его вуайеристские наклонности. Так, в самом начале фильма, когда погруженная в свои мысли Вера сидит в спальне, за ней незаметно наблюдает не только зритель, но и слуга, отправленный позвать Веру на бал. Слуга выходит на затемненный передний план кадра так, что виден только его силуэт, он стоит спиной к камере и явно пользуется возможностью немного понаблюдать за Верой, прежде чем сообщить о своем присутствии. Оставаясь в темном пространстве кадра на протяжении всей сцены, слуга превращается в безликую и слегка тревожную фигуру.
Этот прием повторяется на протяжении всего фильма и предстает еще более зловещим после первого Вериного благотворительного визита к рабочему Максиму Петрову. Тронутая бедностью его чердачной каморки, Вера встает на колени рядом с Петровым и перевязывает его поврежденную руку. Пораженный красотой Веры, Петров ошибочно принимает ее сострадание за эротическое влечение, его охватывает страсть к девушке, и последняя уже здесь, в одной из первых сцен, обозначена в титре как «жертва обмана». И вот Петров заманивает Веру в ловушку: играя на ее сочувствии, он пишет ей, что находится при смерти, и молит ее о повторном визите. Петров сам доставляет это двуличное послание, забираясь ночью в открытое окно Вериной спальни. Не в силах устоять перед видом «спящей красавицы», он медлит, глядя на девушку через газовую занавесь, как сделал это до него и слуга. Затем Петров раздвигает занавесь, входит в спальню Веры и снова останавливается, смотря на нее «незаметно». В нарушении личного пространства Веры Петров являет ту же патриархальную самоуверенность, что и при последующем изнасиловании девушки, акте, который символически предвосхищен уже в этой ночной сцене.
Метод Бауэра весьма тонок. Вдобавок к представлению мужских героев как вуайеристов он использует и другие средства, чтобы дистанцироваться от изначальной репрезентации Веры в фильме. В частности, Бауэр сознательно подчеркивает стилизованный, постановочный характер кадра, в котором мы знакомимся с Верой в ее спальне, за счет того, что в само построение декораций включается визуальный топос сценического пространства. Так, газовая занавесь одновременно и напоминает о занавесе на сценах театров, и «разоблачает» концепцию так называемой четвертой стены – расположенного впереди, на авансцене, воображаемого барьера, сквозь который публика обозревает действие, происходящее в это время в выдуманном мире представления. Таким образом, помимо других своих символических значений занавесь также заставляет обратить внимание на искусственность или «сконструированность» как самой Веры, так и мира вокруг нее. Способствует созданию этого «театрального» эффекта и освещение в кадре, которое, по замечанию Юрия Цивьяна, «весьма необычно даже для 1913 года, когда световые эффекты были в моде», – оно поставлено аналогично освещению в театре, когда артисты на сцене играют в свете рампы, а сидящие в партере зрители оказывается в темноте. Этот резкий театральный эффект усиливается за счет того, что в другое время эта же декорация в первой части фильма, как отмечает Кавендиш, «представлена натуралистично, с обильно освещенным передним планом и слегка измененным ракурсом»[144]. При помощи мужских фигур, которые наблюдают, находясь на затемненном переднем плане, по ту сторону занавеси/«четвертой стены» и смотрят на Веру, Бауэр воспроизводит и пространственно-зрительные отношения театральной публики и выступающего. Включая таким образом откровенно театральные элементы в оформление декораций Вериной спальни, Бауэр настаивает, что зрителю предлагается не объективная, «правдивая» репрезентация девушки, но реконструкция того, какой она становится, пропущенная сквозь призму субъективности мужских персонажей. Другими словами, Бауэр показывает образ Веры как социальный, культурный и гендерный конструкт. Вот чем, если использовать терминологию, предложенную Симоной де Бовуар, «стала» женщина в России в начале XX века: пассивным, чистым и идеализированным объектом эротического созерцания, локусом мужских фантазий о совершенной женственности. Или, словами Моник Виттиг, «всего лишь мифом»[145].
«Становясь» женщиной II: свобода воли
В наше время женщины развенчивают миф о «женственности»; они начинают на деле утверждать свою независимость.
Симона де Бовуар[146]
Если гендер – это изменчивая культурная интерпретация пола, значит, ему не достает устойчивости и завершенности, характерных для простой идентичности. Быть гендером… значит быть вовлеченным в непрерывную культурную интерпретацию тел и, следовательно, находиться в динамичном положении внутри поля культурных возможностей. Гендер следует понимать как модальность принятия или реализации возможностей, процесс интерпретации тела, придания ему культурной формы. Другими словами, быть женщиной – значит стать женщиной; и речь не о согласии с устойчивым онтологическим статусом, при котором родиться женщиной как раз возможно, скорее об активном процессе присвоения, интерпретации и переинтерпретации полученных культурных возможностей.
Джудит Батлер[147]
Все же даже в самых первых сценах фильма Бауэр показывает, что Вера представляет из себя нечто большее, чем этот окаменелый образ женственности. Поразительно, как помимо акцентов на инкультурированной «сконструированности» Вериной личности ее состоянии «имманентности», в котором она находится, помимо всего этого определенного мужским взглядом образа, Бауэр заботится и о том, чтобы разными средствами отобразить Верину неудовлетворенность собой и своим нынешним положением. Так, Цивьян проанализировал, как во вступительной сцене Бауэр использует свет и создает атмосферу – и, в частности, метафору «сумерек» в заглавном титре, – чтобы пробудить в Вере состояние подавленности, чувство социальной отчужденности и разочарованность от замкнутой пустоты собственной жизни. Более того, несколько раз Бауэр заставляет Веру подойти к большому окну в ее спальне: она широко растворяет ставни, позволяет свету проникнуть в комнату, а сама вглядывается в мир по ту сторону. Символизм очевиден: Вера хочет сбежать из клаустрофобных чертогов, стать чем-то и кем-то большим, чем красивый заточё́нный объект. Она хочет исследовать мир за окном своей спальни. Она жаждет – вновь пользуясь терминологией де Бовуар – «трансцендентности».
