Право. Порядок. Ценности
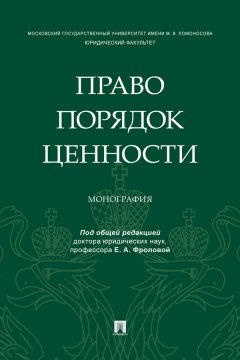
Редакционная коллегия: Фролова Е. А. (председатель), Жуков В. Н., Козлова Н. В., Корнев В. Н., Масленников Д. В., Митов Г., Степаненко Р. Ф., Стоилов Я., Гройсман С.
Рецензенты: Сафонов В. Е., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории права и государства Российского государственного университета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации; Вълчев Д., доктор права, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права, декан юридического факультета Софийского университета имени св. Климента Охридского (Болгария).
Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Е. А. Фроловой.
© Коллектив авторов, 2022
© ООО «Проспект», 2022
Введение
Замысел данной монографии – показать значение правового феномена как одного из факторов создания порядка в обществе. Интерес к этой проблематике возник в ходе обмена мнениями с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Краснодара, Ижевска, Софии, Велико-Тырнова, Нур-Султана.
Тема понимания правового порядка, конечно, не нова – со времен античной философии вопросы назначения права и оценки его эффективности находятся в центре внимания мыслителей. Не потеряли они своей актуальности и в XXI веке. Жизнь в обществе регулируется различными социальными нормами, но право есть регулятор, с которым в наибольшей степени связываются надежды на создание устойчивости социума. Этим качеством объясняется значение права и как культурного блага.
Порядок и стабильность в социуме – системообразующее звено любого типа государства, однако понятийного единства здесь нет, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, общество неоднородно, оно представляет собой конгломерат социальных групп, отношения внутри и между которыми различны, а потому и оценки состояния устойчивости в обществе разные; во-вторых, способы достижения социального порядка тоже могут быть различны (подавление и принуждение, политика компромиссов, мирное сосуществование, единомыслие и др.).
В понимание правового порядка вкладывается различное теоретическое содержание. Правопорядок выступает формой общественного порядка, целью и итогом правового регулирования. Г. Кельзен отождествлял право и государство, считая их принудительным порядком. По его мысли, правопорядок представляет собой безоценочный социальный порядок, очищенный от неправовых (моральных, идеологических, религиозных и др.) элементов. М. Вебер наполнил понимание правопорядка эмпирическим содержанием. Нормативный и эмпирический подходы к правовому порядку закрепились профессиональным сознанием юристов и философов, получив научно-практическую ценность. Авторы монографии исходят из того, что при решении конкретного юридического случая правоприменителю необходимо исходить из смысла правового порядка в целом, не ограничиваясь анализом только лишь отдельной нормы права. Кроме этого, эффективность правопорядка во многом определяется качеством законодательства, которое должно отражать требования социальных норм и отвечать потребностям общества.
Тема правового порядка охвачена в монографии в широком смысле: в философском, общетеоретическом, историческом контекстах, в рамках отраслевой юридической догматики. На концептуальном уровне продемонстрированы противоречия, присущие праву, как идеи (Я. Стоилов, К. В. Агамиров), системы (В. Н. Синюков, М. Новкиришка-Стоянова, М. В. Воронин, С. Гройсман), юридической догмы (Н. Л. Пешин, Е. Панайотова, Н. Е. Борисова). Показано, что решение споров и конфликтов, предупреждение деяний, нарушающих спокойствие в обществе, кроме объективного судейства, предполагает принудительное осуществление принятых решений о восстановлении нарушенных прав, принуждение к исполнению невыполненных добровольно обязанностей, наказание правонарушителей (Г. Митов, А. А. Бережнов).
Право, как регулятор, действенно не только как средство решения существующих споров, но и для предупреждения возможных конфликтов (М. Матеев). Порядок общественных отношений включает в себя область сущего и сферу должного (О. П. Сауляк, В. Н. Корнев, В. М. Дуэль). На этом положении основывается представление о правовом порядке как о режиме устойчивости и предсказуемости (Б. Чернева). От права ожидают справедливости решений, предсказуемости отношений, стабильности правового порядка. Закрепляя право в той или иной форме, государство берет на себя ответственность за порядок в обществе. Если это сделать не удается – сначала меняется верховная власть в государстве, а затем – содержание права или способы его осуществления (Н. А. Шавеко).
Для устойчивого правового порядка необходимо, чтобы новые нормы права соответствовали реальному соотношению сил в обществе (И. В. Галкин), перспективам социального развития и были выражены в формах, доступных общественному правосознанию (Е. Л. Поцелуев).
Отдельное внимание в монографии уделено анализу догматического метода и развенчанию мифов юридического позитивизма (В. Н. Жуков), методологических особенностей юридической науки (В. С. Горбань), ее познавательной способности (С. А. Бочкарев, А. В. Пищулин), сравнительно-правовому исследованию языка и права, пониманию языка как первоосновы самоидентификации народа (Т. М. Пряхина), ценностному пониманию правового порядка (И. У. Аубакирова). Философско-правовое наследие отечественных авторов на страницах монографии раскрывается Л. В. Лукьянчиковой, Н. В. Кротковой, Г. Ф. Гараевой. Право как форма различения добра и зла в контексте юридической теологии и философии права – предмет анализа Д. В. Масленникова.
В условиях нестабильного состояния общества особое значение получают доктрина естественного права и социологические теории права (Р. Ф. Степаненко, Г. Н. Степаненко). Концепция естественного права задает масштаб для оценок действующего права среди членов общества, дает возможность выявить массовые социальные ожидания, возлагаемые на право, показывает уровень протестных настроений среди населения (Н. Киселова). Сторонники социологического направления видят в праве высоко специализированную форму социального контроля, осуществляемую на основе властных предписаний в рамках судебного и административного процесса (Е. Панайотова, К. Д. Лубенченко, А. В. Жигулина).
В монографии рефреном звучит мысль, объединяющая философов, теоретиков, конституционалистов, представителей отраслевых юридических наук, согласно которой отличительной чертой права является его продолжительный характер – с длительностью и предсказуемостью правовых предписаний связана стабильность общественных отношений (Е. Димитрова, Е. А. Фролова, Н. С. Малютин). На страницах монографии раскрываются теоретические аспекты соотношения правового феномена с другими формами социального регулирования (Р. Ш. Давлетгильдеев, Л. Т. Бакулина, Ф. И. Хамидуллина, А. Л. Шигабутдинова). Философы права Д. В. Масленников и В. П. Сальников обращают внимание на генетические отличия права и морали, подчеркивая, что содержательно эти социальные явления не противоречат друг другу, являясь результатом развития единой идеи абсолютного блага.
В числе основополагающих вопросов, исследуемых теорией права, обозначены проблемы соотношения законности и правопорядка (А. Г. Хабибулин, Т. Р. Орехова, О. М. Караташ, Л. Л. Сабирова), пределов правового регулирования (К. Р. Мурсалимов), оценки юридической силы нормативных правовых актов (О. Ю. Кузьмицкая), восполнения пробелов в праве, – вопросов, нацеливающих на создание в обществе устойчивого правового порядка.
Как ответственный редактор этой публикации я благодарю каждого члена авторского коллектива за живой отклик на предложение принять участие в работе, за творческий подход и помощь, оказываемую мне на всех этапах нашего взаимодействия. Отдельную благодарность выражаю нашим зарубежным коллегам: И. У. Аубакировой, Д. Вълчеву, М. Новкиришке-Стояновой, Я. Стоилову, Г. Митову, Е. Панайотовой, Н. Киселовой, С. Гройсману, М. Матееву, Е. Димитровой, Б. Черневой за деятельное участие в научном проекте. Моя глубокая благодарность всему коллективу издательства «Проспект» и персонально его генеральному директору – Леониду Владимировичу Рожникову. Большую организационную помощь при подготовке книги оказали Г. Н. Мельникова и К. С. Гришин, за что выражаю им сердечную признательность. И, конечно же, данный труд не состоялся бы без поддержки моих дорогих коллег по кафедре теории государства и права и политологии и Юридическому факультету МГУ имени М. В. Ломоносова, принявших участие в публикации в качестве авторов и (или) членов редакционной коллегии: В. Н. Жукова, А. Г. Хабибулина, Н. В. Козловой, Н. Л. Пешина, К. Д. Лубенченко, Т. Р. Ореховой, А. А. Бережнова, Н. С. Малютина, А. В. Пищулина, М. В. Воронина, О. Ю. Кузьмицкой, которых я искренне благодарю за советы и помощь при подготовке рукописи к публикации. Надеюсь, наш совместный труд будет востребован читателем.
Е. А. Фролова
Философия и история права
Догматический метод и мифы юридического позитивизма
Жуков Вячеслав Николаевич
профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, доктор философских наук
Догматический метод – главный для отраслевой юридической науки (догматической юриспруденции). Его главенствующая роль определяется природой права, а именно тем, что право является регулятором общественных отношений. Можно сколько угодно дискутировать о природе права, пытаясь отыскать ее в сознании, психологии или материальных отношениях, но ценность права определяется одним – его способностью регулировать общественные отношения. Прикладная сторона права – важнейшая. Если предположить невозможную вещь, что право утрачивает свою регулятивную функцию, его ценность снижается до нуля, и интерес к нему (практический и научный) полностью исчезает. Чтобы право работало, его нормы должны быть обращены к практике и сформулированы таким образом, чтобы адекватно отражать стандарты массового социального поведения. Если этого не случается, право не просто лишается своей ценности, оно перестает быть правом, т. е. утрачивает свою природу. Глубоко прав Р. Иеринг, утверждавший, что “техническое несовершенство права не есть лишь частичное несовершенство, не есть пренебрежение отдельной стороной права. Техническое несовершенство представляет собою несовершенство всего права, недостаток, тормозящий право и мешающий ему в осуществлении всех его целей и задач”1. Формализм права – не просто один из его признаков, формализм выражает его существо. Сформулировать норму так, чтобы она работала, это значит выразить природу права и его функциональное назначение.
Если оставить в стороне нюансы и оттенки в понимании догматического метода, то его суть сводится к тому, чтобы максимально формализовать социально значимое поведение, отразить его в системе норм и с их помощью осуществить регулирование общественных отношений. Чем тоньше, точнее и гибче будет сформулирована норма, тем эффективнее будет правовое регулирование. Догматический метод формируется в ходе практики, когда общество и власть методом проб и ошибок формулируют нормы права. Позднее он берется на вооружение наукой, предопределяя специфику последней. Еще классики юридической мысли XIX – начала XX в. указывали, что предметом исследования отраслевой юридической науки является позитивное право. При помощи догматического метода устанавливаются действующие нормы права, особенности их конструирования и взаимосвязи, выявляется внутренняя логика структуры позитивного права, выводятся общие принципы его организации. После того как юридическая наука создаст модель действующего позитивного права, свободного от противоречий и других недостатков, данная модель предлагается государству в качестве инструмента создания более эффективного и действенного права. Г. Ф. Шершеневич подчеркивает, что при использовании догматического метода “наука не создает новых правил, а только извлекает их из законодательного материала, придавая им свою обработку”2. Иначе говоря, догму права создает практика, а не наука, последняя ее лишь анализирует, систематизирует и совершенствует. Данная последовательность действий указывает на тот факт, что юридическая наука идет за практикой, опирается на практику и не мыслима без практики. Юридическая наука опережает практику только в том отношении, что, выявив логику позитивного права, предлагает проводить ее в жизнь более последовательно и организованно. Своей собственной инициативы, обособленной от практики, у догматической юриспруденции нет и быть не может. Догматический метод фиксирует глубоко инерционное положение отраслевой юридической науки, ее органическую неспособность выходить на какие-либо новые горизонты исследовательской деятельности.
Здесь встает вопрос о познавательных возможностях догматического метода. Можно ли вообще говорить о догматическом методе как методе познания? Как верно заметил Иеринг, “юридический метод не является чем-то извне занесенным в право, а напротив, требуемым с внутренней необходимостью самим же правом единственным способом верного практического овладения им”3. Юридическая наука, настаивал он, должна быть и искусством4. Иными словами, отраслевая юридическая наука ставит своей главной целью разработку на основе позитивного права такой догматики, которая способна привести к созданию эффективного права. В данном контексте вся отраслевая юридическая наука предстает не более как юридическая техника в самом широком смысле этого термина. Иеринг, например, понимал под юридической техникой две вещи: способ формальной обработки права и механизм его реализации5. Как представляется, это и есть основное содержание отраслевой юридической науки. В данном случае догматический метод – это не столько метод познания, сколько способ обработки позитивного права. Да, познавательный аспект здесь, конечно, присутствует (ведь нормы позитивного права надо установить, описать, классифицировать, выявить принципы их организации), но он оказывается подчиненным главной задаче – технической переработке позитивного права с целью повышения его эффективности. Познавательный и практический аспекты юридической техники настолько тесно связаны, что представляются почти тождественными, но с креном в сторону практики. Догматический метод есть метод познания во вторую очередь, а в первую – это способ практической, технической организации позитивного права. Догматический метод, а вместе с ним и вся отраслевая юридическая наука демонстрируют тот факт, что догматическая юриспруденция в первую очередь – искусство и только во вторую – наука. Ведь от юридической науки требуется в конечном счете не демонстрация познавательных возможностей и интеллектуальной высоты, а принесение практической пользы в деле создания эффективного права.
Догматический метод связан с философией права, но данная связь зависит от специфики школ и направлений. Философско-правовые концепции, опирающиеся на идеализм и религию, на умозрительные метафизические конструкции, используют догму права в минимальной степени. Для такого рода философии важно отличать право от любых других социальных регуляторов, и этим влияние догматического метода ограничивается. Философу-метафизику достаточно находиться на уровне обыденного сознания, понимая ту простую вещь, что право есть норма, за нарушение которой карает государство. Философ-метафизик может создавать грандиозные политико-правовые конструкции, уходя далеко в область абстрактной мысли, но данные конструкции всегда у него противостоят грозной эмпирической реальности – позитивному праву. Философия права, ориентирующаяся на позитивизм, нуждается в догматическом методе в гораздо большей степени, особенно когда речь идет о таком специфическим направлении, как юридический позитивизм. В данном случае философия права, как правило, полностью исключает из себя мировоззренческий компонент и обращается к догме праве как к единственному предмету своего исследования. Термин «философия» используется здесь в основном в духе О. Конта, как сумма позитивных знаний о действующем праве. Н. М. Коркунов и Г. Ф. Шершеневич называли такую философию права теорией права, подчеркивая тем самым ее антиметафизический, строго научный характер. В XIX–XX вв. направление в теоретической юриспруденции, ставящей своей целью дать обобщенный анализ юридической догматики, получило название аналитической философии права (Дж. Остин, К. Бергбом, П. Лабанд, Г. Кельзен, Г. Л. А. Харт и др.).
Юридический позитивизм (аналитическая философия) – направление неоднородное и по-разному толкуемое. Хотя разброс мнений и широк, большинство сходятся в том, что юридико-позитивистские исследования обращены к юридической догме. Вместе с тем в нашей литературе сложилась целая традиция понимания юридического позитивизма, содержащая недоразумения и грубые ошибки, вызванные академической групповщиной, идеологической зашоренностью, а то и просто юридической и философской неграмотностью. Вокруг юридического позитивизма сложилась своего рода мифология, которую необходимо развенчивать.
Миф первый: главный классификационный признак юридического позитивизма – признание тезиса, что право есть воля суверена.
Действительно, для родоначальников юридического позитивизма (Т. Гоббс, И. Бентам, Дж. Остин) право сводится к позитивному праву и в этом качестве представляет собой приказ государства. Данная посылка является исходной, своего рода аксиомой для любого, исследующего юридическую догму. Догма права – это факт реальности, состоящий в признании суверенитета власти, ее надзаконного характера. Суверенитет государства, по Ж. Бодену, проявляет себя в способности принять, изменить и отменить закон. Отраслевик или теоретик права, исследующий юридическую догму, осознанно или неосознанно всегда исходит из посылки, что норма позитивного права установлена властью. Вместе с тем признание факта, что позитивное право – приказ власти, мы находим не только в юридическом позитивизме. Данный тезис универсален, марксист, социолог права или экзистенциалист вполне могут повторить то же самое. Более того, этатистское понимание права характерно для обыденного массового сознания, это проявление здравого смысла, в известном смысле банальность, доступная любому профану. На такой исходной посылке большой теории не создашь, да никто этого особенно и не делает. Типичный юридический позитивист XIX–XX вв. занимается не обоснованием зависимости права от государства, а догматическим исследованием политико-правовых явлений. Главное в юридическом позитивизме – не исходная этатистская посылка (право – приказ власти), а метод исследования. Юридико-позитивистская платформа предполагает создание модели общественных отношений на основе применения догматического метода. Цель теоретика-догматика состоит в том, чтобы показать формально-логический срез социальных институтов, ценностей и принципов, входящих в сферу правового регулирования. Поскольку позитивное право – область должного, конечный результат исследования юридического позитивиста – создание умозрительной системы, где мир человеческих отношений представлен в формальном, абстрактном, логически не противоречивом виде. Так, основоположники баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) в основу классификации наук положили именно метод исследования: генерализирующий (поиск законов) для наук о природе и индивидуализирующий (описательный) для наук о культуре. Казалось бы, предмет может быть один и тот же – человеческое общество, но социология (генерализирующая наука) нацелена на отыскание в нем законов, а история (индивидуализирующая наука) описывает его конкретно-исторические явления и этапы.
Миф второй: догматический метод вырабатывается общей теорией права (в форме юридического позитивизма) и привносится затем в отраслевую юридическую науку, общая теория права (юридический позитивизм) является теоретико-методологической основой для отраслевых юридических наук и юридической науки в целом.
Данный миф, прочно укоренившийся в наших учебниках по теории государства и права, появляется в эпоху становления марксистско-ленинской общей теории государства и права. После известного Совещания 1938 г., когда А. Я. Вышинский дал “единственно верные” формулировки права, общая теория права официально назначалась главной по разряду юридических наук. Ее главенство мыслилось в основном в том, чтобы переводить марксистские догмы на язык юридической науки, вводя ее в идеологически правильное русло. По ходу дела была использована и общеюридическая догматика, разработанная еще дореволюционными юристами с целью создания общей теории права. Таким образом, советская теория права, включала в себя два компонента – идеологический и догматический, где первый был основным, второй – добавочным. Так задумывалось и так во многом претворилось в жизнь. В послесталинское время догматический компонент набирает вес, что нашло свое отражение и в учебниках. Общая теория права представляется как базовая дисциплина, призванная разработать понятийный аппарат и специальную юридическую методологию, в которой, как объясняли авторы учебников, остро нуждается отраслевая юридическая наука. Идеологическая функция теоретико-правовой науки оставалась, но главенство последней уже обосновывалось и с той точки зрения, что общая теория права – теоретико-методологическая база отраслевой юридической науки. После падения советской власти теоретико-правовая наука теряет свое главенство по части держателя марксистской истины, на первый план выходит собственно научный компонент. Казалось бы, теперь ничто не мешало общей теории права, освобожденной от диктата марксистской идеологии, проявить свое подлинное доминирование в юридической науке, но жизнь взяла свое. Без идеологической подпорки общая теория права резко потеряла свой академический вес и стала тем, чем она и была в дореволюционный период: скромной попыткой выработать догму, общезначимую для всех юридических наук. Тем не менее наши теоретики права продолжали писать: «Научные данные, вырабатываемые аналитической юриспруденцией и сводимые воедино общей теорией права, – не только первичная, но и базовая, фундаментальная основа всего комплекса юридических знаний, не имеющая альтернативы. Общая теория права сосредоточивает тот исходный и специфический для всего правоведения материал и ориентиры практической и научной значимости, которые являются начальной данностью и не имеющим замены “строительным материалом” для всего правоведения и без которых юридическая наука теряет свою специфику как особая и самостоятельная область человеческих знаний»6.
Сторонникам изложенной позиции следовало бы знать, что догматический метод и сама юридическая догма создавались задолго до возникновения общей теории права и аналитической юриспруденции (юридического позитивизма). Юридический позитивизм возникает во вторую четверть XIX в. (Дж. Остин) и оформляется в развернутую теорию в последней трети XIX – начале XX в. В этот же период возникает общая теория права, призванная преодолеть недостатки энциклопедии права и философии права. Она создавалась по преимуществу немецкими и русскими юристами в качестве комплексной общетеоретической и методологической дисциплины, включавшей в себя, как минимум, четыре компонента: исторический, социологический, философский и догматический. Общетеоретическая догматика создавалась на основе общей части отраслевых юридических наук с целью выработать единый понятийный аппарат и унифицировать подходы к общим проблемам. В отличие от общей теории права, появившейся чуть более 100 лет назад, догматический метод формируется в ходе практики еще в Древнем мире (особенно в Древнем Риме), а в эпоху средневековья благодаря глоссаторам и постглоссаторам постепенно становится достоянием юридической науки континентальной Европы. В период средневековья догма римского права творчески перерабатывалась под феодальные отношения, позднее – под буржуазные7. Рецепция римского права продолжалась несколько веков. На протяжении всего этого времени ее основой был догматический метод. Магистральное направление процесса рецепции – гражданское право, интенсивно разрабатывалась также догма уголовного, государственного, административного и процессуального права. Таким образом, догматический метод имманентно присущ отраслевой юридической науке, изначально ею востребован, выступает ее главным инструментом, без него догматическая юриспруденция утрачивает свои специфические свойства. Догматический метод и теория отраслевой науки представляют собой органическое единство. Когда юристы-отраслевики, юристы-философы и юристы-социологи прилагали усилия (каждый со своей стороны) в деле создания общей теории права, отраслевая юридическая наука уже существовала в разработанном, зрелом виде. Догматический метод переносится из отраслевой юридической науки в общую теорию права, но никак не наоборот. Отраслевик-догматик, стремящийся, опираясь на материал своей науки, выйти за ее пределы и перейти в сферу общей теории права, начинает применять догматический метод к гораздо более широкому кругу вопросов, чем принято в данной отрасли. Так это было с Шершеневичем. Кельзен и Харт, напротив, сразу стали заниматься общей теорией права, что в целом характерно для XX столетия (естественное следствие дифференциации наук). Отраслевику-догматику незачем обращаться к общей теории права, если он сосредоточен на своих, специфических для данной отрасли вопросах. Каждая классическая отрасль юридической науки (особенно гражданское право) имеет свой понятийный аппарат, свой методологический инструментарий, свои традиции, свою научную литературу. Отраслевая юридическая наука ничем не обязана ни юридическому позитивизму, ни общей теории права, тогда как обратного утверждения сделать никак нельзя. Теоретико-правовая наука и юридический позитивизм как ее разновидность и составная часть, напротив, опираются на материал отраслевой науки, используют ее понятийный аппарат и разработанный ею догматический метод.
Миф третий: в основе догматического метода и юридического позитивизма лежит философия позитивизма (или какая-либо другая философия)8.
Разумеется, в основе догматического метода нет никакой философии (в том числе позитивистской). Еще раз отметим, что догматический метод рождается практикой методом проб и ошибок, в его основе всегда лежала не философия, а практическая целесообразность и законы формальной логики. Шесть-семь веков, в течение которых производилась рецепция римского права, были посвящены совершенствованию юридической догматики, которая к XIX в. достигла своих зрелых форм. На протяжении всего этого периода догматический метод представлял собой набор технических средств, необходимых для стыковки юридических норм, принципов и конструкций с практикой. Догматический метод совершенствовался, но подводить под него философскую базу никто не торопился. В общем было понятно, что догматический метод необходим, его надо и дальше разрабатывать, но большой теории из этого факта никто не делал, юристы-отраслевики в основном занимались тем, что применяли догматический метод. Только Р. Иеринг во второй половине XIX в. попытался объяснить содержание догматического метода и системно его изложить. В этом деле он стал первым, предшественников у него не было. В дальнейшем появилось довольно много курсов по юридической технике, где авторы, опираясь на практику, в меру своего понимания раскрывали существо догматического метода.
С юридическим позитивизмом ситуация примерно такая же, как с догматическим методом. Тот классический юридический позитивизм, который мы знаем (Дж. Остин, К. Бергбом, П. Лабанд, Г. Ф. Шершеневич, Г. Кельзен, Г. Л. А. Харт), использует, конечно, какие-то философские идеи, но его существо определяется не ими, а догматическим методом. Так, Г. Ф. Шершеневич, по своим философским взглядам был позитивистом в духе О. Конта, Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера, но это никак не было связано с обоснованием им юридической догмы. Его “Общая теория права” демонстрирует классический набор методов, которые впоследствии будут взяты на вооружение теоретико-правовой наукой (исторический, социологический, философский, догматический). Происхождение, социальная природа, назначение государства и права даны с позиций социологии, тогда как темы формы и системы права, правоотношения, юридической ответственности изложены в догматическом плане. Шершеневич, написавший работу по социологии и высоко ценивший философию позитивизма и социологию, был категорически против того, чтобы социология и позитивистская философия проникали в ткань юридической догматики, в частности, в науку гражданского права. Ему было понятно, что позитивистскую социологию и догматику мешать нельзя, это могло привести к разрушению последней. Другой русский цивилист С. В. Пахман попытался обосновать юридическую догматику с позиций позитивизма, но вышла натянутая, ходульная схема. Было видно, что догма права самодостаточна и ни в какой философии позитивизма не нуждается. “Чистое” учение о праве Г. Кельзена еще более показательно. В своем фундаменте оно вроде бы построено на неокантианстве баденской школы (деление наук на нормативные и каузальные), но основное содержание создается не благодаря неокантианству. Главный метод, который использует Кельзен, – догматический, его труд – образцовый пример догматического изучения политико-правовых явлений. Философия неокантианства здесь не играет решающей роли. Юрист использует ее в качестве некоей фикции (мир должного, основная норма), дающей возможность далее проводить исследования в юридико-догматическом духе. Та же картина с Хартом: аналитическая (лингвистическая) философия (Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн и др.) есть только респектабельный фон, высказанные, а точнее, повторенные наспех идеи выдающихся философов, основное же содержание, например, “Понятия права” – догматические исследования политико-правовой реальности. Таким образом, теория (философия) юридического позитивизма прежде всего и в основном – это итог применения догматического метода, отдельные философские добавки (в виде позитивизма, неопозитивизма, неокантианства, феноменологии, аналитической философии), как правило, случайны и не меняют природу данной теории.
Миф четвертый: юридический позитивизм гипертрофировал догматический метод, блокировал изучение социальной и ценностной природы права, чем серьезно ограничил горизонт научных исследований; юридический позитивизм – описательная наука, дисциплина низшего теоретического уровня; юридический позитивизм вступил в полосу устойчивого кризиса9.
Критика юридико-догматического подхода в изучении права имеет в России давнюю историю. Она началась с конца XIX в. и велась тремя основными силами: юристами-социологами, юристами-философами, юристами-марксистами. Все они в той или иной мере признавали ценность догматического метода, но считали необходимым подчеркнуть его ограниченность. Юристы-социологи (С. А. Муромцев, Ю. С. Гамбаров, Л. И. Петражицкий) осуществляли критику с общенаучных позиций, полагая, что подлинная наука начинается там, где государство и право изучаются как социальные явления. Догматический анализ права, настаивали они, есть искусство, а не наука. Юристы-философы (П. И. Новгородцев, И. А. Ильин) усматривали существенный изъян догматического подхода в его игнорировании смысловых и ценностных аспектов права. Наиболее последовательной в этом отношении была школа возрожденного естественного права, провозгласившая необходимость возврата к идеализму и религии. Догматическое понимание права, с их точки зрения, мешало воспринимать право как нравственную и религиозную ценность, способную привести к духовному преобразованию России (после длительного господства позитивизма и марксизма). Марксистская критика (она берет начало главным образом после прихода к власти большевиков) в основном сводилась к тому, что догматический метод маскирует классовую природу государства и права, консервирует сложившиеся институты власти и действующий правопорядок, а значит, способствует укреплению системы эксплуатации. Так, теория государственного суверенитета, целиком построенная на догматическом методе, объявлялась ранними советскими юристами проводником буржуазной идеологии, поскольку камуфлировала классовую природу государства.
В советский период сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, новая власть, нуждаясь в эффективных средствах правового регулирования, активно занималась кодификацией, требовавшей применения догматического метода, с другой – критиковала последний за устремленность к деидеологизации юридической науки. Как представляется, данный абсурдный параллелизм воспринимался большинством научного сообщества юристов как нечто самой собой разумеющееся: догматический метод продолжал быть главным в отраслевой юридической науке, большинство исследований по общей теории права и государства было догматического характера (поскольку они были политически нейтральны, заниматься ими было безопасно), а сам метод критиковался за ограниченность, однобокость, неспособность дать анализ политико-правовых явлений с партийных позиций. В постсоветский период ситуация вроде бы меняется, но абсурда меньше не становится. Догматический анализ государства и права критикуется социологами права и философами права, они требуют выйти за рамки догмы, чтобы, как считают первые, приступить к исследованию социальной природы права или с целью, как полагают вторые, выявить метафизические основания политико-правовой действительности.
И в советское время, и сейчас к догматическому методу предъявляются претензии, которые к нему предъявлены быть не могут. Дать догматический анализ государству и праву не в узкоотраслевом, а в широком теоретическом плане – это весьма серьезная научная задача, которая далеко не каждому по плечу. Читая Кельзена или Харта, понимаешь, что имеешь дело с выдающимися умами, способными на базе юридических фикций создать грандиозные модели политико-правовой действительности при опоре исключительно на формальную логику. Социолог, рассматривая право или государство, отталкивается от фактов жизни, философ пытается объяснить политико-правовые феномены, опираясь на инструментарий какой-либо философской школы. В обоих случаях имеется богатый материал, которым можно оперировать. Эмпирическая база юридического позитивиста гораздо более скудная – это позитивное право, имеющее большую или меньшую степень систематизации. Задача теоретика состоит в том, чтобы, выявив логику позитивного права, создать на ее основе модель государства и права как единой непротиворечивой нормативной системы. Юридический позитивист стремится понять и выстроить логику государства и права, исходя из нормативной природы права. Кельзена часто называют неклассическим юридическим позитивистом, поскольку он отступает от базового принципа “право – воля суверена”. На самом деле “чистое” учение о праве – высокий классический образец юридико-догматического анализа, а сам Кельзен в этом смысле – классический юридический позитивист. Предъявлять претензии Кельзену или Харту, что они предпочитают догматическое исследование и игнорируют социологию или метафизику права, все равно, что предъявлять претензии поэту, почему он не пишет прозой, или прозаику, почему тот не пишет стихи. Исследования в области философии права, социологии права и догмы права абсолютно равноценны, каждое из направлений имеет свои специфические задачи, собственную методологию исследований, свои познавательные рамки. Критика юридического позитивизма с позиций социологии или философии права есть проявление методологической некорректности, нельзя брать критерии научности из одной отрасли знания и механически переносить их в другую. Юридико-догматический подход имеет свои, присущие только ему методологические особенности, их и следует анализировать, но с позиции так называемой аутентичной критики, т. е. находясь на теоретико-методологической платформе самого юридического позитивизма. Только в этом случае мы сможем получить адекватное знание о его познавательных возможностях. Если именно под таким углом зрения оценивать юридический позитивизм, то ни о каком его кризисе говорить не приходится, теория демонстрирует устойчивое развитие, привлекая все больше желающих попробовать свои силы в догматических исследованиях. О кризисе предпочитают говорить те, кто в силу узости своих интеллектуальных интересов не способен понять особенности юридико-догматического подхода и, соответственно, не готов к такого рода исследованиям.
Миф пятый: юридический позитивизм несет ответственность за апологию власти, за апологию авторитарных и тоталитарных режимов XX столетия10.
Обычно сторонники данной позиции приводят пример гитлеровской Германии и СССР. Так, известный юрист К. Шмитт дал догматическую трактовку политической системы Третьего рейха, а советские юристы (прежде всего представители теоретико-правовой науки и конституционного права) догматически обосновывали коммунистическую диктатуру в форме советской власти. Все это действительно имело место, но претензии, тем не менее, высказаны не по адресу. Если и предъявлять обвинения в теоретическом обосновании советского тоталитаризма, то это следовало бы делать в отношении социологов и философов права. Типичный советский социолог права всегда доказывал классовую природу государства и права, их связь с экономикой и политикой. Советская социология права сначала доказывала необходимость пролетарской диктатуры, затем – общенародный характер советского государства и социалистическую природу советского права. Марксистская социология права возвела партийность в ранг научного принципа, т. е. такой методологической установки, согласно которой научными являются все те положения, которые соответствуют интересам рабочего класса. Поскольку человечество движется к коммунизму, поскольку пролетариат находится во главе данного движения, поскольку борьба за интересы пролетариата есть борьба за лучшее будущее всего человечества, партийность и научность представляют собой методологическое единство. Примерно тоже следует сказать и о советском варианте философии марксизма, который встроил теорию государства и права в диалектический и исторический материализм. Так, проблему политического отчуждения предлагалось решать, идя по пути коммунистического строительства, создавая институты самоуправления и передавая им властные полномочия. Именно эта политико-юридическая демагогия и прикрывала всевластие партийного и советского аппарата и его руководителей. Вместо расширения демократии и приближения власти к народу страна все сильнее ощущала пропасть, отделявшую народ от партийной бюрократии.
Ничего подобного не было в юридико-догматических исследованиях советских юристов, особенно отраслевиков. Да, всегда делались необходимые ссылки на классиков марксизма-ленинизма, на решения партийных органов и выступления партийных вождей, но к существу рассматриваемых проблем все это имело мало отношения. Догматический анализ советского государства и советского законодательства по большей части находился вне политики, что и обусловило, кстати сказать, такое обилие работ в области общей теории государства и права догматического характера. Советские юристы, наученные горьким опытом, предпочитали не лезть в вопросы теории социалистического и коммунистического строительства, чтобы не оказаться “левым” или “правым” “уклонистом”. Область догматики – сфера в политическом отношении нейтральная. Советские юристы рассуждали примерно так: к власти пришли большевики, за ними стоит сила государственного принуждения, в стране господствует идеология большевизма, всякое инакомыслие могли расценить как проявление вражды к советской власти, поэтому лучше всего не лезть в политику, а заниматься своим прямым делом – создавать модель существующих социальных отношений в форме юридико-догматических конструкций. Здесь для советского юриста не было какого-то насилия над самим собой и своими принципами. Да, ему мог не нравиться советский тоталитаризм, но он делал лишь то, что требовала от него его профессия. До революции юрист создавал догму, отражавшую позитивное право Российской Империи, после революции работал над догмой, выражавшей принципы советского права и государства. Обвинять юриста-догматика в том, что он зарабатывал на жизнь своей профессией и при этом не стремился быть борцом с режимом, нелепо. Может быть, современные обвинители юридического позитивизма, в изобилии появившиеся на излете советской власти, не довольны тем, что юристы-догматики не проявили героических качеств, что вместо того, чтобы бороться с тоталитарным режимом и сидеть за это в лагерях, они просто занимались своим прямым делом? В этом случае этот упрек можно сделать и в адрес самих критиков, живших в советскую эпоху и не замеченных в диссидентском движении. Современные отечественные критики юридического позитивизма, по сути, стоят на позиции советской науки. Советские юристы обвиняли юридико-догматический подход в вуалировании классовой природы государства и права, современные его критики делают то же самое. Скрытая логика их рассуждений (явно об этом не говорится) сводится примерно к следующему: юрист-догматик вместо того, чтобы оформлять советскую действительность в юридическую догму и тем самым ее как бы оправдывать и легализовывать, должен был бы вскрыть фактическую природу советского режима, показав его тоталитарный характер. Иначе говоря, юрист-догматик обвиняется в том, что он не социолог и не философ права, что он при помощи юридико-догматических конструкций замазывает социальные и ценностные аспекты советской политико-правовой действительности. На самом деле юрист-догматик только выполнял свою работу, соответствующую его специальности.
Некоторые аспекты стабильности в праве Древнего Рима
Малина Новкиришка-Стоянова
профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Софийского университета имени Св. Климента Охридского, доктор юридических наук (Республика Болгария)
В статье представлены основные аспекты, связанные с концепцией и политикой стабильности права Древнего Рима и их реализация посредством различных правовых механизмов и в конкретных исторических эпохах.
И хотя тема данной статьи связана с правом Древнего Рима, я бы хотела связать ее с современной концепцией и требованиями предвидимости права. Данная проблематика, тесно связанная со стабильностью правового порядка, обладает все более актуальным и актуализированым звучанием. Европейская комиссия опубликовала 30 сентября 2020 года Доклад о верховенстве закона, обхватывающий весь ЕС, включающий констатации обо всех государствах – членах ЕС в связи с четырьмя основными столбами данной темы: национальные правосудные системы, регламентация борьбы с коррупцией, плюрализм и свобода СМИ и других институциональных вопросов, связанных с принципом взаимозависимости и взаимоограничений властей в системе демократического управления11. Целью данного Доклада является обобщение моделей и практик для преодоления вызовов в данных четырех направлениях, а также и для дополнительного укрепления верховенства закона при полном уважении национальных конституционных систем и традиций. И по каждому из четырех направлений Болгарии отправлены рекомендации12.
И в четырех направлениях на первом плане указана необходимость адекватной правовой регламентации, которая бы не только соответствовала общественным отношениям, но и гарантировала бы стабильность законодательства при соблюдении принципа верховенства. В то же время, при соблюдении принципа хорошего законодательства (beter regulation)13 акцентируется планирование, подготовка, согласование общественной основы и принятия политик, программ, стратегий и нормативных актов, согласуя и оценивая их ожидаемое воздействие. Речь идет об устойчивой и последовательной политике в законодательстве, о непротиворечивой регламентации в различных секторах экономики и общественной жизни, акцентов и приоритетах и др., специфичные для целого ЕС и для отдельных стран. Отмечаются требования преодолеть преграды и бюрократии, и облегчить административный натиск на граждан и бизнес, облегчить регуляционные механизмы, также и язык нормативных актов для единой практики общественных консультаций устойчивую и цифровую информацию, публичность деятельности администрации, доступ к защитным механизмам и др.
Констатации, рекомендации, требования, как будто затягивают нас в один словесный режим, из которого вытекают новые направления в отношении того, то надо делать, а не как надо делать и что уже сделано. И хотя, видно из национальных докладов стран – членов ЕС, в последующий период есть достаточно аргументов в пользу стабильности правового порядка и адекватного управления нормотворческим процессом. Но иногда разумно обратить внимание на некоторые более элементарные и прагматичные правила, появившиеся в Древнем Риме, которые сохраняют свою ratio iuris в почти двухтысячную традицию в правовой истории Европы.
Без предварительной и последующей оценки законодательства, с многочисленными изменениями, с удивительной пластичностью для реагирования на актуальную среду, в которой право должно вмешиваться – римские юристы завещали нам достаточно примеров, из которых можно извлечь позитивный опыт. Неслучайно они названы общим термином iurisprudentes14. Это были те углубленные знатоки права, но и его разумныe и осторожные толкователи, предвидящие пользы и последствия, объединяющие как научное знание, так и практический опыт, полученный на Форуме, в императорском совете или в императорской канцелярии. В то же время, особенно в период Республики и Раннего Принципата, они были и открыты для всевозможных консультаций и содействия как обычным римским гражданам, иностранцам, освобожденным, лицам из социальных низин, так и магистрата и Сенату15. Позже, система consultationes по толкованию и применению права, начавшая с постановлений Сената (senatusconsulta), развивается юристами в императорской канцелярии, которые придают им обязательную силу путем их оформления как императорские конституции16.
Римские iurisprudentes, подготавливающие проекты законов, сенатконсульты, эдикты, императорские конституции, консультирующие судей и стран процесса, императоров и губернаторов, обучающие тех кто должен стать их последователями – именно они дают нам много идей как регулировать общественные отношения, таким образом, чтобы стабильность правового порядка не фетишизировалась и не компрометировалась, а чтобы искался баланс между неизменностью и последовательность, необходимостью и вариантностью. В связи с этим я бы хотела представить только некоторые штрихи той необъятной деятельности, которая стоит в основе римского правового порядка, создаваемый на протяжении 14 веков, сохраненный в разной степени в последующие исторические периоды, в большей степени в своих основных принципах и нормах, и который может быть полезен и в наши дни.
В настоящий момент все чаще ставится на дискуссионный подиум понятие о публичной власти о разделении властей, о влиянии демократии на их, о необходимых переменах в их соотношении, реформах на сех уровнях и пр. Для римлян власть являлась управление – не случайно для государственного управления использовался термин gubernatio, чье первоначальное значение было управление кораблем. Может быть с присущей древним народам метафоричностью общественные отношения действительно были похожи на море, в котором умело следует направлять государственность17.
Наряду с этим власть является силой и мощью – что отражено в терминах imperium и potestas. Для римлян она реализовалась не только силой оружия и насилием, но, в первую очередь, силой закона. Дискуссионным является мнение юриста ІІ в. Публия Ювентия Цельса, автор всеизвестного определения о праве как искусство добра и справедливости, который прямо отмечал, что знание закона состоит в соблюдении его силы и власти, а не в его буквальном толковании:
D. 1.3.17 (Celsus libro 26 digestorum) Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
При толковании данной максимы подчеркивается, что речь идет не столько о применении закона, сколько об изучении и знании законов(scire leges). Это рассматривается как одна логически открытая деятельность, которая требует познание целостной ситуации, повлекшая за собой необходимость в принятии данных норм, политической воли в конкретном моменте, предопределяющая цель правовой регламентации, которая может и не быть выраженной самым адекватным языковым способом. Это не означает полное отдаление от буквального и грамматического толкования норм, а скорее известный корректив, когда они могут толковаться неоднозначно или его словесная формулировка ведет к ambiguitаs. В этом смысле косвенно Цельс определяет основную задачу iurisprudentes толковать, комментировать и уточнять закон, направляя применение позитивного права судьей в сторону, соответствующей воле законодателя18. При этом, однажды установленная данная логическая связь, возможно посредством позиции юристов с ius publice respondendi, не следует искать в применении права другое толкование.
В этом же смысле компиляторы Юстиниана включили в мнение Цельса, вновь из его Дигестов, что законы следует толковать благосклонен (благоприятнее) для их адресатов, при этом сохраняя их действительную волю и смысл19:
D. 1.3.18 (Celsus libro 29 digestorum) Benignius leges interpraetandae sunt, quo voluntas earum conservetur.
В теоретическом плане римские юристы как будто ставят начало доктрине теологического токования. Но следует иметь ввиду особенный, значительно отличающийся от современного способа формулирования правовых норм и редактирование законов, требующий данное толкование20. Это дает приоритет реалистичному перед формалистичным интерпретирующим подходом и открытая для любых изменений и дополнений система римского права, достаточно, чтобы в пользу этого были аргументы per utilitatem publica. Если следовать строгому яыковому значению нормы, то уменьшение толквания до точной терминологии и фразеологии ограничило бы юристов в лингвистических границах в полом противоречии с концепцией в связи с их деятельностью углубленных знатоков права, с одной стороны, и его осторожных и разумных интерпретаторов, с другой стороны. Несмотря на то, что принимается идея беспристрастного применения закона, не следует это делать механически и вне конкретного политического, социального и экономического контекста. Вместе с этим, при предложенном методе толкования, римские юристы ставят на первый план анализ ожиданий последствий и эффектов от применения закона, что следует взять во внимание еще перед самим применением закона.
Использованные три правовые понятия – vis, potestas, voluntas представляют три уровня для определения смысла закона и его действия. Они целиком поставлены в публично-правовую сферу. Акцент обязательного характера норм и их соблюдение связан не столько с его лексическим выражением, сколько с действительной волей нормотворческого органа заданной правовой регламентации, зависящая от конкретных обстоятельств, которые оказывают на нее влияние и целей которые он преследует, предвидя эффект данной регламентации. В этом смысле римские юристы, а также императоры создали значительно более либеральную позицию для интерпретирования, которая соответствует казуистическому характеру позитивного права. Она является резонным связующим элементом между актами, принятыми соответствующими нормотворческими органами и толковательными мнениями юристов с ius publice respondendi 21. Тенденция к созданию данного нормативного единства появляется еще в начале Принципата с предоставлением этого права (или привилегией самых видных юристов ex auctoritate principis22). Она может толковаться и как аргумент Юстиниановых компиляторов сохранить ее в Дигестах с целью связывания Кодекса и Дигестов в единый Corpus iuris.
В нормотворческом процессе римские юристы делают акцент на хорошее познание отношений которые подлежат регулированию пред созданием закона, с которым будет связан целая общность римских граждан, включительно и сакрально-этическим способом, а не только правовым принуждением. Таким образом, спустя сто лет после Цельса, классический юрист Эмилий Папиниан определяет закон как общее предписание, созданное самыми великими знатоками права которое представляет общий торжественный обет перед государством, названная res publica:
D. 1.3.1 (Papinianus libro primo definitionum) Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.
И в двух текстах неявно содержится идея стабильности и неизменности законодательства, подтвержденная и Ливием, который твердил: “Закон глух, неумолим, он является спасением и добром, скорее, для слабых, чем для сильных, он не знает ни снисхождения, ни пощады для тех, ко его натушил …” 23. Закон является гарантией против произвола, против политики, эмоций, индивидуальных амбиций и случайных ситуаций.
Это и есть концепция, воспринятая повсеместно в конце Республики и в начале Принципата, когда Ливий создавал свою Историю Рима, на которой крепится res publica. Данный текст не следует рассматривать изолированно, потому что в нем Ливий отражает противопоставление воли общности римских граждан, с одной стороны, выраженная в lex, которые должны быть беспристрастными и одинаковыми по отношению ко всем, и воле рекса, с другой стороны, который может быть неоправданно жестоким и может нарушать законы или может проявлять милосердие и пристрастие. Согласно современным толкованиям здесь проявляется связь с концепцией Платона, который ссылается на софистов, в основном на Каликулу, которые считают, что законы созданы слабым большинством, и они создали их для своей пользы. У софистов впервые встречается противопоставление законов природе, воспринятые позже римлянами как естественное право и созданные законы людьми. Естественное право они считают неизменным правом сильного, так как в природе то, что сильнее и лучше, выживает.24
В связи с этим обычно цитируется максима “Dura lex sed lex”, которая и выгладит римской, но воспринимается созданной в ХІ в. как принцип канонического права, сформулированный Buchard, эпископом Worms. Использованное определение ” durus” обладает минимум 15 значениями, согласно авторитетных словарей латинского языка – суровый (в прямом и переносном смысле), твердый, строгий, могущий стабильный, отвесный, пристальный (о взгляде), острый, резкий, жесткий, тяжелый, опасный, неприятный (о голосе, знаке), грубый и пр. В зависимости от ракурса, с которого рассматривается данный закон, или, как сейчас принято говорить – регуляция, инструмент, каждое из этих определений может быть подходящим. С уверенностью можно сказать, что римляне завещали нам идею стабильности закона и пластичности права.
Задается вопрос о воплощении властного предписания в законе. Если он, как твердит Панианин, является результатом достигнутого консенсуса и выраженной общей воли народа, то задается вопрос о том, как бы вписалась данная позиция в отношении к императорским конституциям. Потому что, как в эпохе Северов, когда жил данный видный юрист и императорский сановник, так и в VІ в., когда создаются Дигесты, leges не являлись уже комицилярными актами, а императорскими постановлениями – как нормативным характером (edicta, lex generalis), так и в качестве толковательных мнений (rescripta, epistula), административных предписаний (mandata) или судебных решений (decreta)25. Объяснение этому состоит в систематическом связывании цитированных выше максим титула под номером ІІІ книги І Дигестов, посвященная законам, сенатконсультам и обычаям (De legibus senatusque consultis et longa consuetudine) с этими из титула под номером ІV, в котором включены мнения классических юристов об императорских конституциях(De constitutionibus principum). Таким образом, Ульпиан подчеркивает приравнивание императорской воли к воле народа, ссылаясь на концепцию за translatio imperii:
D. 1.4.1 (Ulpianus libro primo institutionum) pr. Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.
1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus.
Во втором тексте, пусть и как реализация императорской воли, Ульпиян делает акцент на деятельность юристов, привлеченные в consilium principis еще в І в. и в последующих веках, а позже и в императорской канцелярии. Там самые видные юристы тщательно дискутируют как о предлагаемых императором реформах, так и об отдельных типичных случаях или об отдельных законодательных мерах.26 императорская канцелярия подготавливает полностью все акты – как с нормативным, так и с индивидуальным толковательным или судебным характером27. Вопреки их разнородности, они распределены в отделы (scrinia), в которых обрабатываются жалобы и запросы, создаются инструкции для администрации, толковательные конституции, эдикты и все то, что организовано в императорском архиве28. Сохраненное императорское законодательства, всключенное в двух кодексах – Феодосиевом и Юстиниановом, дает нам представление о строгой организации, которая в большинстве случаев успешно создает каналы для огромного потока деятельности по приложению и созданию права. Невообразимый объем данной деятельности неизбежно ведет к кодификационному процессу – в начале частных компиляций Codex Gregorianus Codex Hermogenianus, а после и двумя официальными кодификациями, дополненными компиляциями толковательных мнений юристов, систематизированные в Дигестах.29
В целой истории римского права реализуется тенденция, чтобы нормы создавались после анализирования и обобщения практики – административной и судебной. Часто они предшествовались публичным дебатом в более широком или тесном формате. Во время Республики он проводился перед внесением проектозакона или плебисцита магистратом в национальных собраниях, а также являлся частью политической деятельности магистрата. Август вводит в императорском совете (Consilium principis) обсуждение каждого его нового предложения, независимо от его правовой формы – закон, плебисцит или сенатконсульт. Данная практика продолжается в период целого Принципата и во время Поздней империи, пусть и consistorium обладает более ограниченной компетентностью и реальными функциями 30. Значительная роль юристов в условиях императорской власти во многом отличается от их роли во время Республики, но в принципе, они являются проводниками политики и стоят в основе механизма осуществления публичной власти31. Процесс перехода от преторского эдикта, которым осовременяется и адаптируется действующее право согласно utilitas publica к императорскому эдикту и эдикту провинциального управителя или преторианского префекта, происходит постепенно и не без сотрясений. В целом, это радикальная перемена от либеральной к императорской юриспруденции, которая осуществляется на протяжении несколькох столетий 32.
У римлян есть своеобразный культ уважения к стабильности закона, противопоставленный пластичности права. Законы не отменяются и это не является проявлением только традиционализма и консерватизма, а, скорее, является восприятием всего, что созданно органами публичной власти как правового патримониума римского народа. В данном контексте становится понятным почему Папиниан подчеркивает, что неоходимо знать силу власти закона. В сочинениях юристов, соответственно в их сохраненных фрагментах в Дигестах включены ссылки на leges regiae и на Lеx Duodecim tabularum, т. е. на законодательство VІ-V в. до. Хр., пусть и нормы устарели и in desietudine. Данное обстоятельство не может препятствовать реализму, когда необходима актуализация старых строго ритуально-формальных норм, заполнению пропусков в регламентации или полностью новой регуляции. Это и является целью создания преторского эдикта, посредством которого осуществляется основное предназначение преторского права, которое бы помогло дополнить применение старого и формалистического гражданского права, а если необходимо – per utilitatis publica, изменить его:
D.1.1.7.1. (Papinianus libro secundo definitionum) Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam.
Таким образом, преторы, отзываясь на актуальную необходимость данной регламентации, оценивают ее пользу и каждый эдикт республиканской эпохи вплоть до кодификации Edictum perpetuum во ІІ в. после Хр. содержит и неизменную часть, и новые нормы, превращаясь в “живой голос гражданского права” (viva vox iuris civilis):
D. 1.1.8 (Marcianus libro primo institutionum) Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis.
Но увлеченныe позитивистскими рассуждениями об эдикте как нормативном акте, часто забываем о том, что преторское право создается в связи и ради применения права. Оно не содержит нормы со смыслом современной правовой доктрины, а правовые средства, при помощи которых применяются существующие нормы, если это необходимо, адаптируются к новым отношениям. Данная идея воплощена в классическом определении о regula, которое многие авторы переводят как “правовая норма” или синонимом к слову “правило”. Пауль подчеркивает:
D. 50.17.1 (Paulus libro 16 ad Plautium) Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.
Именно на основе данной концепции о regulae и создан последний титул книги 50 Дигестов, озаглавленный “De diversis regulis iuris antiqui”. Юстиниановые компиляторы посчитали необходимым включить не только разделенную по материям интерпретирующую практику римских юристов с ius publice respondendi, но и те непостоянные regulae, у которых независимо от их древнего происхода, есть свое место и в праве VІ в. после. Хр. Это и есть титул, который ясно демонстрирует стабильность правовой регламентации, благодаря которой римское право долговечно.
Если вернуться к традициям за неотменимостью созданных в ходе исторического развития норм, в эпоху Принципата начинается накопление как императорских конституций, так и мнений юристов, уполномоченные отдельными императорами ius publice respondendi и толкующие как республиканские законы, сенатконсультанты и эдикты, так и новое законодательство. Лавинообразный процесс накапливания и распространение законодательства, ведут к различным опытам структурирования правовой материи с целью элиминации устаревших и непригодных норм, а также систематизации тех, у которых есть более прочный или универсальный характер. Матрицей такого “самообновления” права является преторианский эдикт, который согласно принципам формирования претуры, может быть ежегодно пересмотрен и обновляем мандатом новых преторианцев. Такая же ситуация и с эдиктом курульской эдилов33. Со стабилизацией провинциальной системы и централизацией власти, с одной стороны, данные изменения продиктованы необходимостью правовой защиты, что ведет к их постепенному маргинализированию. С другой стороны, своеобразная законотворческая функция преторианце постепенно переходит к императорам, у которых есть обобщенная информация о применении права, и власть для оценивания необходимых изменений, которые бы оказывали влияние на его развитие, ввиду проводимой им политики. Это и легло в основу кодификации Edictum perpetuum, в котором обобщаются опыт, накопленный при создании правовых средств для защиты как публичноправовых и частноправовых отношений 34.
Плюрализм источников права, а также специфика при формулировании норм, сохранение актов предыдущих эпох, включительно когда ими осуществляется временное или однократное вмешательство для достижения определенной политической, социальной или экономической цели, все сместе направлено на защиту процитированной выше максимы и правил толкования законов или в глобальном плане, для толкования позитивного права вцелом. Что со своей стороны окрывает путь для толковательной деятельности императоров, которая без того, чтобы отменять уже существующие нормы, считая их «неприкосновенными” благодаря передаче власти народом непрерыцтщ от одного императора к другому, разрешает конкретные ситуации или дает более устойчивое интерпретации типичным случаям. Можно предположить, что это и есть логика их сохранения в Дигестах.
Наряду с этим постепенно растет необходимость пересмотра целого нормативного массива, в преодолении противоречий, построений или лишних и непригодных правил. Опыты систематизации императорских конституции конца Принципата и начала Домината, включительно и мнений юристов lex Allegatoria35, а также и создаваемые частныe компиляции, все сместе предшествует кодификационному процессу. В сборниках с нормативными актами Поздней Античности есть существенная разница в зависимости от того, кто их создал и какие у них цели. Так называемые компиляции с императорскими конституциями конца ІІІ – начала ІV в., названныe именами их составителей – Codex Gregorianus и Codex Hermogenianus36, не являются официальными, не смотря на то, что созданы юристами в императоеской администрации и. вероятнее всего, с рекомендациями императора, распространялись официально и пользовались на всех уровнях администрации и правосудия. Также с практической целью, но по частной инициативе, независимо от позиции составителя в госапарате, в этот же период или чуть позже созданы другие сборники на более низком уровне по подбору и автентичности норм – в них, скорее, адаптированы основные мнения юриспруденции, касаемыe правосудия. Они стали антонимами и позже получили от свои х исследователей условное наименование – Fragmenta Vaticana, Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, Libro Syro-Romano. К ним обычно относят и Collatio37. Данный процесс, предсшествующий официальной кодификации, которая концептуально оформляется с точки зрения новой реальности в позитивном праве – унификация действующих в предшествующие периоды правовые системы (ius civile, ius honorarium и ius gentium), постепенно постигнутая посредтсвом императорского законодательства и судебной практики, комментированная юристами с ius publice respondendi.
Систематизация права Древнего Рима имеет свои корни еще в Античности, при обобщении, так назваемых leges regiae ius Papirianum38 и в Ранней Республике в Законе Двенадцатых таблиц (lex Duodecim Tabularum)39. После продолжительного периода, на протяжении которого еще в конце Республики придуманы, но не реализованы проекты кодефикации гражданского права40, император Адриан поручает известному юристу, высшему сановнику Сальвую Юлиану осуществить со своей командой кодификацию преторского эдикта, создавая, так называемый, Edictum perpetuum41.
Кодификационный процесс в Риме не является стихийно возникшим, также и не является единственным для “народа права”. Все древние народы в определенный период своего развития осуществляет такое обобщение действующего права, в основном в периоды консолидации власти и создания единного законодательства для объединения резных этносов, религий и пр. на территории данного государства42. Идея о стабильности норм, включенных в данные сборники, следует из самого названия codex (caudex), а у лексемы есть свое развитие из первоначального значения ствола, бревна через накопление деревенных табличек, наповерхности которых и делались записи частных или публичных документов до того, как стали собирать свитки законов, официально названные сodices. Данный процесс осуществляется в основном в Поздней империи и связывается с установлением абсолютной императорской власти, но он предшестван рядом событий политического, социального и экономического развития из эпохи Августа и последующих периодов. Не на последнем месте находится создание концепции о верховенстве законодательной власти императора. То, что он издает, имеет силу закона и этом состоит сам закон – независимо от того идет ли речь об общих нормах, судебных решениях, инструкциях для администрации или токловательных мнениях43:
D. 1.4.1 (Ulpianus libro primo institutionum) pr. Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. 1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus.
И если в начале V в. кодификации обобщают право “такое, какое оно есть” (ius quod est), применяемое в практике и с извлеченными и обобщенными правилами per publicam utilitatem, то Феодосий ІІ в указывает связать сборник императорских конституций времен Константина и последующих периодов сос стабильными толкованиями в практике, объединение терминологии, обобщение основных теоретических принципов и норм44.Исполнение такой задачи к началу данной эпохи комиссиями, состоящие в основном из императорских служителей, пусть и самыми опытными юристами, является непосьлной ношей, более того есть и серьезные различия в законодательствах императоров Восточной и западной части империи45. Во время данной эпохи на передний план уже не стоит авторитет ученых, которые преподают право, и дают письменные толковательные мнения по конкретному делу. Очевидно, что собранное огромное количество литературы затрудняет исполнение императорского приказа, касающего обобщение и «актуализация» толковательной практики. В 438 году в Константинополе и в 439 году в Риме утверждена компиляция инераторских конституций, то есть позитивного права, несмотря на то, что некоторые конституции (рескрипты и эпистулы) имеют в основном толковательный характер. В конституциях Феодосия ІІ и Валентиниан ІІІ от 26 марта 429 г., когда ставятся цели кодификации и определяются задачи составителей46, решается, что будут действовать только включенные в кодекс конституции и только кодекс будет передан для преписи, распространения и использования всеми судами в обеих частях Империи. Считается, что это является первым шагом к концепции о стабильности и неизменности содержания кодификации, которая воспринята и расширена только столетие после Юстиниана.
Существуют множество исследований о сопоставке как способа составления, так и содержания, законодательной политики, приложние и значение Феодосиевого и Юстинианового кодекса47. К поставленной в 429 году задаче о кодификации iura (юриспруденции и практики) и leges (императорских конституций) подготовка шла столетие. Она является результатом трудов практикующих юристов, чьи имена остаются неизвестными, так как упоменаются только самые высшие сановники – юристы императорской кацелярии и императорского совета, правовые советники императора и магистры скринов, также и преподаватели Бейрутской и Константинопольской школы. Вероятнее всего, многочисленные группы работали под руководством номинированных комиссий по составлению Кодекса и Дигестов, чтобы успеть не только обобщить универсальное и непротиворечивое классической римской юриспруденции, и синхронизировать императорские конституции, создать системное разделение материи, номинация титулов, создание максимально объединенную терминологию, с необходимыми объяснениями и обязательными правилами и др. 48.
Вместе с этим Юстиниан указывает исполнение и одной третьей задачи – создание нового рационального учебного плана и обязательного учебника с основами права (Institutiones), которым бы завершить реформу права и правового образования. Начало единства между действующим правом и обучением будущих юристов поставлено с утверждением обязательного учебного плана в конституциях OMNEM от 16 декабря 533 г., с которой начинается создание Дигестов. Очевидно, что акцент. который поставлен на преподавании и познавании права 49, а это со своей стороны требует его стабильности и непротиворечивости, которая считается исполненной двумя основными частями компилации – Кодексом и Дигестами.
Особенно ясно политика стабильности в праве как основа государственности, выражена в начале известной конституции, адресованной к “молодежи, посвятивщей себя праву” – CUPIDAE LEGUM IUVENTUTI 50. С известным пафосом он указывает, что императорская власть основывается не только на силу оружия, но, в первую очередь, на законы, для лучшего управления государством и во время войнычтобы и во время войны, и во время мира. В качестве основной задачи императора, указано восстановление справедливости и строгое соблюдение законов51. В связи с этим он обращается к студентам по праву, которых призывает изучать и “обнять законы с отличительной страстью”, чтобы подготовиться к управлению государством в тех областях, которые им доверены52. Очевидно, что укрепление самочуствия, мотивации и воспитания будущих юристов в уважении и даже преклонии перед правом, также и создания ожиданий об императорской службе после окончания двух основных правовых школ – в Константинополе и в Бейруте..
Несомнено, компиляция Юстиниана, часто называемая и кодифицикация (ввиду негативного оттенка понятия компиляции в современных языках в значении собранных воедино элементов) представляет собой единный корпус, объединяющий позитивное право, толковательную и судебную практику и дидактический процесс53. Существует значительная дискуссия о том, в какой степени реализуется намерение императора установить таким образом неизменность и стабильность права на территории целой империи. Основным моментом является многократное толкование позиции Юстиниана в романистике запретить всякого рода комментарии и изменения в его кодификации после ее официальной публикации и вступления в силу всех ее трех частей. Это указано в § 12 Конституции, касающей составление Дигестов – Deo auctore 530 г. и в § 21 Конституции Tanta54, посредством которой они вступают в силу в 533 г. Запрет адресован к iuris peritеs, термин, которым называют “создающих право”, то есть юристов с iuspublice respondendi, обобщающих практику в regulаe iuris, и в других своих сочинениях, и посредством своих мнений обязуют судебную практику 55. Речь идет о значительных противоречиях между данными мнениями, которые преодолены компиляторами, прилагая для этого большие усилий, также упоминаются и множество сокращений и обобщений, которые отредактированы индивидуальной позицией и пр. Запрет относится как к действующи юристам, так и будующим, но допускается единственное изключение, касающее перевода Corpus’a на греческий язык и некоторых обобщенных в начале титулов, называемых пратитлами (впрочем, в 530 году они были под запретом, но резрешены компитяторами в 533 году, очевидно, после анализа их необходимости). В качестве плохого примера дана подмена комментариями правил в Edictum perpetuum. С мыслями о судьбе права, Юстиниан постановил, что каждое изменение в тексте какой бы то ни было части компиляции, будет наказываться как особо тяжкое преступление о фальшификации – crimen falsi и полное уничтожение написанных книг (falsitatis rei constituantur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur). В конце § 21 Конституции Tanta указано, что император является единственным создателем и толкователем, законов (…ex auctoritate augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari) и только к нему судьи могут обращаться в случае неясноты или противоречия практики56.
Данные тексты являются объектом различных толкований. С одной стороны, культ права, воспринимающееся как единство между публичными и частноправовыми правилами, а также и как монолитный корпус позитивного права и юриспруденции, декларирован многократно во вступительных конституциях трех частей компиляции. В законодательстве Юстиниана после 533 г.57 реализуется его указанная эксклюзивная роль законодателя и толкователя права. Вместе с этим поставлен вопрос: запрещает ли император законотворчество. Некоторые авторы считают, что речь идет не только об отдельных сочинениях, сколько о комментариях, изменениях, дополнениях(indices) или использовании греческих терминов в самом тексте или сбоку в трех частях компиляции, разумеется, с благородными намерениями помочь практике58. Основной аргумент следует из техники распространения книг с правовым содержанием в VІ в., когда техника переписывания в большинстве случаев может привести к подобной путанице и несоответствиям. С целью узаконить оригинальность текста, который будет распространяться в значительном объеме, с целью быть на расположении судей и администраторов, Юстиниан вводит данные строгие правила. Данный тезис не является communis opinio, ибо со следующей эпохи сохранены сведения о множестве комментариев и самостоятельных сочинениях, что не оказывает серьезного влияния на сохранении оригинального содержания компиляции.
Установленные в начале Принципата отношения между императорами и юристами, чья деятельность является либеральной в условиях нереспубликанского режима, постепенно меняются Iusrisprudentes из вещих знатоков права и уважаемых свободных мыслителей и профессионалов за несколько столетий превращаются в urisperites, связанные с императорской волей, включенные в Consilium principis или занимающие высшие должности в императорской канцелярии. Они уже не выражают свое личное мнение по данному вопросу, а оно воплощается в акте императора и, таким образом, получает правовую силу59. Данная своеобразная “анонимность” постклассических юристов является результатом именно централизации законодательной администрации и судебной власти в руках императора, но и единственнным выходом к объединению и стабильности права в одном государстве, объединяющее огромную территорию, различные этносы, правовые системы, обычаи, практики.
Механизм публичной власти в трех ее измерениях (потому что, обсуждая ту далекую эпоху, не следует говорить о разделении властей в том смысле, который воспринят в современности) приводится в движение юристами, которые “дают жизнь” безжизненной, твердой, неотменимой государственной воле. Они анимируют право для того, чтобы оно обняло живые отношения людей, регулировало их и менялось согласно их желаний и польз, синхронизированные с пользами res publica. Невидимые рычаги их творчества внешне проявляются именно в императорский конституциях, и хотя вместе с составлением Дигестов придается правовая сила и их сочинениям с толковательным характером, которые не только являются источником сведений о развитии римской юриспруденции, но и позволяют проследить эволюцию терминологии в разные исторические эпохи до VІ в.
Каждая власть содержит в себе идею реформ. Настроенные на этимологическую волну, нельзя не отметить, что термин, с латинским происходом означает “придание новой, различной формы”, трансформация, перемена. Само упоминание формы в элинском и римском философском духе означает отрицание хаоса, преодоление случайности, возвышение над единичными случаями с градивной основой в каузе. Каждая власть предлагает свое видение о реформах в одной или другой области. Начало римской Республики в 509 г. до Хр. является реформа, касающая и формы государства, и права, которое за пол столетия открывает свое обобщение и всеобщую приложимость для консолидированного римского народа – Закон о Двенадцати таблицах, Аграрные, военные, фискальные, территориальные, административныe реформы следуют одна за другой во время Республики и Принципата, и Домината. И каждая из них осуществлена деятельностью юристов, называемые, как я уже говорила в начале, iurisprudentes – высокообразованные и начитанные люди, знатоки правовой материи, но и погруженные в судебную практику, администраторы, советники консулов, императоров и, поэтому внимательныe, осторожные к каждому правовому решению, баланцирующие амбиции, предвидящие последствия и устремленные к их предварительному обеспечению или нейтрализации.
Реформа Юстиниана, начавшаяся сразу после его восхождения на престол, воздвигнута как культ стабильности и универсальности права. Юстиниановы принципы и дух проходят через средневековие и воплощаются в кодификации Нового времени. Часто пренебрегнутые и забытые по историческим или идеологическим причинам ряд норм и публичного права с республиканскими традициями и идеями объединения государственности тоже включены в основы современного права. Мы едва ли задумываемся о том, что, если реформа в начале VІ век введена только за 4 года (529–533 г.), то это потому что она перед этим готовилась десятилетиями и даже столетиями. Императорские конституции сохранили имена императорских сановников и самых видных судей и преподавателей права, на за ними была огромная армия сотрудников, которые обработали огромный объем актов и толковательных мнений, а также научную и дидактическую литературу, переняли опыт практики и предложили обобщенный вариант omne ius qui utimur.
Вряд ли Юстиниан предполагал, что его амбиции об aeterna majestas римской правовой мысли пройдут почти 15 веков, чтобы о них заговорили сегодня. Но в его конституциях есть несколько основных моментов, которые действительно граничат с вечностью:
1. Каждая власть, каждая государственность крепятся на силе законов – обдуманные, основанные на практике, а также и на актуальных требованиях обществах и экономики с предвидимыми последствиями;
2. Каждая реформа требует, на первом месте, организованности права, его систематизация и приведение в удобный для изучения и использования вид, с ограничением противоречий, неясноты и возможностей для произвольного толкования и аналогии – и это является целью создания Юстиниановой кодификации, при чем не только в Риме.
3. Каждая реформа требует познания права – не только судьями и администраторами, которыe его применяют, но и целым народом, а для этого необходима доступность, ясный язык, организованный аппарат понятий, стбильная судебная система. Адекватная администрация…может быть во многих случаях это только пожелания, но должна быть создана позиция, к которой быкаждая власть стремилась, какие бы реформы не предлагала;
4. И не на последнем месте – для того, чтобы право исполнило свою миссию, должны быть подготовленные юристы, должна быть параллельно с законодательной и образовательная реформа. В данном процессе у “посвятивших себя праву” студентов должна быть ясная перспектива своей реализации, полная приверженность одному организаванному, систематизированному процессу. Со своей стороны у “посвятивших себя праву” magistri iuris тоже должно быть свое место в процессе с ясными правилами обучения, но и с возможностью гибких перемен в нем, ввиду изменений в законодательстве или предложений de lege ferenda. Может быть будет уместно вспомнить императорские конституции, согласно которых, преподаватели рекомендуют своих студентов в конкурсах публичных и судебных должностей, но, чтобы государственная казна платила им такие вознаграждения, которых бы “им не приходилось заниматься ничем другим, кроме преподавания“60.
По теме о предвидимости в праве в интерпретации Древнего Рима можно говорить очень много. Здесь сделан скромный опыт представить некоторые штрихи одной целой картины, которая является более полной, пестрой, наполненной образами и нюансами. Главное желание и можно их исследовать в глубину, с точки зрения различных перспектив, для того, чтобы открыть много полезного для нашего ежедневия. Можно и приложить его, следуя римской традиции и опыта – как говорят, все дороги ведут в Рим (Omnes viae Romam ducunt), включительно и дорога права.
Квалифицированный читатель или интерпретатор: об отношении исследователя к источникам познания правовых и политических учений
Горбань Владимир Сергеевич
главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философско-правовых исследований Института государства и права РАН, доктор юридических наук
В данной статье выявлены и проанализированы некоторые характеристики современных подходов к проблеме отношения к источникам изучения истории политической и правовой мысли. Критической оценке подвергнуты попытки спекулировать интерпретационными практиками как конститутивным методом при анализе политических и правовых взглядов мыслителей прошлого и современности и, напротив, подчеркивается важность квалифицированного прочтения и анализа классического юридического наследия.
Представляемую проблематику можно представить в виде следующих обобщений: – история политической и правовой мысли, как научная дисциплина, должна усилить внимание к вопросам квалифицированного изучения источников и, напротив, критически понимать роль интерпретаций; – квалифицированный читатель или исследователь стремится к тому, чтобы познаваемый источник воспроизводить максимально точно в соответствии с оригиналом (а не на основании извлеченной фразы, схожего термина, схематичной типологизации для целей оправдания какой-то идеологии или классификации) и лишь затем подвергать аналитическим и иным аналогичным процедурам; – характеристики новейшей истории правовой и политической мысли с оттенками «модерна» и его производных являются в основном эстетической спекуляцией, девальвирующей и деформирующей природу и характер юридической науки, которая в «классической» форме вынуждена питать все ее «модернистские» отростки; – в логике постмодерна и метамодерна в их интерпретационной парадигме меняется сам смысл исторического знания – оно отныне некритично, вне автора, стремится не к пониманию, а к «означиванию» источников, безгранично вариативно, а интерпретатор становится равным автору; – следует отойти от «подсказанной» интерпретации структуры и содержания истории политических и правовых учений и, напротив, обратить внимание на такую реконструкцию материала этой дисциплины, которая основывалась бы на квалифицированном, а не принятом на веру, восприятии сравнительного материала в отечественных и зарубежных источниках (например, указание на создание университетов в средневековой Европе обычно трактуется как атрибут прогресса правовой мысли, хотя в действительности о возникновении юриспруденции как научной дисциплины можно говорить не раньше конца XVIII в.61, а, например, говоря о состоянии юридической науки в США, которая со второй половины ХХ в. (в отсутствии конкурентов в соответствующей языковой среде) стремится к самооценке как образцовой, следует иметь в виду, что лишь в конце XIX в. в США постепенно появляются зачатки того, что называется современным юридическим образованием62).
История политической и правовой культуры, ее ментальных и духовно-нравственных характеристик, познаваемых с помощью разнообразных источников, а также способов их прочтения, составляет важнейший пласт системы знаний о праве и его роли в жизни человека и общества. Многое при этом остается еще непознанным как с точки зрения анализа уже известных источников, так и с точки зрения постановки адекватных научно-исследовательских задач. В целом историческое знание о праве имеет определенную типовую структуру, которая, как правило, довольно некритически воспроизводится в разных вариантах дисциплинарного прочтения философии права или истории политических и правовых учений. Как писал известный шведский драматург и писатель XIX в. А. Стриндберг, есть своего рода «материнское древо»63 истории философии права, которое связано с так называемой «классической традицией» философии западного мира: от античности до новейших концепций в западноевропейской и американской литературе.
При всех достоинствах западноевропейской традиции интерпретации истории философии права все же никак нельзя признать ее исчерпывающей, основополагающей или даже перспективной. Внутри этой традиции имеется такое количество разнообразных ответвлений, противоречивых моментов, идеологем и подходов, что воспринимать ее как образец научности истории политической и правовой мысли – не более чем заблуждение, рождающееся лишь из поверхностного знакомства с литературой и иными источниками познания истории политической и правовой интеллектуально-нравственной культуры. Например, почти азбучной стала установка на то, что западная философия права является «прогрессивной». Но в действительности, конечно же, дело обстоит не так. Например, утверждается, что западная интеллектуальная культура склонна признавать высокие стандарты и ценности права. В качестве примера используется при этом ссылка, в частности, на правовой дуализм в философии И. Канта. Но другой соотечественник кенигсбергского профессора, К. Маркс, уверял, что все правовые идеи и ценности не более чем химера, которая должна отмереть по мере достижения очерченного им социального идеала в коммунистическом обществе. Гегель, как апологет государства, уверял в том, что идея свободы достигает своего кульминационного пункта в реальном воплощении именно в государстве. Однако спустя полтора столетия его упрекнут в том, что это восхищение повело немцев по ложному пути, а именно к торжеству национал-социализма. Кант или Гегель, возможно, и признавали некоторый набор правовых ценностей. Но как в действительности выглядела жизнь общества и государства в тот момент истории, когда они формулировали свои идеи? Насколько смысл соответствующих философских размышлений соответствовал истинному положению дел? И не был ли он вообще футуристическим проектом? Например, в Западной Европе в 1780 гг. еще выносились и приводились в исполнение приговоры о сожжении на костре за колдовство. Или в наше время, если мы внимательно и квалифицировано попытаемся проанализировать основные параметры правосознания и правовых систем в других странах, то многое на самом деле окажется не столь простым и позитивным, как это представляется некоторым исследователям. Достаточно взглянуть на практику применения права и соответствующую статистику (о состоянии преступности, об административной практике, о судебной деятельности, отчеты о состоянии дел в разных сфера общественной жизни, статистику надзорных и контрольных ведомств и т. д.). В этой связи актуализируется проблема адекватного подбора источников изучения истории права и правовой мысли и их квалифицированного прочтения.
Например, изучая влияние взглядов того или иного мыслителя, следует ответить на вопрос о том, какое употребление и хождение имела соответствующая литература, использовалась ли она при обучении юристов и чиновников и т. п. Так, говоря о влиянии взглядов К. Маркса на своих современников, нужно иметь в виду, что значительная часть его работ была опубликована лишь в 1880 гг. благодаря усилиям его друга Ф. Энгельса. Хотя, например, сопоставляя слова «интерес» и «борьба» в трудах К. Маркса и Р. Иеринга многими авторами делались неоднократно совершенно безосновательные утверждения о симпатиях последнего в отношении классового подхода. Здесь, с одной стороны, работало стремление «означить» марксизм в области юридической теории, которая была слабо представлена в классическом марксизме, а с другой стороны, отчетливо проявляется фигура интерпретатора вместо квалифицированного читателя. В истории правовой и политической мысли под влиянием различных факторов квалифицированное познание источников часто подменяется интерпретацией. Причем, учитывая полисемантичность термина «интерпретация», складывается определенная парадигма восприятия содержания и роли политических и правовых учений прошлого и настоящего, для которой центральной смысловой единицей становится безграничная вариативность прочтения.
В отношения изучения истории политических и правовых учений просматриваются два типа мышления: одно – напоминает феноменологический подход, когда представления о праве рассматриваются в наборе высказываний на тему права безотносительно к каким-то реальным, исторически-конкретным и иным аналогичным аргументам, т. е. эволюция правопонимания как «чистая» теория; другое – пытается смотреть на проблему эволюции политической и правовой мысли с генетической точки зрения, т. е. стремясь рассматривать правовые взгляды мыслителей разных эпох с точки зрения причин и условий, связанных с их появлением, в контексте преемственного и нового, учитывая связи с предшественниками и современниками. Например, в Германии после Второй мировой войны возникла проблема «пересоздания» новой культуры политического и правового мышления. История была объявлена виновницей всех бед: мол виноваты классики, которые верили в роль принуждения и нравственное государство, в «живое» право и т. п. Один из самых авторитетных философов права последней четверти ХХ в. в Германии А. Кауфман писал о том, что мол «пренебрежение понятийно определенностью в праве», характерное для социологического рассмотрения права, оказалось одной из причин возникновения национал-социализма. Конечно же, это не более чем лукавство. Причины этого античеловеческого явления были связаны отнюдь не с формами политической организации и методами управления, а с глубинным первобытным и неистребимым желанием порабощения других людей и уничтожением неугодных народов. И. А. Ильин очень точно описывал этому проблему: как муштра и дисциплина приучает к внешнему соблюдению правового ритуала, правила и требования, но под этой личиной кроется сознание озлобленного раба. «В самом деле, долгая и постоянная дрессура, идущая из поколения в поколение, может приучить душу к сознательному соблюдению законной формы и законного предела в поступках. Явная и тайная кража станет исключением, и цветок плодового дерева, растущего у большой дороги, будет спокойно превращаться в зрелый плод, задевающий прохожего; не станет самоуправства, сознательное нарушение прав будет редкостью; граждане будут еженедельно советоваться обо всем с собственным годовым адвокатом и постоянно, с особым удовольствием от законности своего поведения, тягаться друг с другом в интеллигентном, равном и справедливом суде; забудется эпоха мелких взяток и крупных хищений, и люди перестанут видеть особое удальство в безнаказанном правонарушении … И за всем этим, внешне блестящим, правопорядком может укрываться правосознание озлобленного раба»64. «Своекорыстное хотение не исчезает и не искореняется от того, что встречает внешний запрет, угрозу, противодействие и даже наказание. Правда, оно приучается «не сметь» и прячется от поверхностного взгляда, но именно поэтому оно скапливается постепенно, неизжитое, неутоленное, неопределенное – побежденное, но не убежденное – и сосредотачивается в душе, окрашивая всю жизнь в оттенок сдержанного, таящегося озлобления. … Так, выдрессированный раб, приученный дома к элементарной честности, не считает зазорным украсть у соседа, и уподобляясь ему, современное правосознание охотно делит людей на «наших» и «чужих», пробивая глубокие бреши в «справедливом» толковании и «равном» применении права»65.
История политической и правовой мысли должна быть определенно переосмыслена на основе простого тезиса о том, что не первом месте должно стоять безусловное и даже бессознательное уважение к себе и собственному богатейшему духовному наследию. Речь, конечно же, не идет о признании того или иного подхода лучшим или менее удачным, а лишь о том, что западноевропейская правовая культура в полноценном историческом масштабе является важной, но периферией как по отношению к античной культуре, так и по отношению к взгляду на историю правовой и политической мысли с точки зрения российской истории. Было бы странно полагать, что, например, какой-нибудь восточный исследователь из Китая или Индии, опираясь на многовековую историю, будет рассматривать отдаленную западноевропейскую философию как нечто фундаментальное для освещения истории правовой и политической мысли в этих восточных странах. Специфика «идеологий Востока» хорошо показана в работе М. А. Рейснера66. Если внимательно и квалифицированно, без искусственных и беспочвенных априорных восхищений, посмотреть структуру и содержание современной (например, второй половины ХХ в. и до наших дней) западноевропейской литературы по истории философии права (темы, последовательность изложения, структура исторического материала, источники, оценки и т. п.), то легко убедиться в том, что она целиком и полностью замкнута на себе, не допуская в сферу, очерченную четкими национально-региональными границами, никого. Немецкая философия права считает себя наследницей античности и в основном в таком двухэлементном измерении и интерпретирует всю историю философии права. Французская литература также очень контрастна по отношению к своим европейским коллегам. Например, внимательный исследователь французской литературы XIX в. легко обратит внимание на то, что французский юристы так и не смогли подобрать полностью адекватный вариант перевода немецкого термина «Rechtsstaat» («правовое государство»). Или, например, заимствованное непосредственно из французского языка слово «легитимность» использовалось в оригинальном значении, как «законность», и даже в работах немца М. Вебера. Первые переводы на русский язык работ последнего использовали такие варианты, как «законность власти», а не полуперевод «легитимность власти». Но затем под влиянием социально-политических интерпретаций термин «легитимность» получил самостоятельную прописку в других социальных науках. Это очередной раз подчеркивает потребность в квалифицированном освоении источников, а не в оголтелой интерпретации.
Английская и американская философия права также очень незначительно открыта для какого-то внятного диалога с другими традициями. Поэтому насущной задачей является бережное и внимательное квалифицированное прочтение в первую очередь собственной богатейшей традиции. Развитие истории политической и правовой мысли как научной дисциплины, а также выработка новой стратегии развития философии права, адекватной современным вызовам и общественно-политическим задачам, напрямую обусловлены преодолением навязанного «периферийного» мышления.
Знание зарубежной истории политической и правовой мысли имеет очень важное значение для понимания собственных достижений и недостатков, возможностей углубления существующих правовых знаний или для того, чтобы по возможности избегать ошибки других. Но сравнение требует действительно квалифицированного подхода. Прежде всего, исследователь должен научиться квалифицированному чтению классических источников, внимательному и объективно-критическому восприятию употребляемых слов и терминов, точному разъяснению вкладываемых смыслов, ясному тематическому анализу источников и т. п.
Кроме того, важно также отметить, что, к сожалению, сегодняшние исследователи в России очень часто совершенно некритично воспроизводят иностранные клише вместо того, чтобы проанализировать как положительные, так и отрицательные стороны того или иного учения.
Отношение современного исследователя к историческому правоведению вызывает много нареканий и вопросов. Основной формой обращения с источниками познания истории политической и правовой мысли стали интерпретации (как конституированный метод). С конца XIX в. интерес к интерпретациям привел к созданию целой парадигмы в философии. Однако уже даже для еще непосвященного в тему исследователя должно быть очевидным, что перемещение на передний план интерпретации вместо основного (авторского) текста неизбежно приводит к тому, что центральной фигурой делается интерпретатор, а творческая эволюция правовых и политических идей ставится в прямую зависимость от интерпретаций, которые моделируются в форме конфликта разных интерпретаций и перспектив их разрешения. Есть такие мнения, что мол интерпретация не более, чем акцент на роли текста, а не автора. Но такой подход зачастую игнорирует главное: тест как познавательная единица – объект или средство, безусловно, может обособляться в некий феномен и познаваться в этом «чистом» качестве, в отрыве от автора и других причинных факторов: исторических, политических, лингвистических и других; однако же феноменологический взгляд на природу источников познания политических и правовых идей, если он замыкается на себе, делает всю историю правовой культуры призрачной, оторванной от реальности и бытия права. Многие аспекты этой проблематике уже не раз обсуждались в литературе. Например, «Философия свободы» Н. А. Бердяева67 или «Апофеоз беспочвенности» Л. И. Шестова68.
Таким образом, классика нуждается в квалифицированном читателе, а не в интерпретациях (зачастую уничтожающих смысл и автора). Интерпретация стала сознательно подслеповатой парадигмой научного мышления (Дильтей и далее; модерн, постмодерн, метамодерн). Классика контрастирует как «предшествующее» и непрерывно устаревающее, а на ее место заступает цепляющийся за беспочвенность модерн, постмодерн, метамодерн («апофеоз беспочвенности»). Вместо разъяснения объективного (всеобщего, безусловного) содержания правовых знаний, отраженных в той или иной мере в истории политических и правовых учений, становятся уместными такие характеристики, которые совпадают с эволюцией направлений и жанров в литературе и искусстве. Популярность интерпретационных подходов в эпоху «неклассической» науки и до нынешней поры (отчетливо заметно с работ Л. И. Петражицкого и далее) формируют своего рода научный экспрессионизм – выражение эмоционального состояния исследователя вместо изображения правовой действительности. Как бы экспрессионизму не скатится в кубизм, сетовал один искусствовед, и по аналогии с этим своего рода юридический кубизм ведет к тому, что деформированные, огрубленные образы правовых явлений изображаются без каких-либо элементов «светотени и перспективы, как комбинация разложенных на плоскости объемов». Например, подобного рода эстетическая стилизация легко обнаруживается в интерпретациях западноевропейскими авторами истории политической и правовой мысли в России (в частности, в популярных изданиях по истории философии права в Германии в качестве наиболее авторитетных, показательных и исчерпывающих называются (причем лишь в виде интерпретаций отдельных фрагментов) работы Л. Н. Толстого, Е. Б. Пашуканиса, И. В. Сталина и А. Я. Вышинского). По такой логике можно интерпретировать историю философии права в Германии, скажем, исключительно кратким обзором нигилистического отношения к праву в некоторых высказываниях И. Гете, идеи пролетарской революции К. Маркса, теории насилия Л. Гумпловича и аргументов расовой теории права в некоторых трудах К. Шмитта. И какой тогда следует ожидать результат?
Общий вывод такой, что возможность развития истории политической и правовой мысли как научной дисциплины и ее эвристического потенциала обусловлена не эстетической стилизацией или интерпретационными практиками в угоду нездоровому идеологическому оформлению преимуществ той или иной национально-региональной школы, а заключается в квалифицированном прочтении источников познания в этой области, постановке адекватных сравнительных задач, в повышении требований к отбору источников и разъяснению этого отбора (довольно странно, когда ученый сопоставляет юридическую концепцию, разработанную в полноценной теоретической форме, изложенную в одном или нескольких крупных сочинениях, например, с высказыванием другого автора в небольшое статье или письме и т. п., или, например, когда по работе малозначительного автора реконструируются особенности всей национальной юридической литературы).
Преодоление отчуждения как условие стабильности государства и гражданского общества
Агамиров Карэн Владимирович
старший научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства и права РАН, доктор юридических наук
Отчуждение личности от государства как междисциплинарная проблема
Взаимосвязь публичной власти и гражданского общества многоаспектна. Первая является гарантом жизнедеятельности государства, предпринимает меры для защиты прав и свобод человека и гражданина, подводит под жизнедеятельность гражданского общества законодательную базу и служит залогом его безопасности, а роль гражданского общества состоит в согласовании частных и общих интересов с целью достижения гражданского согласия.
В современных условиях глобализации и виртуализации тотальное разобщение людей, их отторжение от окружающей действительности приобрело угрожающий размах. Особенное беспокойство вызывает отчуждение человека от государственно-правового пространства, его представление о публичной власти как некоем монстре, сметающем на своем пути все живое и трепетное. Вызванная хрупкостью гражданского мира настоятельная необходимость достижения между личностью и государством более или менее равновесного состояния представляется актуальной междисциплинарной проблемой философии, истории, теории, социологии, психологии права и отраслевых юридических дисциплин, а именно: философское осмысление феномена отчуждения в современном мире, его исторический контекст, теоретико-правовые основы, социальное измерение, правовая идентификация отчужденной личности как способ психологической защиты и законодательное преодоление этого феномена.
Последнее нацеливает на разработку комплекса правовых средств воздействия на политические, экономические, социальные и духовно-нравственные процессы, обеспечивающего формирование разносторонней и активной, творческой и законопослушной личности, соразмерное удовлетворение частных, групповых и общих интересов с целью преодоления политико-правового отчуждения между публичной властью и гражданином.
Отчуждение личности от государства как фактор противоправного поведения
Проблема отчуждения личности поднималась и продолжает исследоваться в трудах философов и юристов, социологов и психологов. Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс, К. А. Гельвеций, рассматривая общество как институт отчуждения, квалифицировали его социальные регуляторы (право, мораль, религия, искусство, обычаи и привычки) в качестве инструментов соединения желаний разных людей в одну общую волю, которая в итоге оказывается чуждой отдельному человеку, ограниченному заданными рамками и превращенному в «дробную единицу». Завершающая стадия изолированности людей воплощается в деньгах – продукте взаимно отчужденных людей (М. Гесс. О сущности денег).
В гегелевском значении «Entfremdung» (нем. – отчуждение, отчужденность) характеризует лишь одну стадию развития мирового духа (духовной культуры человечества), связанную с антагонизмом государства и религии, «внутреннего» и «внешнего», т. е. с неразвитостью духовной культуры. Отчуждение преодолевается, снимается и сохраняется как таковое только в «памяти» человечества как предметный урок, из которого мировой дух сделал выводы. В «совершенном» государстве, проникнутым духом «подлинной религии», «Entfremdung» уже не может возникнуть.
К. Маркс переводит направление исследования отчуждения в практическую плоскость, анализируя в «Экономико-философских рукописях 1844 года» вопросы отчужденного труда, который сопровождает рабочего от акта производства и производственной деятельности (деятельное отчуждение) до конечного результата в виде отчужденного продукта труда. В этой связи, отмечает Э. В. Ильенков, неправы философы, усматривающие в категории отчуждения в ее понимании К. Марксом только абстрактно-философские аббревиатуры и «пережитки» абстрактно-философской стадии развития его взглядов, которые можно устранить из состава зрелой концепции без искажения ее подлинного смысла.
Современные исследователи методологического значения наследия К. Маркса и капиталистической экономики в эпоху глобализации А. В. Бузгалин и А. И. Колганов используют категорию «отчуждение» по отношению к социальным процессам, направленным, по К. Марксу, на преодоление эксплуатации и социальное освобождение. Нынешний мир рассматривается ими как отчуждение, в котором сущностные силы преобразующего природу и общество человека делаются чуждыми для подавляющего большинства членов общества, так как присвоены доминирующей социальной системой, исповедующей разделение труда и отношения эксплуатации, обращающей человека-творца в раба внеличностных сил.
А. Курелла подходит к проблеме отчуждения комплексно, анализируя ее философские, политико-экономические, моральные, юридические, социологические и другие аспекты, выводящие на разграничение «своего» и «чужого».
Отчуждение опутывает сознание современного человека и отстраняет его от действительности, настраивая на мрачное восприятие дня нынешнего и бесперспективность будущего. Ощущение бездушия окружающего мира и тотального одиночества смещает на периферию нормы права и морали, включая зеленый свет социальной аномии, разлагающей и дезинтегрирующей систему общепринятых ценностей и норм, оттеняющей невстроенность человека в общественные институты. В этой связи Ю. А. Тихомиров включает риск социального отчуждения в объект юридического прогнозирования, представляя его как результат недостаточного учета или анализа поведения социальных структур и общественных институтов, а отчуждение граждан от власти рассматривает как важнейшую проблему регионального и мирового масштаба, требующую безотлагательного решения.
На службе и в семье, в общественных и межличностных отношениях угнетенное сознание современного разобщенного homo sapien уводит его в унылую эфемерность, выход их которой он пытается найти в социальных сетях и скайпе, электронной и смс-переписке, прочих инструментах удаленного общения, нередко способствующих трансформации отчуждения в электронное рабство как завершающую стадию социальной аутизации в эпоху постинформационного общества. Не стоит, конечно же, сгущать краски, в этом мире много позитива и радости, однако следует признать, что проблема отчуждения людей друг от друга никогда так остро не стояла, как в наш век глобальной информатизации.
Отчуждаясь от государства и общества, человек утрачивает чувство принадлежности к этому миру, его одолевают беспокойство и всевозможные фобии. Тревожность не является беспредметным страхом: чувствительная личность ощущает приближающуюся опасность подсознательно и заменяет реальное сопротивление угрозе эмоциональным напряжением, выплеск которого может повлечь за собой отклоняющийся поведенческий акт.
При этом поведение отчужденной личности может и не носить противозаконного характера, а выражаться в незапрещенных правовыми нормами бытовом пьянстве, аморальных поступках и пр., а то и вовсе отличаться созидательной творческой креативностью (как пример – стиль жизни великого нидерландского художника Винсента Ван Гога, постоянно пребывавшем в пограничном состоянии, вдохновлявшем его на творчество). Однако в подавляющем большинстве необустроенность человека является причиной именно противоправного поведения, и в этой связи задача полноценного вовлечения личности в социальную действительность и переориентации ее на позитивные грани бытия является первостепенной задачей публичной власти и гражданского общества.
Отчужденная личность и неправовой закон
Публичная власть обладает монопольным правом на законодательство, и от того, как она его использует, зависят судьбы миллионов людей. Издавая нормативные правовые акты, публичная власть позиционирует себя в качестве определителя связи между необходимым и желательным, так как именно она выбирает из массы законопроектных вариантов наиболее, с ее точки зрения, подходящие. Право предполагает преодоление стены отчуждения, стремящейся установить между господами и рабами действительное различие, указывающей при этом в качестве виновницы политического неравенства природу, и направлено на индоктринацию социальных обязанностей – воспитание в духе социальной (в том числе политико-правовой) активности и ответственности одновременно.
Активность выражается в способности индивидуальных субъектов публичного права к энергичным, целенаправленным и избирательным действиям в рамках имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека, иных правовых ценностей, а также в целях формирования собственной личности, взглядов и установок. Ответственность предполагает адекватное и сдержанное восприятие действительности субъектами права, претворяющими правовые предписания в жизнь посредством правомерного поведения. Субъекты-частные граждане используют предоставленные управомочивающие предписания и исполняют обязывающие предписания (активная форма правового правомерного поведения), воздерживаются от реализации управомочивающих предписаний и соблюдают запрещающие предписания (пассивная форма правового правомерного поведения). Соответственно субъекты – государственные организации и должностные лица призваны обеспечить реализацию гражданами управомочивающих предписаний, исполнение обязывающих предписаний и соблюдение запрещающих предписаний (в двух последних случаях включается механизм принуждения и ответственности).
Справедливый (правовой) закон направлен на предупреждение и преодоление отчуждения на всех его направлениях, среди которых можно выделить: отчуждение от участия в политической жизни (от выборов, от обсуждения законопроектов и пр.); отчуждение от правового общения, перерастающее в правовой нигилизм и его высшую стадию – отчуждение от уголовного законодательства и становление на преступный путь; отчуждение от собственности (неприятие частной собственности, возведение в абсолют уравнительного принципа распределения, синдромы «классового врага» и «классовой солидарности» и пр.); отчуждение от труда и от работодателя; отчуждение от духовно-культурной сферы; отчуждение от семьи и родственных связей; отчуждение от самого себя (самоотчуждение) и его высшая стадия – самоубийство.
Уровни отчуждения можно подразделить на начальный, средний, глубокий и необратимый, и законодатель призван ставить заслон на пути перевода отчуждения из одного уровня в другой, предупреждать правовые риски, связанные с отчуждением, выставлять т. н. прогностические буи (метки) отчуждения (юридическое прогнозирование как средство преодоления отчуждения), за которыми наступают антиправовые последствия. Низкий минимальный размер оплаты труда, явно не соответствующие стоимости жизни пенсионные выплаты и социальные пособия (на детей, по инвалидности, безработице и пр.), фактическое отсутствие достойных бесплатных медицинских услуг, армия безработных, пенсионная реформа и пр. – это и есть прогностические буи, за которыми отчуждение «между дворцом и площадью» может вылиться в отчуждение на площади.
Являясь интегральной характеристикой представителей индивидуалистического общества, свидетельствующей об их оторванности друг от друга и от общества в целом, отражающей глубокие и болезненно переживаемые ими расхождения в мыслях, чувствах и поступках, отчуждение обнаруживает неодинаковость индивидов, стремящихся к преследованию своих собственных целей. Основу же отчуждения, по мысли А. А. Ивина, составляют отсутствие в открытом обществе долговременной цели, преобладающей над другими его устремлениями, и несовместимая с глобальной целью частная собственность.
На повестке дня – преодоление отчужденности общественного бытия, подчиняющего личностные интенции человека внешним, чуждым для него силам, пронизывающего этот мир вообще и его российское подпространство в особенности отношениями отчуждения, превращающего труд соседей, родителей, детей, государство и Родину в нечто чужое и чуждое, и это понимают рабочий и учитель, врач и представитель «офисного планктона». В этом плане окончательное снятие отчуждения выводит на задачу формирования таких условий труда и образования, внутри которых каждый индивидуум, а не только некоторые из них, сможет достичь подлинно современных высот духовно-теоретической, технической и нравственной культуры; лишь тогда он превратится в подлинного, а не формального хозяина созданного в рамках «отчуждения» мира культуры. В этом смысле преодоление отчуждения можно рассматривать как новую цепь актов воспитания и самовоспитания народа, сопровождающих процесс создания нового, базирующегося на общественном труде хозяйства и непрерывно демократизирующегося государственного устройства как условий свободной и счастливой человеческой жизни и приобщения людей к богатствам искусственного окружающего мира.
При этом автор солидарен с А. В. Поляковым в том, что коммуникативная теория должна быть свободной от идеологической ангажированности, так как существующие в современном мультикультурном мире ценности не могут быть выстроены по единообразному шаблону, отделяющему истинные ценности от неистинных, но возражает против посыла, в соответствии с которым идеологизированные правовые теории, сужающие набор ценностных предпочтений, имеют меньшую научную значимость. Есть непреходящие ценности добра и справедливости, правды и честности, солидарности и товарищества, и если в государстве утверждается идеология, исповедующая эти начала, то ее следует только приветствовать. Автор убежден, что российское общество давно ждет провозглашения идеологического конструкта, способного, по мысли М. А. Супатаева, претендовать на объединение разнородных методологических и идеологических концептов правопонимания и дать целостное представление об обществе и праве (в качестве возможного примера он отводит новому идеологическому феномену роль, которая принадлежала в юридической науке времен СССР пусть ограниченной по своим эвристическим возможностям, но вполне добротной теории общественно-экономических формаций).
И хотя согласно ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, целостная идеологическая доктрина, свободная от политической ангажированности и сиюминутных потребностей, соединяющая гуманистические и патриотические начала, отражающая место и роль Российской Федерации в современном многополярном мире, может стать цементирующей основой взаимодействия государства и гражданского общества и духовной мобилизации самых широких слоев населения, пребывающих сегодня в достаточно разобранном и отчужденном состоянии. Желание и потребность отстаивать ценностные ориентации и идеалы определяют социокультурное бытие человека и его жизненное предназначение.
Прогностическое значение подобной идеологической стратегии для преодоления отчуждения в том и состоит, что она, будучи мостиком от духовных чаяний людей к их прогрессивным правовым устремлениям в виде правовой идеологии, служит в итоге нормативным вектором, определяющим движение правовой системы в сторону законодательной упорядоченности социального взаимодействия. Будучи, по сути, нормативной, идеология предлагает идеал, который нужно реализовать. Она не является чистым сознанием, и создаваемые ею идеи и ценности могут приказать перейти к действиям, т. е. к воплощению в нормативных правовых актах.
Нормативное преодоление отчуждения человека от государства как операциональной (упорядоченно-последовательной) парадигмы законодательного хаоса и совершенствование законодательного массива должно вестись по всем направлениям жизнедеятельности: цивилизационной, инвестиционной, управленческой, политической, экономической, социальной, духовной, мобилизационной, идейно-воспитательной, патриотической с целью повышения коэффициента когерентного соответствия между субъектами права как оператора конъюкции безконфликтного правового общения.
Жизнь современного человека – это его бегство в бесконечном пространстве от всепоглощающего времени с контейнером эфемерных желаний, котомкой реальных возможностей и полупустым узелком результативных свершений, и право призвано реализовать имманенто заложенные в нем аскрипции, стержнем которых является ожидание (ощущение) справедливости.
Знание как онтологический базис права и фактор его стабильности
Бочкарев Сергей Александрович
научный сотрудник Института государства и права РАН доктор юридических наук
Введение
Актуальность вынесенной в заголовок монографии темы не вызывает сомнений. На пороге XX–XXI вв. право столкнулось с модифицированной реальностью. О качествах этой реальности идет много споров. Несмотря на незавершенность дискуссии, всем очевидно, что пришедшая из будущего реальность, основанная на высоких технологиях, характеризуется неустойчивостью прежде всего экономических и политических пространств. Бушующие здесь «штормы» имеют глобальный, региональный и локальный уровни.
В этом контексте обращение к праву как фактору стабильности выглядит вполне закономерным. Стремясь достичь равновесия в сложившейся обстановке, специалисты активно дискутируют о роли права в протекающих процессах и его потенциальной возможности нормализовать условия общежития. Они ищут ответы, по сути, на два ключевых вопроса: как право обеспечивает свое уравновешивающее воздействие? И что в праве необходимо изменить, чтобы оно стало эффективным инструментом стабилизации социума?
Эти вопросы не новы для истории права. Но с учетом современной специфики на них даются, как правило, два ответа. А именно либо с позитивистской позиции право рассматривается как фактор социальной стабильности, имеющий наивысший регулятивный потенциал и реализующийся через властное принуждение и нравственно-этическое ориентирование; либо на основе философско-антропологического подхода указывается на то, что право является далеко не основным, а только дополнительным организационно-управленческим средством, призванным уравновешивать и при необходимости блокировать деструктивные проявления в поведении человека.
В итоге одни специалисты рекомендуют для исправления ситуации в социальной сфере улучшать качество нормативно-правовых актов и повышать уровень морально-этического отношения к праву со стороны общества69. Другие предлагают прекратить низводить право до уровня машины, производящей единообразные формы из весьма разнообразного материала человеческого поведения, и приступить к формированию новой мировоззренческой парадигмы права через коренной пересмотр правовых критериев оценки узловых мировых проблем70.
Нестабильность права и знания о праве
Однако на фоне гиперактивности возникших трансформаций обнаружилось, что, как и другие социальные регуляторы, право само переживает кризис. Действующие правовые механизмы и принципы юридической оценки реальности не справляются с решением традиционно стоящих перед ними задач. Как известно, дошло до того, что было объявлено о крушении правовых ценностей, традиций, систем и правопорядка в целом71.
Критическое состояние права поставило ряд первоочередных вопросов, которые в науке пока недооцениваются. Между тем их актуализация сдвигает ранее обозначенные проблемы на второй план. Главным предметом обсуждения становится вопрос о том, что или кто в праве обеспечивает его стабильность. При каких условиях и обстоятельствах право утрачивает устойчивость либо само начинает производить беспокойство? В ком или в чем состоит его опора? Каково состояние этой опоры? Что привело базис к стагнации – критические перегрузки или его целенаправленный демонтаж?
Поиск ответов в этой дискуссии ведет к субъектам права, правосознание которых формирует и образует собой парадигму индивидуального и коллективного поведения. Эти субъекты к ΧΧΙ в. существенно изменились вслед за всей культурой, при этом каждый – по-своему. У одних появились новые сферы самовыражения (например, сеть Интернет), у других возникли заботы в области обеспечения условий безопасного и справедливого сосуществования в модифицированных форматах жизнедеятельности. Но есть то общее, что, несмотря на разность статусов и интересов, связывает всех субъектов права, обеспечивая их коммуникацию и взаимопонимание. Речь идет о знании. Оно – искомый базис права, неотъемлемо и естественно включающий в себя, помимо самого знания, проблемы ясного осознания и надлежащего познания социальной реальности.
Неслучайно сегодня знание в целом и знание о праве в частности подвергается активным атакам. Особенно в этом деле преуспели постмодернисты. Они не скрывают, что занимаются его низвержением. Классической рациональности, ориентированной на истину и объективность познания внешнего мира, детерминированность, универсальность, целостность, завершенность и непротиворечивость научного знания, противопоставили постклассику. Точнее говоря, классике противопоставили антиклассику с ее неопределенностью, неполнотой и неверифицируемостью, с амбивалентностью и случайностью человеческого существования. То есть все то, что образует релятивизм, который К. Поппер назвал «главной болезнью философии нашего времени»72, В. А. Лекторский подтвердил актуальность этого тезиса и распространил патологию на всю гуманитарную науку, где последовательное проведение релятивистской установки влечет отказ от таких фундаментальных ценностей культуры, как ориентация на поиск истины и получение знания, рациональность, необходимость осмысления мира и человека в нем73.
Ключевой идеолог постмодерна Ж.-Ф. Лиотар заявил, что знание впредь производит не знание, а оттачивает чувствительность к различиям и призвано усиливать способность выносить взаимонесоразмерность74, иными словами, не выполнять социально-эпистемологические функции, а достигать конкретных политэкономических целей. Знание, основанное у постмодернистов на принципах децентрализации и локализации, не дает сознанию возможности сосредоточиться и включиться, реализовать свои антропологические функции, которые служат обеспечению единства личности и сродства между человеком и миром и укоренены, по С. Л. Франку, «в почве реальности»75. Такой подход к знанию препятствует функционированию мышления, которое, как отмечал И. Кант, всегда есть собирание многообразия в единство76.
Неслучайно и то, что сегодня в ответ на эти посягательства многие науки обратили на знание особое внимание и внутри себя организовали прямо противоположное движение. Пользуясь поддержкой философии, они подошли к феномену знания поближе. Это утверждение может показаться парадоксальным или даже несостоятельным, ибо известно, что наука, являясь неотъемлемой и весомой частью всего знания, никогда с ним не расставалась. В свою очередь, философия как определенный способ мировосприятия и тип знания с древних времен имеет дело со знанием как одним из основных объектов своего познания. Эволюционируя от эпохи к эпохе, философия в основном ведет речь о знании, о знающих и незнающих субъектах.
Вместе с тем вся эта аргументация не опровергает, а подтверждает тезис о том, что философия на протяжении всей своей длительной истории занималась познанием знания, его исследованием в самых разных социальных контекстах и жизненных экспериментах. В итоге под грузом накопленной о знании информации она обрела представление о подлинном масштабе этого феномена и сегодня сигнализирует о том, что предмет наблюдения уже не является прежним. Философия осознала, что существенно недооценивала знание, а посвященный ему термин не отражает его реальное значение, определяя знание лишь как результат познания чего-либо. Философия увидела в знании, говоря словами М. Горького, абсолютную ценность нашего времени77 и то, как писал С. Франк, что «мы хотим знать, чтобы жить, а жить – значит… жить не в слепоте и тьме, а в свете знания»78.
На современном этапе философия переходит от осознания реального формата знания к его познанию в новом качестве. Что это за формат и в чем заключается его модифицированное качество? Какова роль знания в жизнедеятельности человека и человечества в целом? Для осмысления этих и других вопросов в ведущих отраслях науки появились новые направления. В философии – эпистемология (или философия знания), в экономике – экономика знания, в социологии – социология знания. Если поначалу в философии о знании вели речь как о форме социальной и индивидуальной памяти, то сейчас о нем заявляют как о фундаментальной онтологической структуре79. Если ранее в экономике знание относили к одному из многочисленных секторов экономики, то недавно этим термином начали именовать тип экономики80. Если в социологии исходно исследовались социальные предпосылки знания, то по мере развития представлений о масштабе этого явления социология скорректировала предмет своего познания, обнаружила и стала изучать «общество знания»81.
Состояние знания в правоведении
В правоведении обстановка сложнее. На фоне тотального релятивизма зарубежные юристы задаются рядом вопросов. Действительно ли сегодня благоприятное время для производства знаний? Действительно ли сейчас самое время искать аподиктические определенности? И надо ли полагаться на отточенные в прошлом методологические средства? Или, спрашивает П. Шлаг, в период всепроникающего и нескончаемого потока информации, когда социальные и экономические события значительно опережают наши интеллектуальные усилия, направленные на их осмысление, а выработка какой-либо стратегии в области производства знаний кажется неуместной, нужно заниматься чем-то противоположным – а именно экспериментированием и творчеством?82 Другие юристы, пренебрегающие эпистемологической темой, не задаются поставленными вопросами и при производстве знаний не затрагивают аспект издержек, сопровождающих этот процесс. Как следствие, они производят подобие знания, не отличающееся глубиной и наличием смысла.
Заинтересованные специалисты обратили внимание, что не только в правоведении, но и в правотворчестве и правоприменении многое напрямую связано с наличием или отсутствием знания, его качеством и количеством. Появились примеры восприятия, например, судопроизводства как эпистемологического события. Основанием для формирования такого подхода послужило обнаружение того, что сначала мы хотим, как отметил М. Пардо, чтобы судьи познали причины и обстоятельства происшествия. Затем стремимся понять, что судьи узнали в результате разбирательства. Далее выясняем обстоятельства, при которых суд получил соответствующее знание, и условия, на которых ему был обеспечен доступ к этому знанию83. Также исследователи указывают, что сама по себе истина не является конечным результатом и самодостаточным условием правоприменительного процесса. Право должно полагаться только на ту истину, которая основана на знании и является продуктом познания. Если право опирается на любую истину, то оно становится зависимым от так называемых случайных или ложных истин и, как следствие, само преобразуется в явление спорадического порядка.
Очередным поворотом на пути становления эпистемологии права стало ее развитие в основном в сфере процессуального права. Cвязь между двумя этими областями имеет давнюю историю84. К материальному праву, также нуждающемуся в верной и выверенной истине, эпистемологический взгляд подходит менее активно. В свет вышло незначительное число работ, в которых отмечается, что для выявления и определения ценностей, требующих защиты, право нуждается не только в приказании, но и в знании. В связи с этим особую значимость приобретает эпистемология, позволяющая разобраться с конкурирующими аргументами о необходимости криминализации тех или иных действий, определить исходные данные точек зрения и их конечные цели, сопоставить с разрешаемой в реальной жизни криминальной ситуацией, т. е. верифицировать высказанные позиции и дать заключение о достоверности и применимости предложенного ими уголовно-правового решения.
В отечественном правоведении ситуация сложнее. В основном наблюдается рефлексия над знанием в ее эмоциональном, еще не рационализированном виде. То есть активно идут отсылки к знанию, но сосредоточение вокруг него не происходит. Правоведы нередко указывают на неудовлетворительное состояние знания, когда говорят о причинах стагнации права. Д. А. Керимов, в частности, указал на кризис российского правоведения и связал его происхождение, помимо прочих факторов, с бессмысленным оперированием «устаревшими знаниями»85. В. Н. Кудрявцев подошел к вопросу шире и заявил о глубоком кризисе всего обществоведения. Ученый призвал овладеть богатством «современного знания» и отойти от стереотипов, прежде всего на идейно-теоретическом и методологическом уровне, уйти от догм и постулатов, оказавшимися ложными и односторонними. Для выхода из кризиса предложил изменить угол зрения на предмет исследования, избавиться от ограничений и деформаций, сохраняющих в этой плоскости86.
В теоретических разработках конкретных отраслей права появились упоминания о гносеологии и эпистемологии права. По случаям использования терминов в различных контекстах можно судить о том, что отечественное правоведение далеко от целостного понимания существа знания и его значения для права. Исследователи не выходят за пределы узкой и тривиальной ассоциации знания исключительно с правоведением. Гносеологию чаще сводят к проблемам методологии, т. е. связывают с дилеммами производного порядка. Таким образом, перехода на иной уровень, где не знание рассматривается в составе и на фоне права, а право оценивается на фоне знания как более глубоко укоренного в бытии феномена, не наблюдается.
В итоге, как видим, эпистемология стала предметом дискуссии среди юристов. Правоведы постепенно начали приходить к убеждению в том, что выявление сущности права невозможно исключительно за счет онтологического и аксиологического выбора. Необходимо еще эпистемологическое решение, обеспечивающее их коррелятивность и непротиворечивость. Вместе с тем наука не подводит право ближе к знанию. Тем более она не совершает попыток рассматривать знание в качестве формы бытия и формы права в частности, о чем заявляет философия. Наука не переводит правоведение в иное измерение, поскольку в ней не наступило понимание того, что знание, как писал К. Эмерих, «полагает себя как бытие, а бытие исполняет себя как знание»87 и, как отмечал Ж. П. Сартр, что знание «пронизывает нас насквозь и определяет наше место…»88.
Генезис российского правоведения вне знания и сознания
Основы современной теории права и ее отраслей получили развитие, как известно, в ΧVΙΙΙ—ΧΙΧ вв. преимущественно на базе классической, социологической и антропологической школ. Считается, что с тех пор правоведение прошло в научно-практическом плане немалый путь и за этот период сформулировало те категории и понятия, которые приобрели свойства универсальности и максимальной обобщенности. Уверовав в достижение некоего теоретического универсума, специалисты стали широко издавать литературу с заголовками «Общая теория права», «Общее учение о государстве», «Общая теория квалификации преступлений» и т. д.
На самом деле никакой универсализации не было и не могло быть, поскольку любая теория есть всегда теория определенного и ограниченного набора идей, основанного на конкретной логике их взаимопостроения. Несмотря на то что в науке о праве формально проходила борьба различных течений, на содержательном уровне неизменным оставалось и до сих пор остается то, что каждое из них получило путевку в будущее в период активного развития представлений о феномене воли, одним из конечных продуктов которой стала волевая теория права. При этом познание этого феномена отразилось на самой науке. Правоведение впитало и на долгие времена задержало в себе составляющий волю терминологический тезаурус. Правоведение получило семантическое насыщение множеством входящих в него значений. Каждое из них и все вместе они сообща акцентируют внимание науки на динамическом моменте воли, передают «волевые» смыслы, демонстрируют момент выбора или «движения души», ее готовность чего-то лишиться или что-то приобрести, совершить поступок. В итоге науку о праве наряду с другими дисциплинами включили в состав поведенческих. К их предмету отнесли познание поведения человека в обществе.
Крен в сторону волевого элемента привел к смещению на второй план сознательного момента. Доказательством тому служит учение о преступлении, представляющее ядро науки уголовного права. Согласно этому учению все событие криминального происшествия рассматривается с позиции состава преступления как общественно опасного и запрещенного законом деяния. Сознание как нечто самостоятельное в этом учении не представлено. Оно встроено в конструкцию деяния, где ему среди прочих элементов отведено рядовое место в составе субъективной стороны преступления. В результате не преступление рассматривается с высоты сознания, а сознание оценивается с позиции волевого акта. Сознание и знание о нем востребовано лишь в том объеме, в котором это необходимо для объяснения механики преступного поведения и выяснения его причин. Принимая это во внимание, учение о преступление, а через него и все уголовное правоведение можно отнести к одному из направлений бихевиоризма, изучающего все поведение с позиции рефлексов и реакций на определенные стимулы в среде.
Еще одним доказательством нивелирования значения сознания выступает теория квалификации преступления, имеющая ключевое значение в практической деятельности органов юстиции. Согласно определению В. Н. Кудрявцева, «квалифицировать – значит относить некоторое явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. В области права квалифицировать – значит выбрать ту правовую норму, которая предусматривает данный случай, иными словами – подвести этот случай под некоторое общее правило. Квалифицировать преступление – значит дать ему юридическую оценку, указать соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую признаки преступления»89.
Эта дефиниция, как видим, переполнена глаголами. Каждая ее часть содержит указание на действие. Но автор не раскрывает, как правоохранитель должен «относить» некоторое явление к какому-либо разряду; каким образом «выбрать» правовую норму; каким способом «предусмотреть» данный случай и «подвести» его под общее правило; за счет чего «дать» юридическую оценку и с помощью каких средств «указать» на уголовно-правовую норму, соответствующую признакам преступления.
В уточнении правоведа прояснено немногое и вновь акцент сделан на волевые акты. Ученый попытался конкретизировать свою позицию, но в итоге в очередной раз ассоциировал процесс квалификации с обезличенным набором действий: указал на «работу органа дознания», «выбор соответствующей нормы», «сопоставление признаков преступления с признаками совершенного деяния» и «построение вывода»90. Только в одном случае он сослался на «изучение» обстоятельств дела, которое в некоторой мере можно связать с ушедшим на второй план сознательным элементом.
Во всех определениях просматривается одна и та же картина. Вовлеченность сознания в процесс квалификации и способность сознания влияния на эту процедуру не отмечены. Отношение к сознательному элементу выражается как к чему-то подразумеваемому, чем можно пренебречь или оставить за скобками. Можно подумать, что процедура юридической оценки совершается механически. Дефиниции сформулированы таким образом, как будто процесс квалификации совершается вне сознания, без сознания и не для сознания как единственно истинного субъекта правоведения, правотворчества и правоприменения. Как будто установление признаков преступления осуществляется без знания о запрещающем его законе, вне знания о событии происшествия и не для получения знания о наказуемости лица. Как будто возможно что-либо определить в юридическом пространстве без применения средств познания личности виновного и его отношения к содеянному, без изучения объекта посягательства и степени его значения для общества. Или как будто теория и все законодательство не являются знанием как результатом познания социальной реальности.
В дефинициях, выполненных по правилам волевой теории права, в конечном итоге упускается, что процесс и исход квалификации зависит не только от череды действий, порожденных мускульным движением и центробежным нервным током, но и от того, кто их совершает, каким он располагает знанием и какие методы познания применяет на месте происшествия. До сих пор, иными словами, в уголовном правоведении сильны позиции Э. Ферри, который утверждал, что «человек действует так, как он чувствует, а не так, как он думает». «Тут не может быть и речи, – настаивал мыслитель, – об исключительной привилегии человечества, о вмешательстве силы нравственной свободы, которая являлась бы чудесным исключением в общем строе происходящих в мире деятельностей»91.
Знание как онтологический базис права
Выясняется, таким образом, что наука не оценивает состояние базиса права и не отслеживает его положение в структуре предпосылок кризиса самого права и социальной нестабильности в целом, так как не имеет о нем должного представления. Вместе с тем укорененность права в знании имеет гносеологическое, онтологическое и аксиологическое обоснования.
Гносеологический аспект
Введение в право в полноценном виде и объеме феномена «знание» ведет к ряду последствий. Во-первых, к появлению в орбите права не менее масштабного и глобального, чем само право, явления бытийного порядка. Во-вторых, к возможности выхода с помощью названной категории за пределы узкой и тривиальной ассоциации знания исключительно с правоведением. В-третьих, к переходу в более широкую плоскость, где не знание рассматривается в составе и на фоне права, в качестве его спутника, а право оценивается на фоне знания как более глубоко укоренного в бытии феномена.
Посредством изменения ролей в паре «знание – право» осуществляется смена полюсов в правовой парадигме, обеспечивается обращение к знанию в его реальном масштабе, достигаются формирование и институализация представлений о знании как сфере реализации права. Здесь знание выступает субстратом, а право – его акциденцией, знание – формой, а право – ее содержанием. В этом формате право выступает как эмбрион, а знание – как его утроба, в которой право зарождается, формируется и живет по законам самого знания. Впредь не знание складывается и раскладывается по канонам права, когда не соответствующие традиционным представлениям о нем суждения исключаются из правоведения или остаются невостребованными. Картину права предлагается составлять и переживать в жизни по логике и правилам самого знания, которые подчинены единственной цели – обеспечению его полноты как условию истинности и достоверности.
Поскольку «знание есть путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету…»92 (Н. А. Бердяев), то отождествление права с категорией знания прежде всего ведет к пониманию права как способа познания реальности и закономерностей ее функционирования. Действуя как средство разузнавания, право реализуется как юридическое восприятие и особого рода мышление. В ходе этого процесса реальный мир рассматривается через юридический концепт, представляющий собой систему общезначимых ценностей и набор правил оценки действительности. Как следствие, мы получаем знание, например, об уровне конфликтности разных социальных групп в обществе, о степени распространенности в них экстремистских и иных криминогенных настроений, а в целом – об уровне цивилизованности конкретного социума. Затем обретенное знание реализуется в жизни через применение на практике соответствующих этому знанию правовых средств и методов общественного урегулирования и примирения.
Знание предлагает не ограничивать процесс познания права исследованием взглядов на него субъектов правоотношений. Тем самым отстаивается оценка состояния права с точки зрения субъектов знания. Продвигается изучение влияния качества знания на качество правоведения, правотворчества и правоприменения. Первоинтерсом субъектов правоотношений становится не столько сам возникший между ними конфликт как реализовавшееся в пространстве и во времени событие, а знание о мотивах, причинах, механизме и последствиях деликта, которое им необходимо для получения нового знания о справедливом способе, месте и времени его разрешения. Также обнаруживается, что знание не ставит под сомнение формальное равенство всех перед законом как основной и абсолютный принцип права. Однако отмечается, что самого по себе этого принципа недостаточного для реализации права в реальной жизни. Его исполнимость зависима и уязвима от качества знания об этом принципе, о месте и условиях его реализации. Дееспособность лица обусловлена не только и не столько его антропологическими данными, сколько состоянием имеющегося у него знания. Без знания о наличии у него того или иного правомочия лицо не сможет им воспользоваться93.
Онтологический аспект
К трем основным формам бытия В. С. Соловьев, наряду с чувством и деятельной волей, отнес знание. Оно является в его понимании образующим началом общечеловеческой жизни, поскольку имеет своим предметом объективную истину94. Через знание, сообщал Н. А. Бердяев, бытие совершает акт самопознания и самораскрытия, расчленения и оформления, проходит путь от хаоса к космосу, от тьмы к свету. С помощью знания бытие в итоге просветляется и «побеждает безумие хаотического распада», «становится более истинным». Знание и бытие, как видим, отождествляются мыслителями. При этом делается это не спекулятивно и не априорно, а доказательно. Проведенное ими сравнение позволило обнаружить, в частности, что «то расчленение, и дифференциация, и объединение, и синтезирование, которые даны в знании, совершаются в самом бытии…». И наоборот, как писал философ, «в самом бытии происходит то, что происходит в знании…»95.
Бытийное происхождение знания тем интересно праву, что через обнаружение себя в знании и знания в себе оно получает легальные основания для отношения к феноменам онтологического порядка и возможность для преодоления невысокого о себе мнения позитивистов, считающих право предприятием во многом рукотворным и искусственным. Через категорию знания право получает не произвольное, а закономерное притяжение к человеку и антропологическое обоснование, поскольку оно производно от сознания и без сознания как единственного источника своего питания невозможно. Если в большинстве позитивистских школ человек получает место служителя или, в лучшем случае, выразителя права, то знание ведет право к человеку и человечеству, для которых знание является не только продуктом мышления, всецело и безраздельно совершающегося в уме индивида, но и «живой функцией бытия»96. Несмотря на индивидуально-психологическое происхождение, знание имеет общечеловеческое или бытийное значение. Знание приходит вместе с индивидом, но с его уходом оно не утрачивается, а остается с родом, обеспечивает его единство, преемственность и развитие. Через знание бестелесное и недействительное человечество становится реальным и бессмертным97.
Поскольку знание бытийно, представляет собой безусловный и неограниченный горизонт бытия, в котором сущее схватывается как истинное98, то его освоение обеспечивает вывод правоведения в сферы «сознания» и «познания» как области его предельных оснований. Появляется возможность объяснить логическую взаимосвязанность и онтологическую взаимообусловленность этих феноменов. Известно, что сознание существует в виде знания, а познание предполагает знание, включает знание и стремится к знанию. В свою очередь, любое знание всегда предполагает некоторые логические формы и «универсальные элементы сознания – сознание времени, без которого я не могу отличать одного состояния от другого, сознание пространства, причинности, без которых я не могу отличать вещей от ощущений, я от не-я и т. д.»99. Более того, знание правил «определяет успех в познании истин и ведет к нравственному совершенству…»100.
Выход в область сознания отодвигает на второй и третий планы такие традиционные источники права, как обычай и закон. Подлинным и перманентным источником права и знания о нем объявляется сознание человека. Прежде всего сознание, а затем уже иные символические и вещественные памятники поддерживают в активном состоянии представления индивида и общества о праве и его запретах. Если на ранних этапах эволюции правового знания его источником являлось в основном чувство, которого было достаточно для обозначения наглядности, очевидности и недопустимости правонарушения, то последовавший прогресс сознания, его эволюционное превращение в «существенное проявление жизни»101, развитие и усложнение социального бытия, движение его участников от индивидуальных форм существования к коллективным привели к замене прежних источников и их переходу от чувства к разуму, от инстинкта к сознанию.
Углубление в онтологию знания также дает правоведению понимание того, что для сознания человека привычно работать одновременно в разных режимах и форматах. При этом вне зависимости от преследуемой цели акт познания всегда прежде выходит в область знания в целом, которое предшествует научному знанию, вмещает и часто содержит в недифференцированном виде как научные, так и ненаучные представления о мире и его субъектах. В этот момент реализуется, как отмечал Н. А. Бердяев, «нерационализированное сознание», которое П. Риккерт обозначил как «иррациональное “переживание”»102. Затем, согласно заданной цели, сознание через эту самую дифференциацию пробивается и в конечном итоге переходит к научному знанию. Для права это означает, что акт правоведения на пути к самому себе, к своему свершению в виде знания проходит аналогичную дорогу. То есть взаимодействует не только и не столько с себе подобными науками, но также кооперируется, или во всяком случае содержит в себе элементы работы, с обыденным, художественным, религиозным, экономическим, политическим, мифологическим, философским, этическим и другими видами познания, которые также могут производить истинные суждения. «Научность, – как отмечал Н. А. Бердяев, – не есть ни единственный, ни последний критерий истинности»103.
Знание, таким образом, избавляет правоведение от абсолютизации науки и ее восприятия в качестве единственного истинно сущего. Такой вывод требует от науки права заниматься исследованием положения своего предмета не только среди наук иных отраслей права, но и среди альтернативных видов познания; не оставлять без внимания то, что помимо собственной теории к основным источникам правового знания относятся философия, история и социальный опыт, к каждому из которых как неотъемлемому элементу своей структуры это знание на протяжении своего развития реализовывало и реализует особенное отношение.
Аксиологический аспект:
Поскольку знание «соединяет нас с другими сознаниями, как с предшествовавшими, так и с существующими»104, то через эту категорию право естественно встраивается в сконструированный по ее образу и подобию социально-ценностный контекст. В этом контексте «знание о другом предполагает знание о самом себе», а человек не понимает ни себя, ни оппонента. Понимание для права является предтечей как правоспособности, так и дееспособности, знание о самом себе отчетливо разворачивается в знании о другом. «Если удалить из нашего индивидуального сознания совокупность всего унаследованного, всего внушенного и внушаемого нам, оно лишится и формы, и содержания, обратится в ничто»105.
Вхождение с помощью знания в область социального способствовало обнаружению понимания как универсальной и бытийной ценности, которой право подчинено и призвано служить. Через знание, говоря словами К. Ясперса, «сознание… делает возможным однозначное понимание, а тем самым и общность в объективно значимом»106. Без понимания как такового и скрытых за ним герменевтических практик невозможна совместная жизнь людей, немыслимо само общество. Для К. Ясперса понимание является и нормой, и условием жизнедеятельности. Нормально, когда люди понимают друг друга. И совсем ненормально, когда человек не понимает ни себя, ни другого, поскольку для реализации в жизни ему исходно надлежит понимать себя и первоначально научиться понимать другого. Лишь через взаимоотношение «знания о себе» и «знания о другом», как отмечал Э. Корет, «образуется отчетливое понимание бытия»107.
Понимание, таким образом, выступает не только физиологически обусловленной целью, но и социально необходимой ценностью для своих субъектов, т. е. идеалом, который для них в определенной степени недостижим, из-за чего возникают конфликты и потребность в правосудии как в способе разрешения противоречий и принуждения к пониманию. Но не в любом властно организованном правосудии, а только в том, которое принципы своего нормативного значения и регулятивного воздействия заимствовало у самого понимания.
Известно, что в императиве понимания скрыты не только гарантии свободы мнения и суждения, но и требования долга, обращенные как к понимаемому, так и к понимающему, которыми по совместительству являются и не могут не являться субъекты правоотношений. Как одну, так и другую сторону понимание призывает к взаимоуважению через взаимопознание.
Понимание не только предобусловливает право, но и определяет его содержание, поскольку сопровождает каждую норму права. Такое сопутствие обеспечивается за счет незримого присутствия понимания в принципе справедливости. Этот принцип позволяет требовать выполнения правового запрета только тогда, когда он осознается адресатом и имеет конгениальную возможность его выполнить. В случае если запрет отвечает критерию понимания, но не выполняется, а все для этого изъяснительные инструменты исчерпаны и в достаточной степени представлены в законе, должен включаться механизм нормативного акта для принуждения к его пониманию и исполнению.
С позиции знания и с помощью герменевтического учения обнаруживается, что финальное определение правовому запрету дает не законодатель и не закон как продукт его деятельности, а субъект правоприменения. Так, на первом этапе следователь оценивает: а) опасность преступления, которую имел в виду автор нормы, запрещающей это деяние; б) опасность преступления в восприятии виновного и потерпевшего, а также окружающего их общества; в) опасность преступления, представление о которой сложилось у самого следователя. Далее он согласовывает названные представления об опасности в своем логическом и мировоззренческом кругу. Затем выносит результаты собственного герменевтического труда на суд иных участников судопроизводства – руководителя следственного органа, защитника, прокурора, судьи. Каждому из них на соответствующем этапе надлежит пройти по аналогичному кругу и согласиться либо не согласиться с предыдущим интерпретатором происшествия. При этом каждому толкователю предоставлена возможность коммуникации с иными участниками процесса для обоснования и отстаивания своего понимания обстоятельств дела, а оппонентам – возможность перепроверить свои представления о рассматриваемом предмете и при согласии ответить взаимопониманием.
Здесь коммуникация, как пишет И. Т. Касавин, выступает «главным источником познания»108. Именно в ходе коммуникации участников судопроизводства в конечном итоге рождается выверенное и апробированное правовое знание о подлежащих доказыванию обстоятельствах. Право, таким образом, всецело находится на службе у знания. Не закон, а знание о событии, происшествия и о законе, которое вырабатывается в процессе коммуникации участников судопроизводства, служит единственно реальным и актуальным основанием ответственности. Не зря М. Хайдеггер в свое время обращал внимание на то, что «судить – значит правильно представлять… Судить это… представлять правильное и, через это, также, возможно, и неправильное»109.
О рациональности права: общетеоретический и социокультурный аспекты
Хамидуллина Фарида Ильдаровна
профессор кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук
Категория рациональности права вообще и гражданского права в частности относится к так называемому философскому измерению, которое хотя и не имеет закрепления в позитивном законодательстве, однако всецело определяет его принципы, нормы, структуру и практику судебного применения. Приступая к анализу нравственных оснований гражданского права в философском измерении, мы в первую очередь констатируем, что здесь и далее сам термин «измерение» используется нами в общеизвестном бытовом смысле: это «протяженность чего-нибудь в каком-либо направлении». Как отмечал основоположник методологии науки Р. Декарт, в одном и том же предмете может быть бесконечное множество различных измерений, как имеющих реальное основание, так и придуманных по произволу нашего ума. Мы так или иначе измеряем целое всякий раз, когда рассматриваем его как разделенное на части110. Придать измерение чему-либо – значит задать перспективу и точно определить соответствующей мерой величину, потенциал и/или иные характеристики данного объекта.
Разработка проблемы нравственных оснований гражданского права носит комплексный характер, то есть изначально подразумевает сочетание самостоятельных предметов научного анализа, взятых в качестве неразрывного единства: феномены права и нравственности формально автономны и вместе с тем функционально взаимосвязаны как инструменты упорядочивания отношений и поведения людей. Разделение подобных комплексных объектов на части на определенном этапе исследований необходимо и методологически оправдано, что и доказал в свое время Рене Декарт.
Применительно к философскому измерению нравственных оснований гражданского права мы подразумеваем ракурс и контекст философии как науки, создающей обобщенную картину мира и места человека в нем111. «Философия, – писал об этом Э. Л. Радлов, один из авторов знаменитого Энциклопедического Словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, – есть свободное исследование основных проблем бытия, человеческого познания, деятельности и красоты»112.
Ключевое слово здесь – «свободное». Дело в том, что философия не есть система знаний наподобие физики, математики или биологии, и потому ее нельзя преподать – философское знание не сообщается. Эту мысль нередко высказывал наш современник и соотечественник, философ с мировым именем М. К. Мамардашвили113. Человек свободно, сам так или иначе обращается к философии, когда у него уже есть жизненный опыт, переживания, испытания, заставившие его задаться вопросами, которые на самом деле являются философскими, хотя человек об этом может даже и не подозревать – просто ему нужно найти ответ, какой-то ориентир на дальнейшем жизненном пути114. И вот тогда важно, чтобы произошла встреча с профессиональной философией, которая не передаст знания, а лишь поможет личному акту, чтобы человек упорядочил состояние своего сознания и случилось то, что Платон называл «вторым плаванием». «Первое плавание – человек родился, и он естественным образом проходит через годы жизни, поскольку он растет и потом стареет, происходят какие-то события, он плавает в море жизненных обстоятельств. А есть второе плавание, которое есть какой-то особый акт, второе рождение, акт собирания своей жизни в целое, собирания своего сознания в целое, целое в том смысле, в котором вы это слово применяете к художественному произведению, – как некое органическое единство, которое не само по себе сложилось, а является именно целым»115. Второе плавание содержит в себе элемент философствования, вне зависимости от того, отдаем ли мы себе отчет в этом. Без философии второе плавание произойти не может116.
С учетом этого важного обстоятельства изучение нравственных оснований гражданского права в философском измерении представляется органичным, естественно необходимым как для развития юридической теории и практики, так и для юридического мировоззрения отдельных людей, их групп и всего общества.
Об актуальности обозначенного подхода свидетельствует также и наличие постоянной рубрики «Философское измерение права» в «Российском журнале правовых исследований», зарегистрированном Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21.07.2014117. Поясняя концепцию нового издания, его главный редактор А. Д. Керимов обращает внимание на то, что в современных условиях «наибольшего успеха достигают те, кто не пытается с упорством узкого фанатизма сохранить превратно понятую «чистоту» своей дисциплины, ограждая ее от всяческого вторжения извне, а настойчиво и последовательно расширяет диапазон исследовательских усилий путем широкомасштабного и интенсивного привлечения инструментов и методов анализа, результатов и знаний, полученных, накопленных и используемых в других научных областях»118.
По существу о том же говорит и академический директор Аспирантской школы по праву НИУ «Высшая школа экономики» Г. Бекназар-Юзбашев, который считает, что «юриспруденция в России зажата в самой себе, она мало использует достижения других наук. … Чтобы регулировать общественные отношения, знаний одной юриспруденции сегодня уже недостаточно. Это касается не только правового регулирования, но актуально и для практикующих юристов, поскольку понимание смежных наук дает возможности для дополнительной аргументации»119.
Разделяя эти убеждения, считаем, что глубинные связи права и нравственности могут быть наиболее полно раскрыты и объяснены именно на основе междисциплинарности, интеграции различных областей знания, включая в том числе и философию.
Точку соприкосновения права и философии в интересующем нас тематическом пространстве находим в первую очередь в том очевидном факте, что рациональность является неотъемлемым атрибутом права. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Как известно, термин «рациональность» имеет латинское происхождение: rationalis (< ratio = рассудок, разум, смысл) – разумный, одаренный разумом, то есть способностью логически и творчески мыслить и обобщать результаты познания120. Знаменитый русский лексикограф В. И. Даль, определяя разум как способность верного, последовательного сцепления мыслей, указывал на то, что это лишь одна половина духа человека, тогда как другая его духовная сила – это нрав, нравственность. Сочетая разум и нравственность, человек становится уникальным существом, отличным от всех прочих живых организмов121.
С учетом словарных дефиниций мы будем использовать термины «рациональность» и «разумность» в качестве семантически тождественных и взаимозаменяемых.
Когда говорят о разумном поведении, поступках, суждениях и тому подобном, имеется в виду некое соответствие здравому смыслу, эталонам рассудка. В свою очередь, наша рассудочная деятельность основывается на комплексе базовых, привычных представлений об окружающем мире и о нашем месте в нем. С помощью разума человек ориентируется в жизненном пространстве: логически обрабатывает различную информацию, обдумывает все происходящее, принимает решения, дает оценки и прогнозы, ставит перед собой какие-то цели и намечает конкретные пути их достижения.
Мы осознаем, что мир сложен, и стремимся постичь его на приемлемом для себя уровне – так, чтобы не потеряться под влиянием обстоятельств, а использовать каждое из них для своего развития и совершенствования. Наша рациональность есть способность в хаотическом мире природных явлений, социальных событий, моральных акций установить порядок в мире, соизмеримый с упорядоченностью человеческой души, нравственности и рассуждения122. Сама человеческая природа такова, что мы «ищем соразмерности искомого порядка в нашей индивидуальной душе с миром вокруг нас, или, как сказали бы греки, с космосом, с душой в общем смысле слова, не только индивидуальной душой, а некой более широкой, скажем, душой мира, как раньше выражались, или с полисом, то есть с социальным устройством»123.
Очевидно, что этот поиск сопровождается значительными интеллектуальными усилиями, что и отличает его от рутинных повседневных операций, которые мы выполняем автоматически, в режиме текущего распорядка очередного дня, на уровне сложившихся стереотипов мышления и поведения. Каждый, кто не ленится приступить к такому поиску, в конце концов своим собственным, индивидуальным путем приходит к пониманию, что «есть социальное устройство, которое шире отдельного человека; есть космос, который заведомо больше отдельного человека; есть какой-то разум и душа в общем смысле слова, которые тоже больше человека. И все эти три вещи должны как-то быть соотнесены с каждым отдельным человеком по принципу возможностей человека установить порядок, соразмерный с ним самим»124.
Но чуть выше мы отнюдь не оговорились, когда упомянули лень. «Мать всех пороков» на самом деле свойственна человеку от природы, как будто сама эволюция предусмотрела механизм, в какой-то степени предназначенный оберегать нас. «С точки зрения биологии лень – это чрезмерная реализация принципа экономии энергии. Все живые организмы стремятся оптимизировать соотношение полученных жизненных ресурсов и затраченной для этого энергии, то есть стараются получить побольше, потратив поменьше. … Таким образом, экономить силы (то есть энергию, затрачиваемую для удовлетворения некой потребности) биологически оправдано, так же как биологически необходимо получать энергию (то есть питаться). Чтобы жить, нужно есть. Но, если человек живет для того, чтобы есть, это плохо, дезадаптивно. Так же обстоит дело и с тратой полученной энергии. Энергию нужно экономить, но когда такая экономия становится доминирующей мотивацией, то это уже лень»125. А ленивое поведение, как видим, дезадаптивно. И потому те, кто поленился своевременно «включить рассудок» и «отправиться во второе плавание», будут вынуждены довольствоваться упрощенными жизненными схемами, примитивными объяснениями и навязываемыми массовыми шаблонами, которые опасны тем, что блокируют личностный рост и существенно понижают прирожденный творческий потенциал, изначально дарованный каждому из нас.
Проиллюстрируем изложенное с помощью пространственной метафоры. Итак, человек существует в своеобразной и непростой системе координат. С одной стороны, она задана сложностью окружающего мира. С другой – способностью человека в полной мере осознать эту сложность и сделать такое осознание неотъемлемой частью своего мировосприятия, чтобы понимать жизнь и свободно ориентироваться в ней. Кроме того, в рассматриваемой системе координат есть еще одна ось, причем едва ли не главная – это важнейшая человеческая потребность быть в гармонии с самим собой, то есть при любых обстоятельствах сохранять самоуважение (или, по М. К. Мамардашвили, «уважительное тождество с самим собой», что эквивалентно психологическому термину identity = идентичность).
В итоге получаем трехмерное пространство, где оптимальное положение человека достигается всякий раз за счет преодоления лени и постоянной работы над собой, расширяющей горизонты сознания. Тем не менее, только лишь эти усилий недостаточно. Дополнительно требуются особые, целенаправленно изобретаемые человеком инструменты, помогающие ему установить искомые гармонию и порядок. В качестве одного из таких инструментов М. К. Мамардашвили называет философию, потому что она делает мир обитаемым в смысле возможности комфортного существования человека – такого существования, которое отвечало бы высокому предназначению Homo sapiens, человека разумного, как самого совершенного среди живых существ126.
Здесь уместно сделать небольшое отступление и задаться вопросом, достоин ли человек такого возвеличивания сам по себе, то есть родившись именно человеком, а не каким-нибудь львом либо гориллой. Лучшие умы человечества, начиная с великих мудрецов Древней Греции Сократа и Платона, отвечали на этот вопрос отрицательно. Нет – потому что отец и мать дают жизнь лишь некоему «куску мяса», и как таковой он ничем не отличается от потомства других представителей биологического царства животных. Различия проявляются постепенно, с развитием рациональности – разума, мыслительных способностей, рефлексии как самопознавательной деятельности человека, добавляемой к его реальному, природному появлению на свет.
Все эти специфически человеческие, разумные акты самоопределения, обусловливающие окончательное становление себя в каждом из нас, Платон связывал со «вторым плаванием», о котором мы уже упоминали выше, а Декарт считал «вторым рождением». Обращаясь к разуму и самосознанию, Декарт утверждал, что мое «я» – не от родителей: «я» еще должен родиться через собственное самопроявление и собственный ум, не зависимый от внешних авторитетов, самостоятельный, не ведомый на помочах. «Можешь только ты», – вот напутствие Декарта и суть его философии классического рационализма, основанного на трех постулатах: во-первых, мир всегда нов: в нем как бы ничего еще не случилось, а только случится вместе с тобой; во-вторых, в нем всегда есть для тебя место, и оно тебя ожидает: ничто в мире не определено до конца, пока ты не занял пустующее место для доопределения какой-то вещи; в-третьих, если в этом моем состоянии все зависит только от меня, то, следовательно, без меня в мире не будет порядка, истины, красоты; не будет чисел, не будет законов, идеальных сущностей – ничего этого не будет127. Таким образом, рациональность есть уникальный способ отношения человека к миру, дарующий нам жизнь в духовном смысле слова.
Теперь вернемся к рассуждениям об обитаемости мира. Человек, если считать его только природным, биологическим существом, может приспособиться жить везде, где есть вода, атмосфера и достаточно теплый климат, что в совокупности поддерживает необходимые процессы жизнедеятельности, размножения и развития. Вместе с тем очевидно, что с учетом фактора рациональности, включающего духовные, разумные начала в человеке, критерии обитаемости мира будут иными. Их анализ выходит за предметные рамки настоящего исследования, в целях которого мы ограничимся лишь указанием на один из таких критериев, а именно – человеческие связи, возможность их установления, поддержания и развития. В марксистской теории такие связи получили название общественных отношений. Отметим, что термин «отношения» по происхождению восходит к древнейшим лексическим единицам индоевропейских языков, означающим передачу и получение чего-либо, достижение общности, сближение (общий смысл примерно такой: «у меня есть нечто, некая «ноша», которую я передаю от себя тебе, и теперь мы друг с другом связаны»)128.
Итак, для того, чтобы мир общественных отношений стал обитаемым, комфортным для совместного существования людей, одних лишь природных факторов недостаточно. Установление необходимых человеку связей с себе подобными требует, кроме прочего, рациональных механизмов профилактики и разрешения конфликтов в случае неизбежного столкновения несовпадающих интересов. В качестве такого механизма уже на сравнительно ранних этапах истории человечества выступали социальные нормы – искусственно создаваемые инструменты для упорядочивания жизни, в том числе нравственные и правовые императивы.
В порядке иллюстрации заметим, что особенности рационального выбора, оказавшие влияние как на моральное, так и на правовое сознание, отражены в русских сказках, что убедительно показал лауреат премии «Золотое перо России» В. В. Панюшкин, предложивший прочтение русских народных сказок «глазами юриста»129.
Например, по смыслу русской сказки «Морозко», прав тот человек, который приносит доход, не требуя при этом расходов. Соответственно, является виноватым и подлежит уничтожению тот, кто расходов требует, а доходов не приносит. Злая мачеха приказывает мужу отвезти падчерицу в лес, чтобы та могла прясть с утра до вечера, но есть не просила, повышая тем самым экономические показатели домохозяйства. Падчерица, так же, как и ее отец, покорно принимают такую волю на уровне рационального выбора: очевидно, что в случае смерти падчерицы расходы на ее содержание сократятся до нуля, но если она не умрет, а будет прясть где-то в лесу с утра до вечера, то ее также не надо будет содержать, зато можно будет получить доход от пряжи. «Лучше мне умереть, чтобы не ухудшать экономические показатели отцовского хозяйства», – таков рациональный выбор падчерицы. И когда вдруг появляется Морозко, она и его уверяет в том, что никаких расходов для поддержания ее жизни не нужно. Поскольку это совпадает с рациональной логикой Морозко, он весьма доволен ответом падчерицы и в итоге вознаграждает ее. Подобные истолкования, выявляющие коллективные стереотипы сознания, возможны и по отношению к другим сказкам.
Как убедительно доказывает ход истории, цивилизации не состоялись бы без права: тогда обесценилась бы человеческая жизнь, были бы подавлены импульсы к развитию, разрушились бы механизмы установления компромиссов и разрешения противоречий. Как следствие, мир постепенно погрузился бы в опасный социальный хаос. Ведь «право для людей, их жизни и судьбы выступает и как основа возвышения личности, и как опора активности, творчества человека, и как его убежище от зла и несправедливости – гарантия свободы и ограждение от бед»130. Лишь на основе права и справедливости, отмечает Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, возможно «обеспечить устойчивую замиренную среду, легитимный правопорядок и верховенство права как необходимое условие современной цивилизованной экономики и политики»131. Верно, что право «является необходимым инструментом для сдерживания сил зла, а анархия или полное отсутствие права – высшим выражением зла, которое следует избегать любой ценой»132.
Используемое в роли инструмента примирения и согласия, «право гораздо старше государства»133. В сложнейших жизненных ситуациях, существовавших и в догосударственную эпоху социального развития, право призвано внести в конфликтную среду строго определенные, разумные начала соглашения, компромисса, взаимных уступок, учета и гарантий различных интересов. Такая точка зрения в настоящее время считается общепризнанной. Между тем упрощенная трактовка права, основанная на ортодоксальном марксизме, по смыслу противоположна: право возникает позже государства, производно от него и никого не примиряет, а, напротив, способствует социальной вражде, так как является государственным принуждением, орудием классового господства в обществе.
Столь противоположные оценки социального предназначения права – средство примирения versus средство борьбы – на наш взгляд, не исключают некоей общности. Усматриваем ее в том, что в любом случае право признается инструментом, или орудием, применяемым для достижения определенных целей.
Важнейшая отличительная черта такого орудия – его двойственная природа: сочетание материального и идеального, обладающее неотъемлемым атрибутом рациональности. Иными словами, право есть в первую очередь сознательное явление. В данном случае мы употребляем этот термин в широком философском смысле, имея в виду следующее: весь мир, весь состав мира, явлений мира, делится на физические явления и сознательные явления, которые отличаются тем, что агентами этих явлений являются сознательные существа134.
Характеристику права как сознательного явления дает, в частности, один из известных современных философов права, германский правовед Р. Алекси. Он вводит в научный оборот термин «дуальность права» и раскрывает его содержание следующим образом: «Тезис дуальной природы предполагает, что право необходимо включает как реальное, или фактическое, так и идеальное, или критическое измерение. В определении права фактическое измерение представлено элементами официального происхождения (authoritative issuance) и социальной эффективности, тогда как идеальное измерение находит свое выражение в элементе моральной правильности (correctness)». Данный тезис, по мнению Р. Алекси, должен быть развит далее внутри некой системы, а «всеобъемлющая идея этой системы – институционализация разума»135.
По нашему мнению, признание такой двойственности позволяет выдвинуть на первый план именно сознательный характер права, что имеет некоторые методологически важные следствия, а именно:
1) феномен права не встречается в органическом и неорганическом мире сам по себе, это креатура разума и неотъемлемая часть духовной культуры, которая отличается от каких-либо механических или научно-технических артефактов, всевозможных агрегаторов, изобретенным человеком для собственного удобства и развития (например, паровой двигатель, электрическая лампочка, химикаты, анестезия, информационно-коммуникационные технологии и все прочее, что мы связываем с прогрессом материальной культуры);
