Путешествия любви
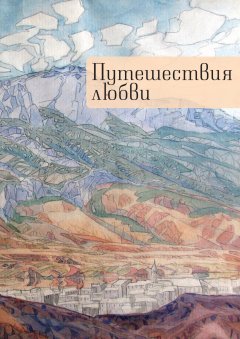
© Коллектив авторов, 2023
© А. Ю. Коровин, составление, 2023
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023
- Я уношу в свое странствие странствий
- Лучшее из наваждений земли…
- Максимилиан Волошин
Любовь – это путешествие
Любовь любит путешествия, а путешествия любят любовь. Именно эта мысль стала в 2022-м году отправной точкой для прозаической номинации «Путешествия любви» широко известного и популярного среди писателей Волошинского конкурса. Десятки новых имён были открыты читателям этим конкурсом, опубликованы в литературных изданиях всего мира.
Но точкой сборки этой книги стал не только Международный литературный Волошинский конкурс, который отмечает своё 20-летие, но и легендарный Дом Поэта в Коктебеле, где все эти годы собираются писатели, художники, музыканты, учёные, режиссёры и актёры, делатели культуры многих стран на Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь».
Сегодня в моде арт-резиденции, арт-пространства и прочие арт-проекты. А ведь никто не задумывается о том, что первую в России (а может, и в мире) арт-резиденцию для творческого отдыха и работы создал более ста лет назад, в начале XX века, в Коктебеле гений места, поэт и мыслитель Максимилиан Волошин. Его дом-корабль, уютная бухта, потухший вулкан Кара-Даг и окрестности легендарной Киммерии стали тем арт-пространством, в котором творился Серебряный век – ярчайшее и самобытнейшее явление русской культуры.
С тех пор каждый приехавший в Коктебель обретает здесь что-то неповторимое, увозит отсюда на память карадагский сердолик или нерукотворное стихотворение – живописный крымский рассвет, волошинский профиль на горе, сбежавший в море Хамелеон, зачерпнувший воды в Сердоликовой бухте алый закат.
Все писатели, объединённые под этой обложкой, живущие в разных городах и странах, в разные годы были гостями Дома-музея поэта в Коктебеле, членами жюри или победителями Волошинского конкурса. География этой книги раскинулась по всему миру – от Москвы до Лос-Анджелеса, от Венеции до Махачкалы, от Киева до Парижа, от Тбилиси до Петербурга. Во многих рассказах волны Чёрного моря накатывают на берег, передают приветы из Коктебеля и Крыма…
Любовь – это путешествие. И мы готовы вместе с вами, дорогой читатель, отправиться в путешествие любви, которое будет бесконечным. В добрый путь!
Леонид Юзефович (Санкт-Петербург)
Колокольчик
На роковом для многих, тридцать седьмом году жизни Лапин впервые за десять лет брака изменил жене, сам же ей в этом признался по инфантильной привычке ничего от нее не скрывать, всю зиму был на грани развода, но из семьи не ушел и весной, искупая вину, при активном финансовом содействии тещи, которую жена держала в курсе событий, купил дом в пригородном селе Черновское, чтобы восьмилетняя Нинка могла целое лето проводить на воздухе. Впрочем, Нинка с ее бесценным здоровьем составляла лишь самый верхний пласт в многослойной толще соображений, лежавших в основе этой акции. После всего случившегося им с женой необходимо было обновить отношения, сменить обстановку. Дом еще не был куплен, а они уже говорили о нем как о месте, где в тишине, в покое, под сенью березовых перелесков, на берегах относительно чистого водохранилища оба сумеют зализать свои раны и, может быть, увидят друг друга в ином, неожиданном свете, возвращающем их во времена юности, нежности, взаимного умиления. Спали они пока врозь, но для дома в Черновском жена приобрела комплект нового постельного белья в цветочках. Эту покупку она, правда, не слишком афишировала, чтобы не спугнуть Лапина самонадеянной уверенностью в неизбежном счастливом исходе. Если же копнуть еще глубже, там жена с тещей рассчитывали хозяйственными заботами отвлечь его от опасных мыслей и разлагающих томлений, а сам он, отчасти понимая, что так и случится, в то же время втайне надеялся иногда приезжать в Черновское с Таней, хотя за месяц перед тем они твердо решили больше не встречаться и даже не звонить друг другу. Таня настояла, а Лапин как бы смирился, но в глубине души прекрасно знал, что всё зависит от него. Как он захочет, так и будет.
Жена быстро поверила в его раскаяние, в его искреннее и глубокое осознание совершенной ошибки, исправить которую окончательно и прямо сейчас ему мешает лишь самолюбие. Теща, мудрая женщина, не пыталась ее разубедить, но не исключала, видимо, что зять связывает с этим домом определенные планы и его рано отпускать туда одного. В конце мая она с Нинкой перебралась в Черновское, а дочь предусмотрительно оставила в городе приглядывать за Лапиным. Он, однако, под разными предлогами ухитрялся ездить на дачу отдельно от жены, не в выходные, а на неделе, когда та работала. Приезжая, под руководством тещи весь день что-то приколачивал, вскапывал, закапывал, строил новый сортир, но вечером, уложив Нинку, спускался к водохранилищу, курил на берегу, думал о Тане, о том, что без нее оставшаяся жизнь будет уже не жизнью, а доживанием. Он ей не звонил, и она за всё это время не позвонила ни разу.
В середине июня выдалось три свободных дня подряд. Лапин уехал в Черновское, заночевал, а утром прискакала Нинка, ранняя пташка, начала его теребить, стаскивать одеяло, требуя, чтобы он немедленно вставал и куда-то с ней шел, она ему что-то покажет.
– Ну пап! Ну вставай! – ныла она. – Скоро их поведут!
Лапин сонно отмахивался:
– Кого? Куда?
Она сказала с раздражением:
– Ну интернатских же, которые под себя писяются. Я тебе еще вчера говорила. Забыл?
Он забыл, но встревожился, глядя, как она аж подпрыгивает от нетерпения.
– Идем, пап! Опоздаем же!
Интернат при местной школе-восьмилетке располагался рядом с автобусной остановкой. Всякий раз, проходя мимо, вдыхая запах щей из кислой капусты и еще чего-то казенного, казарменного, Лапин испытывал мгновенный стыд при мысли, что за два квартала отсюда нахальная Нинка, раскармливаемая тещей, уплетает постную говяжью тушенку и в один присест может опростать полбанки сгущенного молока. Он хорошо помнил, как в детстве на его глазах откровенная барачная нищета, которую все воспринимали как должное, сменилась нищетой потаенной, почти пристойной или, напротив, горластой, бьющей себя в грудь. В обоих случаях Лапин имел право ее не замечать. Здесь же, в часе езды от областного центра, она то ли никогда не исчезала, то ли вдруг с пугающей легкостью вернулась к прежнему облику. Убогость этого мира внутри школьной ограды была разветвленной, сложной и естественной. За ней стояла традиция, уходящая в глубь десятилетий.
Школа носила имя известного в свое время поэта Каминского, чья жизнь была прочно связана с Черновским. Потомственный горожанин, он любил эти места, еще в тридцатых годах построил здесь дом и анахоретом прожил в нем последнюю треть жизни. Теперь дом был превращен в музей. На туристических картах Черновское отмечалось кружочком с вписанным в него треугольником, обозначающим памятники культуры. Студентом Лапин писал о Каминском дипломную работу, и когда теща объявила, что присмотрела дачу не где-нибудь, а в Черновском, у него неприятно сжалось сердце. Случайность, да, но если судьба гонит по кругу, значит, ничего неожиданного в жизни уже не будет. После разлуки с Таней он стал особенно внимателен к таким совпадениям. Всюду мерещились намеки на то, что круг замкнулся, всё пошло по второму разу.
Они с Нинкой остановились у штакетника, идти во двор Лапин не захотел. Недавно начались каникулы, но детей еще не развезли по деревням, при интернате для них организовано было что-то вроде трудового лагеря. Они убирали территорию, работали на участке, возили и кололи дрова на зиму. Вечерами ребята постарше околачивались возле клуба, помладше – на пристани. Сейчас все собрались во дворе, строились по группам. Передние, самые маленькие, уже топтались вдоль наведенных известью линеек. В их стремлении встать так, чтобы носы кроссовок, тапочек и туфелек ни в коем случае не вылезали на белую полосу и не отступали бы чересчур далеко от нее, в молчаливом этом и мелочно-кропотливом выравнивании жиденьких шеренг, призванных противостоять бесформенному ужасу жизни, клубящемуся по обе стороны утреннего построения, тоже было что-то давно забытое, но родное, чего Таня в ее возрасте не знала и знать не могла.
Несколько девочек с формами хихикали на скамейке, их сверстники покуривали за углом, но и они энергично прибились к остальным, едва на крыльце показался директор интерната, мужчина лет пятидесяти с темным от деревенского загара костлявым лицом, в белой рубашке навыпуск. Вслед за ним вышел мальчик с барабаном и скромно встал в стороне.
– Смотри, сейчас поведут! – шепнула Нинка.
По дороге она ничего толком не объяснила, не желая предвосхищать события и портить впечатление. Жена тоже всегда проявляла удивительное, поражавшее Лапина терпение, если хотела осчастливить его каким-нибудь сюрпризом. Сам он был на это совершенно не способен. Даже подарки, купленные ей ко дню рождения, дарил в тот же вечер, когда приносил их из магазина.
Дождавшись тишины, директор заговорил бодрым и вместе с тем подчеркнуто негромким голосом. Лапин уловил знакомые, но по нынешним временам слегка архаичные интонации начальственной доверительности: дескать, все мы, тут собравшиеся, взрослые и дети, руководство и подчиненные, выполняем одну задачу. Мы – соратники, нам нужно держаться заодно и стоять крепко, а засадный полк не подведет, озерный лед вот-вот проломится под закованными в железо тевтонами. Содержание речи не имело ровно никакого значения, оно полностью исчерпывалось веерообразным движением загорелой руки, объемлющим дальних и ближних, сильных и сирых, самого директора и двух стоявших поодаль воспитательниц, небо над их головами, землю внизу, шум тополей, стайку воробьев на турнике – всё в пределах облупленного штакетника.
Наконец рука взмыла вверх, и барабанщик, приосанившись, пустил длинную дробь. Директор посторонился, пропуская вытянувшуюся из дверей интерната странную процессию – двое мальчиков и девочка с мазками зеленки на лице, на годик, может быть, постарше Нинки. Они, вероятно, стояли в сенях, ожидая сигнала. Застучал барабан, и вышли гуськом, девочка – сзади. Все трое тащили полосатые постельные матрасы, скатанные, но неперевязанные.
Один из мальчиков пристроил свою ношу на голове, другой нес перед грудью, обхватив обеими руками, а девочка никак не могла приспособиться. Ей не хватало рук, чтобы обнять этот исполинский ствол с уходящей под облака невидимой кроной. Тяжелый матрас выскальзывал, разворачивался, она то и дело перехватывала его, помогая себе коленкой, останавливалась и отставала. Колени у нее тоже были в пятнах зеленки.
Нинка, стоя рядом, с удовольствием объясняла детали:
– Видишь, пап, они к сушилке идут, у них там сушилка. Видишь?
Лапин тупо взглянул туда, куда она указала. В дальнем конце двора маячил беленый сарайчик под плоской крышей, сакля с длинным жестяным перископом, рассекающим взбитую ветром пену акаций. Теперь он уяснил смысл этой церемонии – несчастные дети ночью обмочились и в наказание перед строем товарищей должны нести на просушку свои мокрые матрасы. Они были ветхие, линялые, в ржавчине от кроватных сеток.
Для мальчиков, похоже, вся процедура давно сделалась обычной. Передний вышагивал равнодушно, второй улыбался и корчил рожи, но девочка то ли не сумела привыкнуть и смириться, то ли сегодня с ней это случилось впервые в жизни. Она прятала лицо в матрас, шатаясь под его тяжестью, ничего не видя перед собой. Летевшая вдогонку барабанная дробь подгоняла ее, лупила по спине, по голым ногам. Лапин почувствовал, что дорога от крыльца до сушилки кажется ей бесконечной.
Он схватил Нинку за плечо, встряхнул:
– Ты как смеешь смотреть на такие вещи? Дрянь!
– Ты чего, пап? – изумилась она, прежде чем зареветь.
Он поддал ей по шее.
– Марш отсюда, паршивка! Чтоб духу твоего здесь не было!
Нинка завыла и покатилась в сторону дома. Директор куда-то пропал, барабан умолк. Лапин перемахнул через ограду и бросился к сарайчику. Мальчики уже разложили на солнце свои матрасы, а девочка не могла найти подходящего места. Он поднял ее матрас, отшвырнул. Запах мочи витал в воздухе, едва ощутимый, невинный, напоминающий о Нинкином младенчестве, о времени, когда у жены была большая красивая грудь.
Девочка застыла под его взглядом. Лапин присел перед ней на корточки, попробовал улыбнуться прыгающими губами.
– Ты не бойся, слышишь? Ерунда, это в детстве со всеми бывает, со мной тоже бывало, и ничего. Не веришь? Зачем мне врать, я уже лысый.
Он весело похлопал себя по лысеющей макушке, повторяя, что с ним, когда был в ее возрасте и даже старше, это бывало много раз, честное слово.
Девочка испуганно шмыгнула прочь, тогда, выпрямившись во весь рост, он заорал ей вслед:
– Они не имеют права! Не смей больше так ходить! Слышишь?
Вокруг собралась толпа, откуда-то сбоку донеслось вызывающе отчетливое:
– Зассанец!
Лапин стоял на нетвердых ногах, чувствуя, что не в силах унять в себе этот рвущийся из горла крик. Он видел перед собой ухмыляющиеся физиономии, но продолжал вопить, как на митинге:
– Как вам не стыдно! Это же ваши товарищи!
Подошел директор.
Увидев его, Лапин зашелся совсем уж по-базарному, как вдруг увидел за оградой Нинку, смотревшую с нескрываемым ужасом, и опомнился. Не хватало еще, чтобы думала, будто у нее отец припадочный.
– Кто дал вам право издеваться над детьми? – спросил он почти кротко. – За что вы их наказываете? За болезнь?
– Никто их не наказывает, – спокойно ответил директор.
– Как же это называется – то, что вы с ними делаете?
– Мы их лечим.
Лапин опять сорвался в истерику.
– А-а, лечите?!
Переждав, директор подтвердил: да, лечение психическим шоком, такой метод. Шокотерапия – единственное, что в данных обстоятельствах способно им помочь, а колокольчик на ночь к ноге привязывать, это всё пустой номер.
Он взял Лапина под локоть и повел к воротам, рассказывая, почему не помогает колокольчик, который, по идее, должен разбудить ребенка, когда при позыве тот начнет ворочаться во сне, своим звоном напомнить ему, что нужно проснуться, встать и пойти в туалет. Лапин слушал оцепенело, не вникая. Представилось, как Нинка лежит в постели с этим подвязанным к лодыжке рыбацким бубенчиком, как обмирает, боясь шевельнуться, чтобы не зазвякал и не услышали на соседних койках. Пока тянулись отношения с Таней и мелькала мысль о разводе, дочь казалась уже совсем взрослой, не нуждающейся в его заботах. Теперь она опять стала маленькой, глупой, беззащитной.
– Жестоко, да, – говорил директор, – но многим помогает. А то ведь сами же ребята житья не дают таким детям, особенно девочки. В матрасах какая-то синтетическая гадость, один обмочится, и во всей палате разит, как в помойке. Они, бедные, на всё готовы, лишь бы утром от их постели не воняло. Эта девочка, например, сегодня ночью проснулась, видит, что обмочилась, матрас потихоньку в коридор выволокла, под лестницу его, с глаз долой, простыню прямо на голую сетку постелила и легла. Разве так лучше? В спальных помещениях окна старые, рамы рассохлись, сколько ни замазывай, все равно дует. Стекол, и тех не хватает, я у себя в кабинете два стекла вынул и переставил в спальни, сам сижу с фанерой. Печи плохие, старые, зимой дети простужаются, если спят на мокром, а денег на ремонт нет, материалов нет. Прихожу в контору, прошу цемент. Говорят, цемента нет, бери, что есть, и выписывают мне скребки для обуви. Хоть в стену вколачивай и вешайся на них.
– Дождетесь, кто-нибудь еще повесится от такого лечения, – посулил Лапин.
Директор обиделся.
– Да меня этой весной опять егерем в заповедник звали! Мотоцикл казенный, независимость. Не как здесь: ходишь с протянутой рукой, над куском мела трясешься. Каждый год зовут, а я не иду.
– Чего ж не идете?
– Детей жалко, без меня им хуже будет.
– Хуже не будет, – сказал Лапин и, не прощаясь, пошел домой.
Нинка с каменным лицом сидела на веранде, трескала яичницу. Теща успокивающе гладила ее по волосам, одновременно с обычной своей дипломатичностью давая понять Лапину, что она полностью на его стороне.
Настроение испортилось, он без аппетита позавтракал, взял лопату и направился в огород. По пути его перехватил сосед, тоже дачник, пожилой электрик с пушечного завода. Разговаривать с ним не хотелось. Вечерами тот штудировал недавно переизданного Карамзина вперемешку с журналом «Огонек» и норовил уличить Лапина в незнании каких-то исторических фактов. Под тем предлогом, что нужно решить судьбу черемухи на границе их участков, которая якобы затеняла светолюбивые картофельные побеги, сосед выманил его из калитки, заманил к себе во двор и тут неуловимо-щегольским жестом фокусника соткал из воздуха ополовиненную бутылку и складной стаканчик. Против обыкновения Лапин отказываться не стал. Выпили, сосед начал пытать его, знает ли он, отчего умерли Александр Невский, Иван Грозный, Сталин, Косыгин, Андропов и генерал Скобелев.
– Ну? – спросил Лапин.
– Их всех отравили, – сообщил сосед и приступил к подробностям.
Лапин вспомнил, как в день похорон Андропова жена возвращалась из командировки, он встречал ее на перроне, и, когда гроб генсека опускали в землю под кремлевской стеной, внезапно все тепловозы, электровозы, вокзальные сирены испустили трехминутный траурный вой, через минуту обернувшийся абсолютной тишиной, потому что в нем потонули все остальные звуки. Казалось, от титанического усилия ревет кто-то громадный, могучий, ценой рвущихся вен и лопнувших сухожилий поднимающий на себе небеса, раздвигающий горизонты. Лапин слушал со страхом и восторгом, замирая от предчувствий, но за все последующие годы лично с ним случилось только то, что встретил Таню. Под пение соловья в ветвях той самой черемухи, под рассказ о боярах-отравителях, о Борисе Годунове, который как брюнет был человек хитрый, на фоне июньского неба и тополиной метели перед Лапиным опять встал роковой вопрос – звонить Тане или не звонить? Он подумал, что на тот случай, если как-нибудь привезет ее в Черновское и она попадется на глаза соседу, надо поддерживать с ним добрые отношения, чтобы не донес теще или жене. Из этих соображений он дослушал мартиролог до конца, по мере необходимости подавая сочувственные или осуждающие реплики.
– Теперь будете знать, – удовлетворенно сказал сосед, отпуская его к Нинке.
Та давно ныла за забором, что хочет купаться. То, что произошло два часа назад, для нее было все равно как в прошлом году. Лапин прочел ей короткую нотацию, вылившуюся, как всегда, в частичное признание собственной вины, затем отправились на водохранилище. Купальника с лифчиком у Нинки не было, по дороге начали торговаться: она доказывала, что ей неприлично купаться в одних трусиках, а Лапин говорил, что под майкой скрывать совершенно нечего и после купания в мокрой майке можно простыть на ветру.
На берегу она села, надувшись, в стороне, но он твердо стоял на своем: снимай, иначе в воду не пойдешь. В конце концов Нинка зарыдала, однако соблазн был велик, соседские мальчишки плескались рядом, звали ее к себе. Рыдая, она стянула майку и, согнувшись в три погибели, пряча от нескромных мужских взглядов еле заметные, без малейшей припухлости, пятнышки сосков, юркнула в воду, где тут же забыла о необходимости их прятать, стала прыгать и возиться с мальчишками.
Лапин выбрал местечко почище, разделся, расстелил полотенце и лег. Отсюда хорошо виден был стоявший над самым обрывом дом Каминского, довольно несуразное строение с асимметрично посаженным мезонином, на крыше которого, как капитанский мостик, возвышалась обнесенная перильцами смотровая площадка. Над ней торчал шест с маленьким флюгером.
Каминский был поэт-футурист, фигурировал в столицах, летал на аэроплане, скандалил, красил волосы в зеленый цвет, демонстрируя близость к лесной славянской стихии, но после революции звезда его как-то померкла. Он вернулся на родину, в губернский центр, стихов почти не писал, а еще через несколько лет построил этот дом и переселился в Черновское, лишь изредка наезжая в город. Остальное время ходил с ружьишком, рыбачил, что-то сеял в необъятном своем огороде, завел ульи. Легенды о нем долго волновали областную интеллигенцию. В его добровольном отшельничестве видели пассивный, посильный вызов режиму, и на пятом курсе научный руководитель, доверяя Лапину, веря, что тот всё поймет и сумеет расставить смягчающие акценты, предложил ему выбрать темой диплома ненапечатанную драматическую поэму Каминского «Ермак Тимофеевич». Поэма относилась к последнему, трагическому периоду его творчества, после которого он уединился в Черновском и замолчал уже навсегда.
По тем временам тема была на грани, если не за гранью, но к работам на местном материале идеологические требования предъявлялись не в полном объеме. Считалось, что сам материал исключает возможность широких обобщений. Кроме того, региональный патриотизм поощрялся, под этим углом на кое-какие вещи смотрели сквозь пальцы, о чем научный руководитель знал и постарался объяснить Лапину, чтобы тот почувствовал внутреннюю свободу. Иными словами, писать можно было почти правду. Все уже понимали, что Каминский – для области слишком крупная фигура, и если нельзя напечатать всё им написанное, то нельзя и замалчивать его двадцатилетнее предсмертное молчание, наступившее после завершения работы над поэмой «Ермак Тимофеевич». Без ее анализа трудно было осмыслить и всё дальнейшее.
Поэма, вернее драма в стихах, при жизни Каминского не прошла цензурные рогатки и сохранилась в его архиве. Тогда еще архивом владела вдова, бывшая актриса. Она пыталась продать его в какое-нибудь государственное учреждение, но покупать никто не хотел, а отдавать бесплатно ей было жалко, хотя причиной выставлялась тревога за наследие мужа – мол, то, что достается даром, люди не ценят. Это была кокетливая усатая старуха с синими бородавками, наводившими на крамольную мысль, что поэт сбежал в Черновское не только из-за ненависти к режиму. Два месяца Лапин ходил к ней с цветами, слушал ее рассказы, изучал текст рукописи, черновые варианты и переписку с современниками, состоявшую главным образом из поздравительных открыток. В итоге удалось реконструировать следующее.
После переезда из Москвы жена Каминского поступила в труппу местного театра и здесь, освоившись, подала идею заказать ее мужу поэтическую драму о Ермаке, который издавна входил в пантеон областных героев – из этих краев он и двинулся на завоевание Сибири. Режиссер загорелся, Каминский дал согласие. Поначалу, правда, он ленился, но, получив аванс и потратив его на постройку дома, проникся темой и засел за работу. Жена точила его, чтобы писал скорее. Ролями ее не баловали, а в пьесе собственного мужа она имела право рассчитывать на главную женскую роль. Ей предстояло воплотить на сцене образ девушки-холопки Дуняши, которая бежит от помещика и, переодевшись в казацкое платье, выдавая себя за мужчину, с отрядом Ермака отправляется в Сибирь.
Начал Каминский бодро, но вскоре застопорился. Ермак был задуман как бунтарь, как олицетворение поэтичной вольнолюбивой народной души, как второе «я» самого Каминского, любившего петь под гармонь срамные частушки, однако тот же Ермак являлся проводником колониальной политики царского правительства, завоевывал для московского торгово-промышленного капитала новые рынки сбыта. Перед этим парадоксом Каминский останавливался в растерянности. Мысль его замирала, он срывался в Черновское удить рыбу, там его отлавливала жена, привозила в город и усаживала за письменный стол. Но и тут, не в силах ничего придумать, он постоянно отвлекался, писал стихи то про Стеньку Разина («Над Москвой-рекою, как перо – вран, буйную головушку обронил Степан…»), то про Пугачева («За Москвой-рекою, как перо – вран, буйную головушку сронил Емельян…»). Всё и вся примиряющий сюжетный поворот найден был неожиданно.
Под нажимом жены, не желавшей на протяжении всего спектакля ходить в зипуне и кольчуге, Дуняша сняла мужское платье не в финале, как намечалось ранее, а под конец второго акта. Едва этот сын полка, этот бравый юнга с головного струга, сыпавший прибаутками под стрелами врага, явился перед Ермаком в сарафане и кокошнике, дальше всё пошло, как по маслу. Хотя роман Ермака и Дуняши лежал у истоков замысла и предполагался, естественно, с самого начала работы, развязка их отношений, недавно еще неясная, тонущая в глубинах магического кристалла, теперь выплыла сама собой.
Каминский набросал план, похожий на балетное либретто, затем потекли ямбы, рифмы, цезуры. Заключительный акт написан был стремительно: Кучум разбит, казаки празднуют победу, Ермак признается Дуняше в любви. Она, тоже любя его, предлагает ему повернуть штыки вспять, превратить империалистическую войну в гражданскую. Скованный сословными предрассудками, атаман отказывается, тогда Дуняша вместе с Иваном Кольцо, разделяющим ее убеждения, и лучшей частью отряда уходит от него. Ермак понимает свою ошибку слишком поздно. Любовь потеряна, в Сибири ширится национально-освободительное движение татар, остяков и вогулов в союзе с передовыми русскими зверобоями. Оказавшись меж двух станов, он бросается в Иртыш и тонет.
Драма была готова, начались репетиции, как вдруг выяснилось, что трактовка, предложенная Каминским, устарела. В газетах ругали Демьяна Бедного за его «Богатырей», режиссер требовал коренной переделки. Жена закатывала Каминскому истерики, потому что, как Лапин понял из случайно оброненной и неловко замятой фразы, ее шантажировал любовник, актер того же театра, которому она через мужа составила протекцию на роль Ивана Кольцо. Ермак нес в себе частицу мятущейся души Каминского, а Иван Кольцо был рупором его мыслей, наиболее положительным из всех персонажей драмы. Именно за такие роли давали ордена, звания и квартиры. Этот актер, видимо, грозил всё рассказать Каминскому, если жена не заставит его взяться за переделку.
Она была в отчаянии. В промежутках между скандалами делала для мужа выписки из научной литературы, раздобыла где-то «Строгановскую летопись» и перекатала оттуда двухстраничную речь Ермака к дружине перед боем при Кашлыке, но Каминский не желал поливать живой водой воображения собранные ею мертвые факты. Он пребывал в депрессии, пил, играл на гармошке, неделями пропадал в Черновском. Дом, однако, нужно было достраивать. Когда кончились деньги, он опять проникся новым, духовно гораздо более близким ему, чем прежний, подходом к теме. Параллельно с возведением мезонина, где должен был разместиться кабинет хозяина, Дуняша пересмотрела свои позиции и поняла, что нельзя пренебрегать внешней опасностью. Из Риги к Кучуму прокрались ливонские немцы, готовые помочь ему с артиллерией, а в лагере Ермака появилась пара изменников. По ночам, произнося саморазоблачительные монологи, они сверлили дырки в стругах, рисовали и переправляли в Стамбул чертежи государевых земель, посыпали ядом из флакончиков казацкую трапезу. К Дуняше стали подкатываться агенты султана, соблазняя шитой жемчугом кашемировой шалью, чтобы во сне зарезала возлюбленного.
Этот вариант в театре был одобрен, режиссер очень его хвалил, но от постановки на всякий случай увильнул, не зная, куда еще заворотит в ближайшее время. Тогда-то Каминский с концами перебрался в Черновское и прожил там почти безвыездно до самой смерти. Гости из города у него бывали редко, жена – еще реже. Когда она внушала ему, что неплохо бы что-нибудь написать, напечатать и получить гонорар, он отвечал: «Рука бойца колоть устала».
Судя по неприятной ухмылке, с которой вдова дважды, с разной интонацией, повторила эту цитату Лапину, относилась она не только к руке и не только к литературе.
На обратном пути от водохранилища Лапин отпустил Нинку домой одну, а сам решил зайти в дом Каминского. Внутри он еще ни разу не бывал, всё как-то откладывал до следующего приезда, чтобы осмотреть спокойно, не торопясь.
Нинка ускакала, помахивая полотенцем. Он прошел по краю обрыва, обогнул забор и остановился перед необыкновенно мощными и высокими деревянными воротами. Навершья столбов были вырезаны в виде женских голов с лицами валькирий и зелеными русалочьими волосами, створки разрисованы подсолнухами. Их яркие желтые лепестки контрастировали с мрачно-черными гнездилищами семечек, стебли переплетались, как лианы в джунглях. Лапин знал, что и цветы, и суровые девы на столбах высечены и нарисованы самим Каминским, их лишь подновили при ремонте.
Он постоял перед воротами, воздвигнутыми явно не для того, чтобы через них проходить во двор, и вошел через калитку. Возле нее висела на заборе табличка с расписанием – указывались дни и часы, когда музей открыт для посещения. Как раз было открыто, но посетителей Лапин не заметил. Кругом царила могильная тишина. Он двинулся вдоль дома, ориентируясь по прибитой к тополю жестяной стрелке.
С крыши между окнами спускались изъеденные ржавчиной водостоки с драконьими мордами внизу. Один из драконов сохранил в щербатом зеве обломок языка. В дождь они выплевывали воду, которая затем по желобу из распиленных надвое и выдолбленных бревен текла под уклон, вливаясь в огромную, по края врытую в землю бочку. Оттуда, вероятно, Каминский черпал ее ведрами и поливал огород. Многодневный тропический ливень не мог бы наполнить эту бочку доверху. Видневшиеся в конце огорода пчелиные ульи размерами напоминали домики на сваях. Одноэтажный, если не считать мезонина, с кривоватыми окнами дом выглядел скромно, даже неказисто, но всё, что его окружало, вплоть до скворечника на тополе и пустой собачьей будки у крыльца, где поместился бы теленок, казалось преувеличенным, раздутым, словно существовало в другом измерении.
Вход был бесплатный, требовалось лишь сделать запись в книге посетителей. Ее принесла полная, деревенского облика пожилая женщина. Она обитала здесь же, при музее, работая истопницей, хранительницей фондов и сторожем одновременно. Краткий комментарий к экспозиции входил в ее обязанности. Профессиональные экскурсоводы приезжали сюда только с группами от туристического бюро. Лапин слышал, что эта женщина жила с Каминским и ухаживала за ним, когда года за три до смерти его разбил паралич.
– Простите, как вас зовут? – спросил он.
– Зинаида Ивановна, – ответила она.
Лапин раскрыл эту амбарную книгу, взял ручку, чтобы написать в одной графе свою фамилию, в другой – место работы и расписаться в третьей, но в последний момент заколебался. Осенью он опубликовал в областной газете большую, на целую полосу, статью о Каминском, наверняка Зинаида Ивановна ее внимательно прочла, вырезала и положила на вечное хранение в соответствующую папочку, как делают во всех таких музеях. Не запомнить имя автора она не могла – так откровенно о Каминском еще не писали. Лапин не оставил камня на камне от легенды о поэте-отшельнике, не желавшем выть с волками площадей, о его молчании как форме творческого поведения в условиях тоталитаризма. Он обошелся без флера, который так любило старшее поколение, в том числе бывший научный руководитель Лапина с его патологическим стремлением всё романтизировать, чтобы подсознательно защититься от неприкрытого ужаса жизни и оправдать свою готовность довольствоваться полуправдой. Опираясь на биографию Каминского, на дневниковые записи разговоров с его покойной женой-актрисой, на тщательный анализ ранних стихов и двух вариантов драмы «Ермак Тимофеевич», Лапин нарисовал совсем иной образ поэта. В молодости – скандалист, маскирующий внутреннюю пустоту литературной эксцентрикой, эпатажем и полетами на аэроплане, в зрелости – конформист, не сумевший приспособиться к существующему режиму исключительно по причине полной бездарности, в старости – убогий пьяница, знаток и ценитель причинного фольклора. В Черновское он уехал потому, что там, по крайней мере, мог добывать себе пропитание ружьем, удочкой, пчелами и огородными трудами. Единственным его достоинством признавалось то, что под занавес он все-таки осознал собственное ничтожество.
На этой милосердной ноте статья и заканчивалась. Впрочем, по тону, по интонации она была достаточно мягкой, доминировала не язвительная страсть разрушителя мифов, а легкая печаль, ирония и самоирония автора, вспоминающего свои былые иллюзии с грустью, со смехом сквозь слезы, но и с благодарностью тому, кто помимо воли преподал ему этот урок, то есть Каминскому. Таня, прочитав статью, сказала, что теперь понимает, какой он был чудесный, наивный, чистый мальчик.
На всякий случай, чтобы не вступать в объяснения с Зинаидой Ивановной, Лапин обозначил себя девичьей фамилией жены, неуклюже расписался и прошел в светлую, почти без мебели, просторную комнату со свежевымытыми полами и цветами на окнах. Зинаида Ивановна шла за ним, рассказывая, где тут что стояло и лежало, пока не растащили. При жизни поэта здесь была гостиная, дальше – спальня. Там ночевала жена, когда раз в месяц, не чаще, да и то летом, навещала мужа. Сам он обычно ложился в кабинете. Казалось, Зинаида Ивановна нарочно подчеркивает, что супруги спали врозь.
Лапин задержался у витрины, где под стеклом выставлены были написанные хозяином дома книги, затем обошел комнату по периметру, рассматривая висевшие на стенах фотографии Каминского – с родителями и младшими сестрами, в гимназической фуражке, в летных очках, на аэродроме, на поэтическом вечере в Харькове, с Маяковским, еще с Маяковским, с Горьким, с неизвестными одутловатыми мужчинами в полувоенных костюмах, с первой женой, со второй женой, с сыном от первой жены, с дочерью второй жены от первого брака, за рабочим столом, с актерами областного театра, с собакой на фоне строящегося дома в Черновском, с другой собакой, на диване с гармошкой, с ружьем и третьей собакой, в постели с книгой, на столе с подвязанной челюстью и, наконец, опять молодой, веселый, с солнцем в волосах, словно вставший из гроба, чтобы остаться таким навсегда.
Спальню жены еще не привели в порядок, посетителей туда не водили. Вся экспозиция состояла из двух комнат – гостиной и кабинета наверху, в мезонине. Лестница находилась за дверью, Зинаида Ивановна открыла ее сразу же, как вошли в гостиную, будто спохватившись, что не сделала этого раньше.
Лапин успел заметить, что на ней линялым от времени маслом и, несомненно, кистью самого Каминского, в юности, как все футуристы, без конца что-то малевавшего, изображен священный лингам шиваитов с пририсованными к нему легкомысленными крылышками и надписью: «Как птичка эта, влетайте в дом поэта».
Не отважившись замазать этот бледный крылатый пенис, Зинаида Ивановна тщательно берегла его от посторонних глаз. Вообще в ней чувствовалась угрюмость, проистекавшая, может быть, из необходимости быть настороже, отвечая на вопросы экскурсантов, постоянно что-то недоговаривать. Лапин ощутил прилив симпатии к этой женщине. В сущности, в целом свете только они двое и знали правду о Каминском. Жена-актриса умерла в позапрошлом году от инсульта.
Они поднялись по лестнице и вошли в кабинет. Это была большая комната с полукруглым окном, рукомойником у входа, обширной вешалкой и продавленным диваном в углу. Зинаида Ивановна сказала, что на нем Каминский провел последние три года жизни. Вначале у него отнялись ноги, потом всё тело.
В другом углу прозрачная лесенка наискось уходила к люку в потолке. По ней можно было подняться на смотровую площадку на крыше мезонина. Как сообщалось в проспекте для туристов, поэт, в прошлом – летчик, построил ее, чтобы быть ближе к небу, а местные жители рассказывали, что он там установил подзорную трубу на треноге и разглядывал купающихся и стирающих белье деревенских девок.
В то время река текла немного в стороне. Водохранилище разлилось позднее, за несколько лет до его смерти.
Лапин подошел к стене с книжными полками и проинспектировал корешки. Издания двадцатых годов и старые журналы вдова еще на его памяти носила букинистам, в остальном библиотека была самая заурядная – русская классика, много Маяковского, много книг местных писателей, краеведение, пчеловодство, раскрытый на титульном листе капитальный труд «Падение крепостного права и развитие капиталистических отношений на уральских горных заводах и соляных промыслах в 60–90-х гг. XIX в.» с дарственной надписью автора. На полках лежали минералы, окаменелости, стояло чучело неизвестной Лапину птицы. Он удивился, услышав от Зинаиды Ивановны, что это, оказывается, попугай. Его подарил Каминскому друг юности, привез из Испании, где сражался с франкистами в составе Интернациональной бригады. Попугай прожил в Черновском десять лет, умер и был мумифицирован. После смерти, под руками таксидермиста, он преобразился до полной неузнаваемости. Лишь в стеклянных бусинах, заменивших ему глаза, навеки застыла тоска, с которой этот испанский попка смотрел в низкое северное небо чужбины.
На стене висело ружье, в кресле покоилась мемориальная гармошка, протянутый между подлокотниками шнурок напоминал, что трогать ее нельзя. Ближе к окну стоял рабочий стол хозяина. Его аскетически пустынная поверхность и выцветшее, но не протертое локтями сукно свидетельствовали, что письменным занятиям Каминский предавался нечасто. На столе не было ничего, кроме стакана с карандашами, чернильного прибора из алебастра и раскрытой общей тетради в клеточку. Разворот был исписан аккуратным, без божества, холуйским почерком Каминского. Тетрадь должна была создать впечатление, что поэт лишь ненадолго оторвался от работы и вышел в соседнюю комнату. Тсс-с, дети! Представьте, сейчас он войдет легкой походкой, прискачет на костылях, въедет на инвалидной каталке, приползет, волоча отнявшиеся ноги, чтобы взять перо и склониться над белым листом бумаги. Минута, и стихи свободно потекут: «За Москвой-рекою…»
Впрочем, написано было прозой. Зинаида Ивановна сказала, что это дневник, Каминский начал вести его в старости и вел до тех пор, пока мог удерживать в пальцах карандаш.
Лапин встревожился. Про дневник он никогда не слыхал, сделалось неуютно при мысли, что вот начнет читать и обнаружит, что все-таки есть доля истины в легенде о поэте-авиаторе, который, взлетев к звездам и приземлившись на площади, пропахшей кровью и гниющей с головы рыбой, предпочел затвориться в глуши, в обществе собак, птиц, пчел.
Он обернулся к Зинаиде Ивановне.
– Можно почитать?
Она разрешила.
Лапин присел к столу, возбужденно пролистнул несколько страниц и успокоился. Чушь, календарь погоды, заметки фенолога, котята, мышата, жучки, паучки, смелые выводы типа: совсем как у нас, людей. Или: вот бы нам у них поучиться!
Оглядевшись, он заметил на подоконнике маленький колокольчик. Настроение опять испортилось. Бубенчик был тот самый, рыбацкий, про такие директор интерната говорил, что не помогают.
– Это что? – спросил Лапин. – Зачем?
Зинаида Ивановна объяснила, что Каминский, будучи уже прикован к постели, попросил повесить этот колокольчик на тополе за окном кабинета. Зимой, когда окна закрыты, да и летом тоже, по его звону он узнавал, какая погода на дворе, ветрено ли, как сильно и откуда дует. Если с севера, то дом загораживает, звенит слабее. С востока – сильнее. Вообще летом – сильнее, потому что ветка с листьями, парусит. Как-то он всё научился различать, однажды зовет ее: «Зина!» Сам улыбается. «Слышишь, – говорит, – как странно звякает? Птица, наверное, на ветку села, взгляни-ка». Она посмотрела, и точно, синичка. А в другой раз кричит: «Зина! Зина!» Прибежала, он весь в поту, плачет: «Зина! Не слышу!» Оказывается, нитка перетерлась, колокольчик упал, а ему почудилось, что оглох, ничего не слышит.
За окном дул ветер, сквозящие в листве солнечные блики дрожали на обоях, на акварельном портрете второй жены Каминского в костюме Дуняши.
– Он сильно ее любил, – сказала Зинаида Ивановна. – Она была талантливая актриса, красавица.
В ее голосе звучала сталь преодоленных сомнений, эхо давно угасшей ненависти. Лапин вспомнил, что о мужчине нужно судить по женщине, которая его любит. Со стены смотрела другая женщина. Нежное лицо с чуть заметными усиками, никаких бородавок. Волнистые темные волосы текут из-под шлема. Подруга Ивана Кольцо в сияющей кольчуге, с ним она и уходит на запад, где нет ни гармошек, ни частушек, а Ермак строит дом, берет удочку и садится на диком бреге водохранилища. В тишине, под сенью березовых перелесков, быстрее рубцуются раны. Уже идут репетиции, печатают афиши. Неожиданно первый вариант отвергнут. Режиссер требует переделки, беглецы трубят в рог, взывая о помощи. Что там гремит рано пред зарёю? Атаман заворачивает полки, сжимает перо, чтобы, всё простив, помочь попавшим в беду любовникам. Однако всюду измена, испорчен компас, идут ко дну струги с верными товарищами. Воет, припадая щекой к абразивному кругу, турецкий кинжал. Дуняша накидывает на плечи шитую жемчугом кашемировую шаль. Ермака больше нет, всё кончено, занавес. Вот о чем он писал! Эзопов язык уязвленного сердца, бедная тайнопись эпохи. Кто мы? Где мы? Куда бредем с мокрыми матрасами под барабанную дробь, в тумане? Чу! Прокричал испанский попугай, колокольчик звенит за метелью.
Внизу ослепительно блестело водохранилище, кричали чайки. Зинаида Ивановна указала на реденькую цепочку лодок, причудливо изогнувшуюся на воде примерно в трех сотнях метров от берега.
– Видите, рыбаки по старому руслу сидят. Тридцать лет как плотину построили, а настоящая рыба всё там, на старом русле. Вроде ей теперь свобода, рыбе-то, жизненное пространство. Плыви, все горизонты открыты, а почему-то не плывет. Он этим фактом очень интересовался.
– Каминский?
– Кто еще? Перед самой смертью и то спрашивал, где рыбаки сидят. Я говорю: «Там же, там же». А он мне: «Что рыба, что человек».
Лапин снова придвинул к себе дневник, раскрыв его на последней странице. Здесь в две карандашных строки, выморочным расползающимся почерком написано было:
- Колокольчик дин-дин-дин.
- Слышу, духи понеслися…
Он поднялся из-за стола. Щеки горели. Поблагодарил Зинаиду Ивановну, стараясь не встречаться с ней взглядом, и пошел к выходу. Ком стоял в горле. Две валькирии с зелеными волосами – жена и Зинаида Ивановна, брезгливо смотрели ему в спину. Сзади заливался колокольчик, звенел на ветру, отшумевшем тридцать лет назад, качался на тогда же сломанной ветке, под тенью синицы, спевшей свою жалкую песенку и замолчавшей, когда настала пора выводить птенцов. Не так ли и мы, люди?
Теща в палисаднике поливала цветы, сосед, проспавшись, заботливо отпиливал засохший сук на черемухе, которую утром собирался извести под корень. Нинка наполняла опилками кукольную посуду, чтобы варить из них суп для своих бесчисленных детей.
До вечера Лапин, не разгибая спины, трудился в огороде, а за ужином теща вдруг сказала безразличным тоном:
– Почему бы вам не приехать сюда вдвоем?
Имелась в виду жена.
Это засело в нем, как пороховой заряд, но взорвался он позднее и совершенно по другому поводу – не то из-за узбекской мафии, не то из-за выгребной ямы, которую, как внезапно выяснилось, ему предстояло вырыть в следующий приезд. Лапин тут же решил возвращаться в город не завтра, а сегодня, собрал рюкзак, поцеловал Нинку, на этот раз великодушно сохранившую нейтралитет, что было редкостью при его ссорах с тещей, и побежал к автобусной остановке.
Последний автобус отправлялся в десять вечера, но запаздывал. Лапин немного спустился по прибрежному откосу, закурил, настраиваясь подумать о Тане и заранее чувствуя, что сейчас не получится. Июнь, ночи светлые. Безмолвная чаша водохранилища лежала внизу. На том берегу тоже были деревни, доносило по неподвижной воде лай собак, и где-то в низовьях высоко стучала моторка.
В стороне слышались негромкие детские голоса. На скамейке, одним концом врезанной в ствол громадной плакучей березы, сидели двое – мальчик и девочка с пятнами зеленки на лице.
Лапин узнал ее и подошел ближе, прячась за кустами. Они его не замечали. Мальчик рассказывал одну из тех историй, какие Нинке строжайше запрещено было слушать. Повествовалось о том, как сумасшедший ученый в подземном бункере изобрел красную машину, механического монстра, похитителя детей, чьи родители работали в ночную смену. Машина привозила детей к нему в подземелье, там он брал из них кровь и откармливал ею крыс. Ученый хотел откормить миллион крыс, а затем выпустить в город, чтобы они всех позаражали какой-то холерой, но милиционеры ему помешали.
Мальчик замолчал, девочка спросила про участь тех мальчика и девочки, брата и сестры, с похищения которых, должно быть, начиналась история. Лапин понял, что эта девочка хочет быть младшей сестрой этого мальчика. Она спрашивала про него и про себя: «где мы? живы ли?» Мальчик милосердно ответил, что в самой дальней комнате милиционеры нашли их полумертвыми от потери крови, но живыми.
Дождавшись счастливой развязки, Лапин хотел уйти, но рассказчик услышал шелест шагов и посмотрел в его сторону.
Девочка спросила:
– Кто там?
– Да этот, лысый. Утром-то базлал.
– А-а, зассанец, – вспомнила она и засмеялась.
Автобус уже подруливал к остановке.
Через пять минут фонарь над ней шатнулся и вскоре пропал за гребнем бегущего под угор вспаханного поля, отодвинулось в темноту водохранилище, повеяло трупным запахом птицефабрики. Затем дорогу обступил лес, и сразу болезненно ощутился уют освещенного салона. Лапин покачивался на исполосованном ножами сиденьи, почти физически ощущая, как сжимается отведенное ему пространство жизни. А еще совсем недавно бывали с Таней такие дни, что, казалось, вот сейчас вздохнешь, и душа, чудесно расширившись в этом бесконечном вздохе, заполнит весь мир, как цыпленок, вырастая, заполняет собой яйцо.
На следующее утро, когда жена ушла на работу, а он завтракал один в пустой квартире, зазвонил телефон. Лапин подтянул шнур, поставил аппарат на стол и услышал в трубке быстрый голос Тани.
– Если рядом кто-то есть, – произнесла она заранее, видимо, приготовленную и отрепетированную фразу, – и ты сейчас не можешь со мной говорить, скажи: вы не туда попали.
– Вы не туда попали, – сказал Лапин и положил трубку.
Светлана Василенко (Москва)
Дневные и утренние размышления о любви
Когда влюбляешься, то тебе словно открывается окно в космос, и ты живешь на этом космическом сквозняке, не замечаешь времени и окружающих вещей, все лето к тебе приходит из аравийской пустыни ветер, страстно и горячо дышит тебе в лицо или подталкивает в спину, и ты летишь над городом вместе с мамой, спеша в гости к ее подруге – тете Маше, перебирая в воздухе ногами…
Ветер ты называешь нерусским именем – так зовут твоего возлюбленного – и ждешь его каждый день, и однажды он приходит, этот сумасшедший ветер, и сжигает поля, леса, деревни. Горит, полыхает вся страна…
А однажды осенью ты просыпаешься и вдруг видишь, что тебя окружают вещи. Много вещей. Окно в космос закрыто. По телефону ты говоришь ему жесткие слова, что любишь его как брата. Не больше. Ты заклеиваешь окно, потому что наступает зима и ты боишься, что тебя продует.
После долгого отсутствия он опять объявился. Вдруг на нее дохнуло. Один раз и другой. Поняла, что это он, дышит из своего южного далека в ее сторону. Такие вещи она чувствовала. Опять ветром горячим обдало посреди холодной, снежной, уже установившейся зимы. Просто змей какой-то – огнедышащий.
Представила, что там, в астраханской степи, зимы нет и так же яростно, как тем далеким летом, горит, не сгорая, разведенный кем-то в небе сложенный из коряг ветлы, высохших добела, костер солнца, а по песчаному берегу реки Ахтубы ходит бронзовый от загара человек, похожий на бога.
Бог ловит рыбу, играет с людьми в волейбол, залезает на спасательную деревянную, поставленную посреди пляжа, вышку и смотрит на нее. Смотрит как на богиню, не скрывая своего восхищения, – она наблюдает за ним из-под полуприкрытых век, лежа на горячем песке. Бог любуется богиней, богиня любуется богом.
Потом они знакомятся, смеются. Он солдат, его зовут Али, он из Дагестана. Ее зовут Юля, она учится на бухгалтерских курсах, приехала домой на каникулы. Ему двадцать, она моложе его на полгода, и он называет ее сладким словом «салага».
Они режутся в карты, а потом идут в воду. Вода от их горячих тел закипает, словно от всунутого в воду кипятильника. Он учит ее плавать (она до сих пор не научилась), осторожно дотрагиваясь до ее обнаженного тела (его касания напоминают пугливые неумелые ласки), направляя ее тело, как маленькую лодку по течению. Она радостно колотит воду руками и ногами, поднимая брызги. Сквозь смех и свои отчаянные крики она чувствует его ладонь, которой он ее придерживает.
Его ладонь, как что-то отдельное от него, все время соскальзывает вдоль ее живота – то ли случайно, то ли нет. Она вся сосредотачивается на этих касаниях его пальцев, его руки. Она вожделеет к его руке, и рука словно понимает это – пальцы ползут все ниже и ниже…
Они уходят с головой в водяную яму, и он на секунду выпускает ее из рук. Ее несет течением, разворачивает, ударяет головой о песок так, что она чуть не теряет сознание. Вынырнув, она ртом хватает глоток воздуха – он твердый, словно она откусывает его от общего каравая воздуха, – и опять идет на дно. С выпученными глазами, сошедшая с ума от страха, она бьется в воде, как большая рыба, пока он не ловит ее. Он обхватывает ее руками так, словно весь состоит из одних только рук, и, прижимая ее тело к своему, выносит на берег.
Они лежат на песке у самой воды, тяжело дышат. Он проводит рукой по ее голове с мокрыми спутанными волосами – той самой рукой, – и она начинает плакать. Безудержно, как ребенок. Он обнимает ее, успокаивает. Закрыв глаза, она тычется ему мокрым от слез лицом куда-то в плечо. Он аккуратно поднимает ее лицо и молча целует в губы. Она на всю жизнь запоминает молочный вкус его губ.
Потом они уходят далеко в пески, где никого нет, и ложатся там. Она отдается ему, лежа на горячем песке и глядя в небо на раскаленное солнце. Ей кажется, что она отдается самому солнцу. Богу солнца.
Возвращаясь, они чуть не наступают на огромную змею, медленно переползающую через дорогу. Змея, подняв свою маленькую серую головку и глядя на них маленькими злыми глазами, жарко, страстно шипит на них, а потом, преподав им какой-то важный жизненный урок, с чувством исполненного долга, извиваясь всем телом, неторопливо уползает.
Потом сама собой разрушилась страна, Али уехал к себе на родину, там началась война, говорили, что он стал боевиком, она даже видела его однажды по телевизору: обросший, с бородой, – он долго и прямо смотрел на нее с экрана, словно узнав.
Потом она потеряла его из виду, считала убитым, уехавшим из страны, пропавшим, и, наверное, так оно и было.
Но иногда дохнет вдруг с юга посреди зимы на нее огнедышащим змеем, жарко, страстно, и она понимает, что то лето осталось, оно никуда не делось, никуда не исчезло.
Он надолго уехал, и теперь ты потеряла то живое ощущение мира как космоса, огромного, дышащего, трепещущего, населенного чьими-то тенями, голосами, случайной музыкой, – дышит ночь и звезды над тобой, ворочается тьма под тобой, – тебя вдруг, как тростинку (тростинка – твоя душа), качнуло порывом черного космического ветра (летом ветер теплый, даже горячий, зимой – ледяной), ты балансируешь между жизнью и смертью, но ты понимаешь в эти секунды все-все-все, тебе открыты все тайны мироздания и собственной души.
Это происходило всегда, когда ты смотрела ему в глаза, слышала его голос (тебе было не важно, о чем он говорил), касалась его руки. Мир открывался тебе навстречу одним порывом, весь, сразу.
Ты и теперь любишь-любишь-любишь, но без его голоса, его взгляда и касания, ты чахнешь-чахнешь-чахнешь, как цветок на космическом сквозняке, и чтобы вернуть то космическое ощущение любви, ты ходишь по каким-то картинным галереям, смотришь на картины, слушаешь музыку, особенно тебе помогает оперное пение, причем женское, ты сливаешься с их голосами, скорбишь и жалуешься вместе с ними, ты читаешь стихи – свои и чужие, ты жадно поглощаешь все то, что называют духовной пищей, наконец, ты даже опиваешься отнюдь не духовным напитком, – и на миг, но только на миг, – вдруг приходит то невозможное, потерянное тобой ощущение опасного счастья – черной пропасти под ногами и звездного купола над головой – и ты между ними.
Не Петербург, еще Ленинград. 79-й слякотный февраль XX века. Мы с Мариной, которую все называют Крашэ, студентки театрального училища, посланы в культурную столицу на зимние каникулы. Просто так, за хорошую учебу, набираться тут той самой культуры, которой в Москве нет.
Живем в общаге консерватории. Засыпаем под музыку Рахманинова в час ночи. В шесть часов утра просыпаемся под музыку Чайковского. Студенты консерватории играют на роялях, стоящих во всех углах и предбанниках общаги. В нашей комнате стоит скромное пианино. Крашэ садится за него и одним пальцем набивает мелодию из пяти китайских нот: «Краснеет восход над рекой Хуанхэ…»
«Чайковский» замолкает. Слушает. Потом, словно возмущаясь, выдает бурную негодующую руладу, похожую на индюшачью. Из чисто московской (а вернее, пермской, поскольку она из Перми) вредности Крашэ добивает на клавишах китайскую утреннюю песнь, посвященную великой реке Хуанхэ.
Идем по Невскому, месим ногами питерскую снежную кашу. Этой каши просят наши сапоги, и мы, загребая снежное месиво полной ложкой, от души их ею кормим. С небес прямо за шиворот нам сыплется мокрое крошево.
Около метро «Гостиный двор» мы встречаем еще одну нашу студентку, которая живет в Питере, – Валентину, – и она нас ведет в знаменитую пирожковую на Невском, объясняя, что пирожковая эта – рай для студентов. Там можно испить горячего бульона и съесть пирожок. Причем бульон – бесплатный. Вернее, вторая кружка. А где вторая, там и третья – нас же трое.
Пируем. Вернее, кайфуем. Решаем, куда пойдем дальше. Валя спрашивает: «В Эрмитаж или Русский музей?» Крашэ говорит, что ей не нужны музеи. Что у нее куда более важная миссия. Ей необходимо найти Поцелуев мост.
Я против моста. Объясняю Крашэ, что в такую погоду все же лучше ходить по дворцу, в тепле разглядывая шедевры.
Крашэ непреклонна. Говорит, что от того, найдет она Поцелуев мост в Питере или нет, зависит ее жизнь и судьба. Не более и не менее. При этом она стоит очень близко (это ее манера – подходить во время разговора к человеку впритык), смотрит на нас сквозь толстые стекла очков: ее голубые глаза за стеклом отчаянно плавают, как рыбы в аквариуме, – близко-близко, объясняет нам жалобным голосом, что найти Поцелуев мост – это просьба Димона, и мы – на свою голову – тут же соглашаемся идти с ней.
Потому что Димон – это святое. Димон, актер, красавец, – последняя любовь Крашэ.
Платоническая, потому что Димон – «голубой».
Но это не страшит Крашэ. Она считает, что когда-нибудь переделает Димона.
А если нет, то духовное все равно важнее телесного. Поцелуев мост станет их символическим загсом, так как согласно одной из легенд, если поцелуешься на мосту со своим любимым, то и не расстанешься с ним никогда. Димон приедет завтра, и завтра же произойдет их символическое бракосочетание.
Короче, вот такой бред. Но мы верим в бред Крашэ, потому что верим в их любовь с Димоном.
Выходим опять в крошево и слякоть. Кружим по городу, спрашивая у прохожих дорогу к Поцелуеву мосту.
Подходим к одному мосту, другому, третьему, четвертому… Доходим до Новой Голландии, куда нам присоветовал идти один из проходящих морячков, а там, мол, рукой подать. Рвемся в эту самую Голландию пройти. Но Голландия на замке, патруль нас не пускает, объясняя, что там находится что-то очень секретно-военное. В поисках стратегически важного для нас объекта – Поцелуева моста – ходим вокруг военной базы, как три диверсантки, то и дело выбирая из своих глазниц залетающий туда мокрый снег.
Наконец-то видим: у реки Мойки стоит маленький домик, в домике – окошко, на окошке – герань, аленький цветочек цветет, и понимаем, что мост, у которого домик этот стоит, непременно должен называться Поцелуевым. Не ошибаемся.
Мы торжественно всходим на Поцелуев мост, взволнованно носимся по нему туда-сюда и трижды друг с другом расцеловываемся на вечную дружбу.
Вечером мы сидим у Валентины – в узкой, как шкаф, комнате в коммуналке на Желябова. Валентина кипятит в чайнике две бутылки красного сухого вина, добавляет туда сахара и гвоздики и, обзывая этот напиток глинтвейном, разливает его по чашкам.
Мы сдвигаем наши чаши за великую платоническую любовь Крашэ и Димона. Крашэ раскраснелась и выглядит настоящей невестой. Ее огромные голубые глаза висят, как воздушные шары, словно бы отдельно от нее.
Мы пьем горячее вино, болтаем, мы – счастливы.
На другой день Димон не приедет. Ночью его заберут, дадут срок. Из тюрьмы он так и не выйдет. Куда-то сгинет.
Крашэ закончит институт, уедет в Пермь, будет сильно пить, в перестроечные времена умрет в больнице, отравившись спиртом «Ройял».
Утром действительно стало легче и понятнее, как жить дальше. Что надо просто очень долго, протяженно, не суетясь, его любить. Что уже все состоялось, что любовь есть, но просто она вот такая – без частых звонков и почти что без встреч, но нить натянута. И надо этому просто радоваться, что вот есть это натяжение. На том и остановимся пока. Пусть он у меня сияет протяженно, как свет звезды. Он же природное явление – ветер, звезды, степь, мой сад – счастье.
Они познакомились на Волге, на теплоходе, на котором плыли из Куйбышева (да, тогда Самара называлась Куйбышевом) в Волгоград в командировку. Им достались верхние полки в темном четырехместном трюме, и поэтому они старались проводить все время на палубе. Днем они загорали, ели сахарный, истекающий алым соком арбуз, неизвестно чему смеялись, глядя друг другу прямо в глаза. Его глаза были тогда синие, такого же цвета, как Волга. В Волгограде, переделав командировочные дела, они поехали в Волжский, к ее подруге.
Они сидели у костра на берегу ее любимой реки Ахтубы, пели, смотрели в звездное небо, пили самогон, который гнала мать подруги, – подруга танцевала у костра так, словно камлая и призывая к ним всех речных и степных духов, остро пахла полынь, – и между ними случилось то, что и должно было случиться, – случилась любовь. Она свалилась на них, такая огромная, что они, подавленные ею, весь день пролежали в гостинице, испуганно прижавшись друг к другу, и не знали, что делать с ней, открывшейся перед ними бездной, и не знали, как с ней сладить.
На другой день он уезжал в Москву. Она – в свои астраханские степи, откуда и была родом. У нее был муж и сын шести лет. У него была жена и сын-старшеклассник.
Потом они еще несколько раз встречались, тайно, жадно. В чужих городах, на чужих квартирах, чужих диванах и простынях. Однажды встретились на квартире у его знакомого доктора. На чужой плите она жарила курицу, он разглядывал медицинскую энциклопедию. Она подошла, заглянула. Он рассматривал каких-то безобразных уродов: две головы, четыре ноги, Маша и Даша. Она ужаснулась. Он поднял голову и сказал: выходи за меня замуж. Нет, сказала она, не помедлив ни секунды (он не простит ей того, что она отказала ему, не помедлив – именно – ни секунды) и через секунду удивившись тому, что сказала «нет». Потом пришла домой к мужу и сказала: я ухожу от тебя к другому. Что тогда началось!
Муж, конечно, ее не отпустил. Потом были дни, месяцы, годы, которые, казалось бы, только и были созданы для того, чтобы ими, как бинтами, можно было замотать эту любовь, одеть ее в смирительную рубаху, чтобы она там умерла внутри нее, отмучилась, сдохла. И вроде бы отболело. Сын вырос, муж сидел в кресле у телевизора, жизнь вроде бы состоялась.
Через десять лет они случайно встретились опять в командировке, в Кустанае, в казахских степях. Сидели в шатре, куда их пригласили на пирушку в честь окончания общего дела. Он и она сидели и молча смотрели друг на друга. Потом так же молча, как звери, встали и пошли в степь. Они любили друг друга так же жадно, как и десять лет назад, как будто и не было никаких десяти лет, как будто не было у нее семьи, мужа и сына, как будто не было разлуки. Над ними так же, как тогда, в Волжском, на берегу Ахтубы, грозно висела огромная звездная бездна и так же остро и грешно пахла полынь.
Утром, когда они уже были в гостинице, из номера он позвонил жене в Москву и сказал, что уходит от нее, потому что встретил здесь, в Кустанае, женщину, которую любил десять лет. На том конце провода вдруг тонко заголосили, его жена голосила и голосила, не останавливаясь, тонким пронзительным голосом ребенка, которому очень больно. Его жена плакала и плакала, а он стоял, отвернувшись к окну, держа телефонную трубку, и слушал.
Она тихо оделась и вышла.
…сегодня позвонила мама, сказала, что ее выписали из больницы. Муж прислал смс-ку, что сел в поезд и скоро уже, через несколько суток, приедет. Позвонил сын и несказанно меня обрадовал, сказав, что… (ну, это уж совсем личное, об этом промолчу). Позвонили от режиссера и продюсера, что сценарный договор со мной подписан. Из Питера звонила моя лучшая подруга. И только один человек, засевший в моем сердце занозой, – не позвонил.
Ночью муж объявил, что уходит от нее.
– Мне что, ему морду набить?! – спросил он, этот чрезмерный человек.
Она промолчала и молча ушла в свою комнату. Всю ночь слушала, как там, в соседней комнате, собирают ли вещи. Не испугалась, нет. Даже интересно было.
Утром тихо выскользнула из дома и поехала на работу.
День начинался странно. Приехала на работу, а там лежит на столе заявление от ее заместительницы на увольнение. Лежит еще со вчерашнего дня. То есть, когда уходил от нее муж, в это же время ее заместительница писала заявление тоже на уход от нее.
Потом пришел очень приятный человек из Литвы, бывший католический монах, он жил во Франции, в ордене молчальников, потом у иезуитов. Принес рукопись.
Она долго говорила с ним. Ей хотелось от него узнать, каково это – умея говорить, промолчать всю жизнь. Ей нравились чрезмерные люди. Люди, куда-то уходящие, уезжающие, экспериментирующие над собой, своей жизнью и судьбой.
Пришла ее заместительница и сказала, что да, действительно уходит, уезжает, не хочет так жить, хочет быть одна. Уедет куда-то в деревню и будет смотреть на то, как падает снег зимой, а весной вскрываются реки. Ей надо это увидеть собственными глазами. Иначе она не выживет. Что ей надоела цивилизация.
Куда-то они все, эти чрезмерные люди, убегали, думая, что там, куда они убегут, будет легче.
Потом она пошла на выставку книги одного знакомого белорусского художника. И они так хорошо посмотрели всю выставку вместе. Когда она спрашивала его, в какой технике сделана та или иная работа, он подробно рассказывал ей, как это делается. Каждую технику он подолгу изучал, шел в помощники к тому, кто умел делать это, и постепенно учился. Он делал несколько работ в той технике, которой научался, и переходил – уходил – к другой.
На выставку пришел человек, который умел делать оригами. Он объяснил им, что оригами – это древнее японское искусство складывания из бумаги. Из тысячной купюры он моментально сложил слона – с бумажными бивнями, хвостом, ушами. По дороге к метро он говорил, говорил. Как сделает оригами к театральной постановке, где будет все бумажное – дома, машины, столы, стулья, и герои тоже будут бумажными, они будут лежать, сидеть и ходить. Ей хотелось спросить: а слова будут тоже бумажные? И он вдруг ответил на не произнесенный ею вопрос, что слова в этой театральной постановке не нужны. Он хотел затащить ее тут же к себе на Сокол, где была его мастерская, чтобы показать свои работы.
Она, сказав, что ей надо пораньше домой, поехала на Киевский вокзал и села в электричку. Но когда уже села, там что-то сказали, перечислили остановки, назвали в том числе и ее станцию – Востряково. Она подумала, что именно перечислили те, где электричка остановится, но вышло все наоборот. Они, не останавливаясь, ехали и ехали по какой-то глухомани с уханьем и свистом целый час.
Наконец остановились, и на темный перрон вывалились такие же невнимательные, как и она, пассажиры, несколько человек, и они небольшим отрядом помчались через мост на другую, обратную – последнюю – электричку. А было уже очень поздно и темно, и шел дождь, и одного мужика страшно ругала жена по телефону, что он такой у нее непутевый и заехал черт-те куда.
Они стояли, ждали еще час электричку, и ей захотелось позвонить тому, из-за которого уходил от нее ее муж. И она позвонила. Он взял трубку, и голос был у него неузнаваемый. Он тоже не узнал ее, она даже представилась: звонит такая-то. Тогда он немного окреп голосом, обрадовался, но был явно занят, и очень быстро, быстро они поговорили.
Что вот, схоронил отца и что пять дней было очень и очень плохо, а сейчас уже немного отпускает, полегче. Что бегает теперь каждый день с бумагами, на наследство и еще на что-то. Что уезжает в воскресенье, но вот что жалко. Что так долго был в Москве, но так мало встречались. И что: где же ты была? Куда уезжала? И почему так надолго?
И он начал быстро сворачивать разговор. Сказал, что уже сейчас не встретимся, но он приедет (она услышала, в январе), и что – увидимся. Что теперь он всем про нее рассказывает и что она очень, очень красивая (тут они засмеялись оба). Да! Да! – сказал он. И они попрощались как-то сразу оба. Он сказал: обнимаю. Она сказала: целую. И всё. Сказал еще, что сегодня девять дней, как отец ушел.
Потом вдруг как-то сразу пришла электричка, и она, сев, дала мужу паническую смс-ку, что едет из Апрелевки, что заехала не туда, чтоб встречал.
И он стоял около станции, ждал ее, молча взял вещи, и они шли, как раньше, в любовные еще времена, пешком под дождем до дома. И он что-то радостно говорил, и дома тоже, пока она готовила ужин, все говорил.
Михаил Шелехов (Минск)
Хозяин одинокой комнаты
Памяти Фани Абрамовны Гецелевич, доброй феи мультипликаторов Союза кинематографистов СССР
Ом! Все тут. И кувшин, и капли, его наполняющие.
Падал мелкий городской снег, похожий на ледяные опилки. По бульвару шел молодой человек и тащил тяжелый брезентовый мешок. Молодой человек был худ и нервен. Он тащил мешок, сильно наклонившись в правую сторону. Но мешок победил. И упал на землю четырьмя лапами черепахи.
Молодой человек задумчиво постучал ботинком и зашел к мешку с левой стороны. И перехитрил. Мешок этого не ожидал. Человек живо схватился за лямку и ринулся вперед. Но остановился, как вкопанный. Перед ним стоял гусь. Белый, как башня. С клювом красным, как гранат, и глазами старого генерала. Лапы его тонули в снегу. И это было похоже на черпак с ручкой. Не умный уличный пес, а гусь. Гусь – домашнее животное или просто мясо?
Пес был бы братом молодому человеку, а гусь? Прохожий смутился.
Молодой человек уронил мешок в снег, достал из кармана колбасу и смущенно сунул ее назад. Что ест гусь? Щиплет траву. Глотает червей и клюет лягушек. С этим сейчас худо. Но разве можно обидеть старшего брата да еще на пустом городском бульваре, темным вечером, в снег?
Одному – пес, другому – гусь. Умей ответить. Каждый голос – голос Будды. Каждая форма – форма Будды. Спроси у гуся, что ему надо? Озеро, облако, тростник. И еще песня. И молодой человек заговорил:
– В лунную ночь песня лягушки оглашает вселенную!
Гусь величественно кивнул.
И молодой человек запел. А что ему еще оставалось? Тигр бы потребовал у него ногу, а гусь? Гусь – знаменитый меломан. Но убьет одним ударом в глаз. Однако на свое счастье молодой человек был музыкален.
Он представил весеннюю ночь, пение цикад и теплый ветер над черным озером, из которого к луне всплывают лилии… И счастливая песнь лягушки разнеслась над сугробами бульвара.
Гусь слегка раскачивался, кивая головой. А потом стал танцевать. Он поднимал тяжелые красные лапы и перевалился на месте, как бочонок, пока не утоптал полянку в снегу. После чего стал ловко поворачиваться, как огромный моток серебряных ниток. Гусь вертелся так самозабвенно, что это бы тянулось до самого утра. Но певец охрип и замолчал.
Молодой человек поклонился, и гусь поклонился ему, после чего залез на зеленый мешок – сторожить. А молодой человек пошел по бульвару. Он шел и вешал объявления… На фонарь, на дерево, на каменную девушку с лыжами, на задремавшего ангела с мечом, который висел в воздухе, на детские качели.
Молодой человек срочно снимет квартиру!
Снимет квартиру!
Квартиру!
Мудрый уходит – дома опасно. Как лебедь оставляет осенью свой пруд, покидает он свой дом в поисках нового жилища. Успел до зимы – счастье. Опоздал – жди весны, которая похоронит белые кости. А немудрый – ищет дом.
На скамейке сидела одинокая фигура. В задумчивости человек наклеил белый лоскут на черную спину и пошел дальше. Фигура на скамейке шевельнулась и посмотрела ему вслед. Это была старая женщина с добрыми черными глазами феи, у которой четырнадцать кошек.
Молодой человек, сгорбившись, наклеивал объявление на лоб какому-то человеку с бородой и пистолетом на афишной тумбе.
– Ты не против? – сказала женщина вдруг.
Молодой человек оглянулся. Женщина на скамейке разговаривала как будто сама с собой, крутя локон на виске и качая ногой в маленьком сапожке.
– А тебе не будет тесно? – заботливо спросила женщина. – Ладно, ты ляжешь на кушетке у окна. Хорошо, что ты законопатил окна.
Бездомный человек смотрел на нее, не понимая. А потом повернулся, чтобы уйти. Его ждал гусь на своем пьедестале. Гусь знает, что делать. Может, они пойдут под мост. Всюду есть мосты.
– Пойдемте. Я сдам вам комнату! – сказала вдруг женщина. – Пойдемте, это недалеко – метро «Аэропорт».
– Здесь под землей летают самолеты? – криво усмехаясь, сказал он, не веря счастью.
– Иногда.
Они пошли по аллее – и пришли к мешку, на котором сидел гусь.
Человек покопался в кармане пальто, и достал опять ту же самую колбасу, и виновато развел руками. А старушка достала крекер – и гусь поймал его на лету, открыв клюв величиной с кошелку.
Он придержал крекер лапой, склевал его и посмотрел им вслед. По белой дорожке уходила женщина в серой шубке с черным воротником, слегка горбунья. И молодой человек с тяжелым мешком. Их было двое. Падал тихий снег.
А гусь смотрел на белую дорожку и ничего не понимал. На ней отпечатались подошвы трех людей… Третьи следы сами возникали на снегу.
Он повернул голову. Ангел с мечом так же дремал, прислонившись в воздухе к желтому фонарю, который горел в потемках, как золотая луковица.
Гусь покачал головой. Нет, не всё понятно на свете. Это то же самое, что ловить в желтой от глины воде канала мелькающих рыб.
Открылась дверь, и в комнату вошел мешок. Он с грохотом встал посреди комнаты. А затем в комнату проник и его хозяин. Он снял берет и сел на мешок, разглядывая жилище.
Четыре роскошных настольных лампы с цветными витражными стеклами стояли по углам на четырех столиках красного дерева. А с потолка на обрывке шнура свисала обычная лампочка. Портрет китайской красавицы на шелке улыбался – почти икона. Белые молочные бокалы, почти в рост человека. Подсвечники для двух свечей. Гонг. Избушка на курьих ножках из спичек. Бабочки за стеклом. Портрет какого-то старца в черной шапке. И гипсовая маска Пушкина с закрытыми глазами.
Человек посмотрел на четвертую стену. На ней висела большая черная шелковая занавесь. Три золотые рыбки с краевыми плавниками играли на черном шелке.
Молодой человек развязал мешок и достал акваланг. Оранжевый аппарат, похожий на счастье юности.
Он сидел и смотрел на золотых рыбок. А они играли и играли в черной воде. Как вдруг шторы за его спивой поползли и сомкнулись, закрывая в окнах ночь. Человек вздрогнул. Он смотрел на уток, которые вышиты на ковре. Игла, которая их вышивала, бесследно ушла из вышивки. И вот она возвращалась.
Скрипел мелкий желтый паркет. Деревянные планки прогибались, как будто кто-то невидимый шел по ним. Вспыхнула одна лампа… За ней вторая. Третья… А паркет все скрипел и скрипел. И смолк. Дверь открылась и вошла старушка с черными глазами на старом и добром лице. Она несла чай.
– Хотите в театр? – спросила она.
– Нет, – ответил молодой человек грустно. – Я хочу плавать с аквалангом.
– Я не могу сдать море, – улыбнулась женщина.
– Жаль, – ответил молодой человек.
– Я подумаю, – сказала старушка. – Может быть, я помогу вам. Не скучайте.
– Мне нравится, – широко развел руки молодой человек и спросил. – А кто это?
И он сделал волнообразный жест руками. Старушка приложила палец к губам:
– Только не трогайте ножниц! – сказала она шепотом и помахала пальцем.
Под настольной лампой на клетчатой скатерти лежали ножницы. Молодой человек встал, заложил руки за спину и склонился, разглядывая ножницы таинственно и серьезно.
А старушка вышла. И что-то шумное и пестрое блеснуло там, за дверью. Это был театр. Театр, который начинается с дверцы в стене.
Она шла по партеру. Зал был полон и гудел. На втором ряду было два пустых места. И старушка с замшевой сумочкой в руках села на одно из них.
Занавес колыхался. К женщине подбежал запыхавшийся гражданин с билетом в руке.
– Разрешите! Я не успею добежать до своего места. Рядом с вами никого нет.
– Здесь занято, – тихо сказала старушка.
Занавес поднялся…
– Кто м-о-ожет сравниться с Матильдой мое-е-ей? – запел сильный голос.
Женщина повернула голову в сторону пустого кресла:
– Ты прав, Генрих, – сказала она тихо. – Никто.
На сцене шло действие. Оно шло беззвучно.
– Скучно? – спросила старушка, глянув в сторону пустого кресла, и улыбнулась. – Ты прав, в сороковом году было лучше…
Беззвучно двигались, стояли, падали, прыгали, носили друг друга на руках, целовались актеры. Самое нелепое в театре – зрительный зал и зрители. Если бы все прыгали на сцене, никто бы не пил по ночам водку. И не грабил соседа в подворотне.
– Послушай, у нас нет моря? – спросила старушка, повернув голову в сторону пустого кресла.
Кресло как будто пожало плечами. Оно устало слушать и слегка зевало.
– Поищи! Не может быть, чтобы его не было. Обычное море, где плавают с такой оранжевой штукой… Да-да, ты прав, с аквалангом, – сказала она.
Зал разразился аплодисментами.
– Пойдем? – наклонила голову женщина.
И подушка второго кресла тоже поднялась, как будто там кто-то сидел.
Театр кончается шляпами и шубами. И гардеробщик, застыв, смотрел, как серая бедненькая шубка описала в воздухе пируэт и сама собой опустилась на плечи старушки, как будто невидимые руки подали ее нежно и бережно.
Дверь сама собой распахнулась – как от порыва ветра. Молодой человек расхаживал по комнате. Пол был усыпан обрезками бумаги. Ножницы, взятые без спроса, валялись на полу, в белом мусоре.
Белые джунгли, вырезанные из бумаги, заполняли комнату. Баобабы, лианы, пальмы, огромные орхидеи… Это были белые джунгли. Потому что была зима. И вдруг со свистом раздвинулись шторы, и хлопнуло окно. Морозный ветер ворвался с улицы и повалил белые джунгли… Обрезки бумаги закружились в воздухе! На пороге стояла старушка.
– Так я и знала! – сказала она. На полу лежали ножницы.
– Простите! – сказал молодой человек. – Мне было скучно.
– Боже мой! – сказала старушка и прижала руки к груди. – Это окно…
– Окно, – подтвердил молодой человек. – Но я не понимаю.
– Он ушел! Вы понимаете, он ушел! – вскрикнула старушка. Он же простудится! Куда он ушел?
Молодой человек молчал.
– Скорее! ЕГО надо догнать! – сказала она, и они помчались.
Они стояли полуодетые на темной улице и дрожали.
– У меня нет моря, и поэтому я придумал джунгли, – извиняющимся голосом говорил молодой человек, слегка сиреневого цвета.
– Что вы понимаете! – сказала ему старушка. – У вас есть все. Просто вы не хотите поверить и выдумываете всякую чепуху. Простите.
Навстречу им ковылял по дорожке гусь. Тот самый.
– Прости меня, гусь! – сказал молодой человек и развел руками.
В клюве гуся была большая голубая морская раковина.
Гусь взмахнул крыльями, привстал на задние лапы и протянул раковину молодому человеку.
– Она пахнет морем! – сказал ошеломленно молодой человек и лизнул раковину. – Она соленая!
Старушка улыбалась и мелко дрожала под клетчатым платком. Синие тени лежали на снегу. Желтые окна подслеповато мигали и гасли. Это был очень старенький мир, в котором душа прячется, как огрызок сиреневого карандаша в желтом пенале.
– Эй, старик! – позвал молодой человек гуся. Но тот исчез за синими елками у красной стены, на которой лежал на боку ангел с мечом и улыбался во сне.
– Пойдемте, – сказала вдруг старушка. – Он уже не обижается.
Была темная ночь. И одно окно светилось ярко и весело. И тени от белых джунглей стояли на стекле. Но тут ходила на мягких лапах смерть.
Женщина была больна. Она тихо лежала в постели, и старые прекрасные ее руки бессильно лежали поверх одеяла. Рядом с ней на столике под лампой стояли бутылочки с микстурами.
Молодой человек сидел на полу рядом. У него был вид чернильной кляксы на крахмальной скатерти.
– Вы умеете играть на флейте? – спросила старушка.
– Нет, – ответил молодой человек равнодушно.
– Жаль, – ответила женщина грустно. – Мы бы могли играть втроем. Скрипка, фортепьяно и флейта. Это так красиво.
Часы пробили три часа. Снег стал постукивать в окно белыми костлявыми пальцами метели.
– Дайте мне карандаш и бумагу, – сказала женщина.
Она взяла карандаш, притихла, а потом стала медленно и тяжело писать… Но у нее не получалось.
– Где много глины, будды велики. На большой воде корабли высоки. Я не могу записывать за тобой, – сказала она.
– Вы мне? – поднял туманную голову молодой человек, глядя тоскливыми глазами.
Но она говорила не с ним.
– Что? – спросил молодой человек, не понимая. – Будды велики? Я видел только одного гуся. Ах, да, этот дом. Тут много будд.
Он стал смотреть по сторонам. Больше всего будду напоминали белые молочные бокалы, почти в рост человека.
– Вы ничего не слышите? – спросила она, обращаясь на этот раз к молодому человеку. Тот виновато поднял плечи.
– Три года я записываю книгу, которую он не успел закончить… Вот и сейчас он диктует мне. Неужели вы ничего не слышите?
Молодой человек передернул плечами. Птица и дерево по-разному понимают ветер.
– Кто же будет записывать его книгу? – спросила строго старушка. – Кто же будет играть на флейте?
Молодой человек встал и нервно прошелся по комнате. Оранжевый акваланг на полу стоял перед черным занавесом, на котором плавали золотые рыбки с красными плавниками.
– Я понимаю, – сказала старушка. – Вам хочется к морю… Что ж, идите!
Черный занавес вдруг отодвинулся.
Перед молодым человеком вспыхнуло что-то ослепительно голубое. Это было море… Он схватил акваланг и шагнул вперед. Но резко обернулся, как будто его ударили.
– Постойте, как ЕГО зовут? – спросил он, прищурившись и глядя в темноту, которая осталась за ним наподобие трубы. И куда он не намеревался возвращаться. В темную могилу мира, где маленькая и бедненькая старушка лежала, как огрызок цветного карандаша в гнезде исчерканного школьного пенала.
– Генрих, – сказала она. – А меня – Фаня.
Он шел по белому тончайшему песку, в который превратились миллионы жемчужных ракушек, и на котором сейчас лежали большие раковины лазурного цвета, похожие на грозди винограда. Белый гусь бежал к нему навстречу, колотя крыльями, по широкой пене, что каймой лежала на песке.
Молодой человек виновато развел руками. Он так и не принес подарка.
И от стыда и волнения он отвернулся от берега, взмахнул руками и радостно закричал! Перед ним было великое море, в котором множество небес идет слоями до полной темноты, где светятся другие миры.
Он был счастлив.
Он плыл в лазурной глубине, раздвигая руками водоросли, и смеялся, глядя сквозь маску на разноцветных рыб и алые соборы кораллов. Он баловался и дергал осьминога за щупальца. Он парил, как птица, в сказочной глубине.
Так наступил вечер. И в вечерней глубине над морем засветилось небо с одинокой звездой. Расплескивая воду, он вышел устало на берег. Он был один на берегу. Волна выбросила на берег оранжевые продолговатые апельсины. Прямо к его ногам. Он очистил апельсин, а кожуру бросил в воду. И оранжевая звезда поплыла по лиловой стихии моря.
Тихий скрип песка раздался совсем близко. Он обернулся.
Гусь, малинового цвета в свете заката, тяжело шел куда-то с голубой раковиной в клюве.
И молодой человек вдруг вспомнил… Он беспомощно оглянулся на дорогу обратно. Но дороги не было. И, подхватив тяжелый акваланг, он поспешил вслед за птицей, которая, качая высокой головой, шла неестественно быстро, как будто скакала на гигантских пружинах. Бежать было тяжело. И он бросил акваланг…
Они стояли на пороге и тяжело дышали. Молодой человек и малиновый гусь с голубой раковиной в клюве. В доме было пусто.
Не горели настольные лампы по углам. Не звенел гонг. Не вертелись крылья соломенной мельницы. Было очень грустно. Как вдруг зазвучала музыка. Первой заиграла скрипка, потом вступило фортепиано. Они играли старую добрую мелодию.
И молодой человек не выдержал. Он подошел к столику, на котором лежала флейта, и взял ее в руки. Он держал ее в руках, не зная, что с ней делать. На флейте не было ни одного отверстия.
Вдруг он услышал, что флейта поет.
Сквозняк под дверью в доме тысячи дверей.
Она пела тихо, но с каждой минутой всё увереннее. Флейта пела. И пела в ответ раковина, похожая на гроздь винограда, которую держал малиновый гусь, принесший сюда на перьях морской закат.
И тогда он услышал голос.
Голос юной красавицы. Он не видел ее лица, но был уверен, что знает, кто она.
– Запиши, не ленись.
Золотой Будда не переправится через плавильный котел.
Деревянный Будда не переправится через огонь.
Глиняный Будда не переправится через реку.
Но ты не бойся умирать. Сколько раз умрешь – столько раз откроешь дверь. В новую страну. Кто спрячет весь мир в старый сундук? Близкий стучит далекому в окно, далекий кладет близкому руку на плечо.
Успеваешь за мной?
На вершине священной горы травы растут без корней.
Не ведая о весеннем ветре, цветы цветут сами по себе.
Это будет когда-нибудь – для тебя. А пока – не ленись. Что еще остается в мире, заваленном снегом, где подслеповатые окна текут беспомощными слезами старых снов.
Ом! Все тут? Все тут?
Есть кто-нибудь?
Ом! Ом! Ом!
Саша Николаенко (Москва)
Три рассказа о любви
В первый день он запомнил море, огромное, в половину неба, без обратной, той стороны земли, дядька с трубкой и маской плавал далеко и краба поймал, все столпились, смотрели краба. Разобрали по шкафам чемоданы, ему досталась тумбочка у окна, море не было видно, а только какие-то развалины или стройку. Шторы были зеленые, телевизор показывал Первый канал. Папа в шахматы свои с каким-то тоже бородатым на пляже играл, у того была жена очень толстая, в соломенной шляпе. У мамы сразу же на солнце обгорел нос, и купальник ей не шел, они спросили, где у них тут и что, после ужина ходили на рынок, купили купальник, который шел, папе разливного вина и очень много черешни. Посидели в кафе, и ели шашлык, потом еще и мороженое, мама сказала, что они транжиры.
Во второй день, после обеда, когда самая жара и нельзя загорать, он пошел обследовать территорию санатория. Под тентом – теннисные столы, но все заняты, да и играть ему было не с кем. Он сказал потом папе про эти столы, но папа сказал: «Давай потом». Втроем поиграли в карты.
На третий день он опять забрел к тем столам, думал, если будет свободный, то добежать за папой. Столы были заняты, как вчера, но там стояла девочка, видно было, что ей тоже очень хочется поиграть, и тоже не с кем, и он решился, подошел к ней и предложил, она обрадовалась, согласилась. Он сказал, что он из Москвы. «А ты?» Она ответила: «Катя», – а откуда, он не запомнил.
Стол освободился, но оба совсем не умели играть, и всё время воронили мячик, он отлетал, отлетал, а потом целых тридцать раз отбить получилось. Потом мячик отлетел, закатился под чужой стол, они оба побежали за ним, и под столом треснулись лбами в искры. Потом мама с папой его позвали на пляж, он пошел, обернулся, девочка всё еще стояла у их стола, на него смотрела, мама сказала: «Какая красивая», – он ответил, что ее зовут Катя. «Откуда она?» – спросила мама, он ответил: «Не знаю».
На пляже он всё ждал, что Катя тоже придет, но ее так и не было. Вечером в санатории был концерт и танцы. Ради интереса решили пойти. Катя тоже пришла, но потанцевать предложить было как-то не по-мужски, то есть было еще труднее решиться, чем в теннис. Папа с мамой танцевали, он подошел к Кате, сказал: «Привет». Она улыбнулась, спросила: «Пойдем танцевать?» Он ответил, что не умеет.
Пойдем тогда к морю? – И они пошли к морю.
На площадке танцевальной музыка заиграла какой-то вальс, но они далеко уже отошли, и вальс здесь играл очень тихо, и громче вальса шуршало море.
– Тут очень много звезд, – сказала она, он посмотрел на небо, звезд и правда было столько, сколько она сказала.
Еще много стрекоз, пахло морем, Катя поймала в траве светлячка, светлячок светился у нее на ладони. Они еще побродили.
Потом на танцевальной площадке погасли огни, он проводил ее до того корпуса, где она жила. Они стояли в иголках от сосен, на иголках лежало желтое пятно от окна.
– А мы завтра утром уже уезжаем, – сказала она.
– Жалко… – ответил он, думая, что завтра снова не с кем будет играть. Не зная, что больше никогда ее не увидит.
Всякое случается, неисповедимы пути, и на этот раз вышло так, что некоего Пузикова Леонида Гавриловича, консультанта одного из салонов мобильной связи на длинной улице, существо никчемное, как и все эти консультанты, но зачем-то явленное на свет, всегда морозно-румяное, ангельски белокурое, безропотно-пучеглазое, пунктуальное, тихое до той степени, что, кажется, и нечего возразить, сократили.
Дело вышло так, как выходит оно всегда, без вмешательства высших сил, то есть обходится нашими, и его, бедолагу безропотного, сократили, потому что если уж выбирать, кого сокращать, от других из нас значительно больше толку.
Тем не менее Пузиков опять нашел себе место вдоль всё той же улицы: когда такая вот длинная улица, вдоль по ней, и с той стороны, и еще во дворах у человека гораздо больше возможностей найти себе место в жизни. Но беднягу вскоре сократили и там, и еще раз, еще, и начали уже сокращать с противоположной стороны, где нечетная нумерация.
С каждым сокращением Леонид Гаврилович как-то сокращался и сам от обиды и делался еще более и более тихим и незаметным. Бывает так, что человек буквально тает на глазах от несправедливостей и обид, и вот этот Пузиков таял тут на глазах у нас с вами, хотя в его случае, честно сознаться, и таять-то особенно было нечему.
Однако с последним сокращением, в конце длинной улицы, Пузиков не исчез окончательно, как, может быть, ожидал от этого бестолкового бедолаги читатель, но лишь пошел другой длинной улицей, потому что в городе нашем длинных улиц на всех хватает.
В оправдание этой совершенно не имеющей к нам и вам отношения бестолковой истории повторим, что уже сказали вначале: если Пузиков Леонид Гаврилович был зачем-то рожден на свет, значит, это кому-нибудь было нужно…
Когда-то, задолго до Пузикова рождения, его дедушка, Пузиков по отцу, познакомился с бабушкой в 1942-м, она была медсестрой и вынесла дедушку на руках с поля боя. Так они нашли друг друга и поженились в 1943-м, чтоб родить Леониду Гавриловичу папу, а папа, в свою очередь, через двадцать лет после своего рождения познакомился с мамой Леонида Гавриловича.
Таким всё случилось сложным путем, если даже миновать подробности встречи родителей мамы героя нашего, что тоже было одной из тех необъяснимых случайностей, как не меньшей случайностью были встречи прадедушек и прабабушек нашего Пузикова в глубине веков.
И уж если копать как следует, не халтуря, не случайностью было лишь то самое яблоко, подсунутое змеюкой Еве, а Евой – Адаму. И несмотря на такую вот основательную историю с предысторией, о какой мы тут вкратце, дабы за уши не тянуть на семейную сагу вроде «Форсайтов», всеми этими немыслимыми усилиями и случайностями был явлен на свет этот самый скромный герой – консультант по продажам в салонах мобильной связи, пучеглазый, никому на свете не нужный, сокращенный уже десять раз на одной только длинной улице Пузиков.
Может быть, читатель спросит теперь: зачем же это все было нужно? Может быть, Пузиков теперь кого-то спасет из огня, может быть, его полюбит хорошая девушка, у них родится еще один Пузиков, но будет он вроде Александра Сергеича… или будет он президентом, который выведет нашу бедную левиафаниху из ее вечного кризиса?
Мы ответим честно. Думаем, дело было вовсе не в том, чтобы Пузиков спас кого-нибудь из огня: как известно, Господу иной раз вовсе не нужно такого, чтоб из огня кого-то спасли.
Что же, спросите вы, этот консультант по связям явился на свет, чтобы никого не спасти?
Такое тоже может быть, но и так мы не думаем.
Что же мы в таком случае думаем? Думаем, дело было в любви.
И не менее ее.
И не более.
Все, товарищи, портится. Ладно, меняется. К худшему. Годы берут свое. То есть наше. Только что была Тасечка, а уже Татьяна Андреевна, а потом, глядишь, померла.
Постепенно портилось зрение Подорожкина. В детских классах видел от нижней черточки по указочке выше, выше… А теперь вот не видел стола. Расплывается, забывается, сами знаете, как бывает со зрением, жизнь.
Подорожкин который год не видел жены своей, Таси, и, нужно сказать, слава богу, что не видел ее, потому что время очень уж к худшему меняет не только вкус картошки с пельменями, но и, так сказать, времена.
Жизнь же портится, по наблюдениям нашим, согласно состоянью телесному и еще когда происходит угасанье надежд. А они ведь тоже не вечные. Вот она – еще ясная, близкая, вся возможная, вся весенняя, и того гляди, подойдет, превратится из мечты в женщину, так знакомо голову наклонит… Но дороги дальние, расстоянья неблизкие, и уходят от нас надежды. Уходят нищей бабушкой от храма Господнего по ковру осеннему в пиво-водочный магазин.
Это к слову.
А наш Подорожкин, хотя и не видя жены своей, с нею дальше жил, с привычным за жизнь смирением: из тех человеческую обязанность, что взял на руки, донеси. Кто-то бросит, а кто-то нет. И хотя для всех кем-то сказано, что до гроба, но не для этого же брались. То есть для этого, но спасает надежда.
У него жена и раньше не очень-то вкусно готовила, но была она воздушная женщина, невесомая, с притяжением, но без притяженья земли. И она писала стихи, пела лучше всякой Пугачевой-Дорониной про вагончик на Тихорецкую и опять писала стихи. А таким всегда не хватает в воздухе воздуха, в отношеньях высокого, в четырех стенах они птицы. И она ходила на вечера эти все у них литературные, музыкальные, и не то чтобы были поклонники, но поклонники были. Иногда совсем уходила. А когда одна в квартире была, включит во всех комнатах свет, говорит, что ей страшно одной. Очень страшно одной, это правда. Подорожкин, возвращаясь с работы, посмотрит снизу, увидит, что свет горит, значит, вернулась. Готовил он сам и сам мыл полы, по которым она ходила. И ее следы на земле были легче кошачьих. А теперь, когда Подорожкин больше не видел ее, и не видел следов ее, и не видел стола, то невиденье, как неведенье, не изменило его привычки.
Жизнь прошла. Но как было заметить конечность ее нашему Подорожкину? Хлеб кормил его, чай поил. Все предметы квартирные, жизнью размытые, вдоль по улице и в метро принимали знакомые очертания, если он доставал из чехольчика офтальмологом выписанные очки. И, конечно, доктор после обследования советовал операцию. «Это же элементарная операция!» – говорил. Подорожкин не соглашался. И хотя офтальмолог грозил ему полной потерей зрения, «глаукома», говорил, «катаракта», «раньше слепли такие, как вы, а теперь…», Подорожкин всё равно сказал: «Лучше выпишите очки». Да и те надевал от случая, рассмотреть в метро пересадку.
Жил по-прежнему, готовил, что раньше умел, экономил на электричестве, жил в темноте, потому что пенсии у нас, сами знаете, «доживай», а ему с его зрением всё равно, в магазин ходил, подметал, мыл полы. На одном только не экономил он: свет, из квартиры уходя, не гасил. Возвращаясь же, проходя под домашними окнами, доставал чехол, надевал очки и смотрел.
Свет горел. И она была дома.
Вадим Месяц (Москва)
Юля
Гульнара Алиева подарила мне на день рождения свою невинность. Грех на всю жизнь. Тяжкая ноша. А ведь хотела, как лучше. Сюрприз!
Началось стремительно. Ближе к ночи я добрался со станции Клайпеда до Неринги, зарегался в пансионате и через два часа целовался с самой красивой дамой на побережье. Как так? Почему? Юля (она представилась именно так) была удивительно скромной. Я и не мечтал о столь скоростном романе. В молодости многие вещи происходят сами собой. Оно и сейчас так иногда происходит, но страсти уже не те. Тогда мне было 22 года. Мое сердце стучало на всю катушку. К тому же, я считал себя поэтом.
Мы познакомились и сразу пошли на море. Белый песок отсвечивал во тьме, на волнах покачивались звезды. Девушка была в красном спортивном костюме «Адидас» с троекратными белыми лампасами. Модная. Впечатлительная. Любила Скотта Фицджеральда. Читала на отдыхе «Ночь нежна». Ночь действительно была нежна. Мы бродили у воды и рассказывали друг другу о себе. Азербайджанка из Кишинева. Студентка. Я из Томска, недавно переехал в Екатеринбург. Аспирант. Встретились в Литве. Советский Союз создал уникальную общность людей.
Я путешествовал с бутылкой бананового ликера. Если подойти к этому делу с умом, 0.7 литра может хватить на несколько городов и стран. В Москве поселился в гостинице «Академическая», но ночью уехал к подруге на Лосиный остров. Мы целовались с ней когда-то в Нарве-Йыэсуу, но дальше этого дело не зашло. Девушка решила углубить наши отношения. Поэтому ночь получилась бессонной. Я приехал к ней с этой бутылкой. С ней, едва початой, и уехал. Она примчалась на вокзал провожать меня. Привезла маленькие бутерброды с оплавленным сыром – по тем незатейливым временам проявила кулинарную изобретательность.
В поезде ехал в купе с какими-то пижонами и мрачной литовской женщиной, женой военного. Такие женщины обычно молчат. Пижоны наоборот хвастались чем-то друг перед другом и передо мной. Я цедил свой ликер, и никого им не угощал. Это было красноречивей любых диалогов. В результате знал о них довольно много, а они обо мне – ничего. Меня устроило бы и обратное. В Паланге мы разошлись на все четыре стороны. В поезде я успел выспаться – имел навыки спать в любой обстановке. Даже стоя.
Погуляв по пляжу, мы с Юлей сели в беседке у входа в пансионат. В воздухе пахло соснами и недалеким морем. Мы предавались искренности, которая ценилась в ту пору. Я быковал. Уверял, что Хемингуэй круче Фицджеральда. Что Фицджеральд так, для девочек. Сейчас бы я плюнул себе в лицо. Нельзя навязывать женщинам свои вкусы. Если ты слишком напорист, они начинают комплексовать. Свою униженность запоминают навсегда. Через годы неизбежно мстят. Юле этой возможности не представилось. Под разговоры об американской прозе к нам пришел ежик. Девушка настолько растрогалась, что дала поцеловать свою грудь. Я до сих пор помню ее очаровательные huge nipples. Такая красота встречается редко. Вообще подобные девушки встречаются редко. Легкое дыхание. Я был очарован Юлей, и еще не догадывался, что мне предстоит долгая, изнурительная борьба за ее тело.
В комнате со мной жил невысокий коренастый паренек из Липецка. Любил говорить загадками. Намекал на связи с КГБ. Показывал мне бицепс и трицепс. Мы с Алиевой возненавидели его за то, что он не давал нам возможности остаться в комнате наедине. К середине сезона стал сговорчивей. К тому же нашу комнату арендовали как-то на ночь два армянских парня, чтоб попробовать литовок. Почему-то они не могли позвать их к себе. Телевизора не было? Или литовки проникали через балкон первого этажа? Мы согласились за ящик пива переночевать в их номере.
За моим столиком в столовой сидел журналист «Комсомольской правды». Мы нашли с ним общих знакомых и зауважали друг друга. Он любил, когда я рассказывал анекдот про хохла на базаре. «Це краб, вин як рак, тiльки у морi живе». Идиотский анекдот.
– Тебе надо жениться, – говорил он.
– Как это?
– Ну на время.
Дураку понятно, что мне надо было жениться. Для этого нужно было преодолеть неопытность и религиозные предрассудки партнерши. Мы часто ходили в пивной бар городка Нида, где пили пиво. Юля чуть-чуть. Я до состояния «всемирной отзывчивости». Рассказывал о стихах, декламировал свои тексты. У меня с собой была распечатка нескольких стихотворений – я их типа редактировал. «Чтобы опять зубами волка ты целовал и рвал перо тех лунных отсветов из шелка, что опоясали бедро». Эротично. Смело. Стихи помогают в любовном промысле.
В день моего двадцатитрехлетия Юля решилась на поступок. Раньше она осуществляла поступки руками, но мне этого было мало. Она была добрым отзывчивым человеком. Она хотела, чтобы я был первым. Говорила, что что хочет стать умной, чтобы я ее полюбил. Она была самой умной и красивой из всех женщин, встреченных мною на жизненном пути. В ту далекую пору я не знал об этом. Мы трахнулись днем в ее комнате. Соседка куда-то отлучилась. Юля решила, что пора. Поначалу это вышло испуганно и неловко. Я ушел в туалет, а Юля заплакала, решив, что я ее бросил. Я успокоил ее, насколько мог. После этого пробуждение «женщины Востока» пошло по нарастающей.
– Я поняла теперь, зачем это нужно, – хвасталась она.
Мы поехали с ней в свадебное путешествие. Сначала – в Вильнюс. Там в пивной повстречали армянских ловеласов.
– На каникулах я пью пиво каждый день, – сказал Ашот. – Не знаю, как жить иначе.
– Если бы в Сибири продавалось пиво, я пил бы его круглосуточно, – сказал я.
Мы пошли на квартиру к Юрию Визбору, ключ от которой был у ребят. Они работали в комитете комсомола Армянской ССР, были влиятельными людьми. Квартира оказалась большой. Увешанной картинами и фотографиями. Хозяина не было – он жил где-то в России. Мы с Юлей воспользовались случаем и закрылись в спальне на пятнадцать минут. Пока она была в душе, Арам спросил меня:
– Как ты можешь общаться с турками? Это не женщина, не человек.
– Она офигенна, – сказал я. – Иранка. Персиянка. Истинная арийка.
– Такие, как она, рожают убийц армянского народа.
Мы поехали с ней в Юрмалу, где отдыхали мои родители. Лето нашей семьи получилось прибалтийским. Родители были в восторге от Юли. Надеялись на скорую свадьбу. Меня это настораживало. Слишком все просто. У меня были другие планы. Карьерные. Захватнические. Будущее обещало быть интересным.
В Ниду возвращались на случайных поездах. Юля много плакала. Чувствовала, что у меня на уме. Для слез ей приходилось вынимать из глаз контактные линзы. Раньше я таких штучек не видел. Глаза у нее были голубые. Как небо, как море, как синяя чашка из школьной книжки. Городок с черепичными крышами, полосатый маяк, дом Томаса Манна, музей янтаря, языческие крикшты на кладбище, дюны, сосны – все тонуло в ее глазах.
Когда пришла пора прощаться, Юля подарила мне пластмассовый пистолет с пульками.
– Пригодится на дуэли, – сказала она.
Я приезжал к ней в Кишинев, ночевал в квартире ее родителей на улице Гоголя. До секса дело не дошло. Отец у нее был строгий. Мы смотрели «Солярис» по продленке – в приграничных частях Союза имелось ночное вещание, чтоб жители не завидовали своим западным соседям.
Как-то в Екатеринбурге я хорошенько поддал с друзьями. Позвонил всем знакомым девушкам в нашей необъятной стране и сделал предложение. Утром в ужасе ждал ответа. Никто не перезвонил. Юля была среди них. Жаль, что она этого не сделала.
Свою грандиозную жизнь с множеством женщин и машин я мог бы ради нее отменить без проблем.
Через десятилетия я повстречал женщину, похожую на нее. Из Баку. Ныне живущую в Стокгольме. Мне казалось, что я дважды вошел в одну и ту же реку. Долго объяснялся ей в любви, пока она не прилетела ко мне в Москву. Перед встречей я купил несколько комплектов постельного белья, яркие полотенца. Вазы, посуду. Пользовался магазином ИКЕА, чтобы гражданка Швеции чувствовала себя как дома. Не удалось. Мы прожили вместе несколько дней, но самоирония взяла верх над чувствами. Нам проще было быть друзьями, чем любовниками.
История с Юлей наградила меня еще одним приобретением. Мировоззренческим. Пока она читала Скотта Фицджеральда, я увлекся письмами Бернарда Шоу, взяв их в местной библиотеке. Литературные памятники. Обложка болотного цвета. Пожилой драматург размышлял в них об искусстве и флиртовал с актрисами, ничем не отличаясь от пылкого юноши. Я решил тогда, что в преклонном возрасте буду таким же жизнерадостным и веселым, как Бернард. С тех пор прошло почти сорок лет. Я почти не изменился. Шанс сдержать давнее обещание есть.
Арина Обух (Санкт-Петербург)
Два человека для масштаба
Город, ветер, двое на «вы».
А на часах уже два ночи. Ещё пятнадцать минут – и всё. Они просто гуляют по городу и разговаривают.
Три часа ночи. Ладно, ещё пять минут…
Ещё пятнадцать минут – и решительно всё.
Четыре часа. Ей хотелось лечь пораньше, но она дождалась титров.
Профессионалы всегда читают титры. Она не была профессионалом. Но прочла.
Белая ночь перешла в белое утро. Девушка задёрнула шторы.
Она всё думала про этот фильм, а потом ушла в сон.
Утром открыла глаза и снова начала думать про фильм.
Жизнь шла, и фильм шёл.
Сначала их было трое: Довлатов, он и она.
Но Довлатов остался стоять на улице Рубинштейна, а двое двинулись дальше и остановились у Пяти углов.
Она обратила его внимание на дом с башней.
– Это башня художника Саши Мельничука. Ночью, когда горят окна, видна огромная красивая Сашина люстра. Всю мастерскую он сделал сам. А потом умер. Теперь там живёт фотограф. Однако башню люди называют «башней художника». И это название хранит память о Саше. Но люди знают только про этого фотографа…
Посмотрели на башню, а потом свернули с темы народного беспамятства на улицу Ломоносова. Нашли кафе, сели за столик.
Сидеть можно было только на улице – карантин закончился, но призрак коронавируса ещё бродил по планете – рекомендовалось соблюдать дистанцию.
Она первый раз за два месяца самоизоляции вышла «в люди», в центр города. И он с иронией смотрел на её карантинные перчатки.
– Ваши синие перчатки очень подходят к этой синей чашке.
Помолчали, потом сказали, что очень рады друг друга видеть. Порадовались и снова замолчали.
Раздался звонок.
– Алё. Нет, я сейчас не в Москве. В Питере, да, на три-четыре дня приехал…
Разговор заканчиваться не спешил. Он два раза успел приложить руку к груди, мол, извините, но тут важный разговор.
– Это продюсер звонил. По поводу окончательного монтажа. Простите.
– Нет, мне было даже интересно.
– Думаете, я бы всё это говорил, если бы вас не было? Нет, конечно. Это я для вас старался. Производил впечатление.
– И вам это удалось.
Она с улыбкой смотрела на человека из титров.
Они шли по улице, разговор заворачивал во дворики, переходил мосты, разворачивался на площадях. А если вдруг наступало молчание, то оно было каким-то необременительным.
На центральных улицах было много людей, но стоило свернуть, пройти чуть дальше, вглубь, всё исчезало: шум, люди, машины – ничего не было. Картина «Двое в городе» в духе Эдварда Хоппера. Бессюжетная живопись, портреты домов.
И два человека для масштаба.
На улице Декабристов они увидели одинокий маленький столик и скамейку. Именно скамейку. Картинка показалась необычной, они не устояли и сели.
– Знаете, я был в Италии, жил на берегу моря, и там хозяева разводили мидии. Горы мидий, а я вегетарианец. Не выдержал: сказал себе, что это достопримечательность, которую обязательно нужно попробовать. Ну это как быть в Голландии и не есть сыр. Или в Германии не попробовать сосиски с капустой. Это всё – достопримечательности.
Их беседу прервал голос проходящего мимо маленького мальчика:
– Папа, а что такое декабристы?
Крошка сын спросил отца, но не получил ответа.
– Папа! А что такое декабристы?!
На этот раз мальчик уже проорал свой вопрос на всю улицу Декабристов.
– Декабристы – это… – отец замялся. – Ну-у… это такие цветы. Они цветут в декабре.
Трехлетний человек ответ отца принял.
Девушка быстро открыла интернет и прочла:
– «Декабристы. Эпифитные кактусы. Произрастают не в почве, а на другом растении. Расцветают в декабре», – и добавила: – Надо думать, расцветают алым мятежным цветом.
– Сначала улицы будут называться именами цветов, потом мальчик подрастёт, будет читать Шефнера и улицы превратятся в «Линии грустных размышлений» и «Проспекты замечательных недоступных девушек».
Отец и сын растворились в конце улицы. Мир замер. Нежно-серый, перламутровый, мягкий. Рыжее небесное тело куталось в облаках, смотрело сон.
– Ну-ка, замрите. Давайте я вас сфотографирую. Смотрите прямо, да, теперь в сторону, чуть на меня, стоп.
Поднялся сильный ветер и принял горячее участие в фотосессии.
Город, ветер, двое на «вы».
Получилось девяносто две фотографии.
Одна была общая.
Он поставил телефон на парапет, включил камеру и таймер, они быстро сели на ступеньки набережной и полминуты сидели неподвижно. Был в этом какой-то девятнадцатый век, фотоателье Карла Буллы, фото на память: не дышать, не двигаться, важность момента. Он чуть склонил голову в её сторону, как и положено кавалеру на старинной открытке.
На следующий день опять встретились у Довлатова.
Довлатов их ждал.
Периферическим зрением оба заметили, что открылись ворота в знаменитый двор Толстовского дома. Быстро, с ловкостью двенадцатилетних, побежали к воротам. Успели. Она юркнула в арку, а он попридержал дверь.
– Хочется кому-нибудь хорошее сделать, пропустить, но, видимо, хорошее никому не нужно.
Огромный арочный Толстовский двор принял двоих в свою утробу.
– Я сегодня короткометражку придумал. Представьте: два человека – мужчина и женщина. Первый кадр: он просыпается в своём доме, одёргивает шторы, смотрит в окно. Следующий кадр: она едет в поезде. А можно и без первых кадров. Просто встречаются двое и говорят друг другу: «привет – привет», обезличено так, не обращаются друг к другу ни на «вы», ни на «ты». Мы пока не понимаем, знакомы они или первый раз друг друга видят. Идут куда-то, и он ей рассказывает… Ну сейчас я наугад что-нибудь придумаю: «Вот видите балкон? С него в свое время упал граф. И после этого таких балконов больше не строили. А теперь посмотрите сюда…». Ну то есть мы понимаем, что девушка приехала в город на экскурсию, он – экскурсовод. И вот как бы ничего не происходит, они гуляют, он рассказывает ей о городе, но зритель при этом чувствует, как этих двух незнакомых людей друг к другу тянет, бешено. Сильное напряжение, которое нарастает. Всё на уровне энергии. И вот в конце короткометражки они просто прощаются. Пока. Пока. Всё.
– Мне нравится, – сказала девушка.
Но ей показалось, что она не первая, кому он рассказывает эту только что придуманную короткометражку.
Режиссеры – люди опасные и продуманные. Особенно, когда у них есть собственный сценарий.
А впрочем, это неважно. Люди часто рассказывают всем одни и те же истории. И даже не потому, что желают понравиться, а, наоборот, возможно, просто ждут какой-то другой, инаковой реакции.
– Смотрите, какая стенка красивая. Интересно, это такой дизайн или просто штукатурка посыпалась, – сказал он и стал фотографировать.
Стена замерла, не дышала, желая ещё больше приглянуться.
Девушка тоже сфотографировала, чтобы в памяти телефона осталась эта стена. Память телефона как-то связывалась с её собственной памятью.
Питер включил белую ночь.
Их перехватила улица Зодчего Росси.
– «Зодчего»… Зачем такая архаика? – сказал он. – И зачем вообще эта добавка, все же знают, кто такой Росси.
– Звучит красиво, – ответила она. – И, может быть, ещё из коллективного чувства вины. Он построил Петербургу дворцы, а умер в бедности на съёмной квартире. Справедливость держит дистанцию от Земли, соблюдает карантин.
Стало темнеть, загорелись люминесцентные вывески баров.
За одним из вечерних столиков сидел Петр I. Его глаза горели, отражая экран смартфона. Сам царь был сумрачен.
Девушке очень хотелось сфотографировать эту сценку, но было понятно, что царь бы её не помиловал. Его рабочий день закончился. Он больше не хочет фотографироваться. Он хочет быть просто уставшим человеком.
Двое свернули с центральных улиц и оказались в лабиринте дворов-колодцев. Темнота, дворы не заканчивались, выхода не было. Но вдруг в одной из арок показался свет. Это ресторанная улица Рубинштейна сияла и пела. Людей было очень много. Довлатов потерялся в толпе.
А потом Питер сократился до одного неба. Размером примерно метр на метр. Квадрат светил с потолка чёрным светом. Малевич сидел на мансардной крыше гостиницы и водил кисточкой, рисуя ночь. Двое сидели в комнате и следили за его работой.
Наступило молчание. Посередине комнаты стояла кровать. Стояла и на себе настаивала. Она была композиционным центром.
– Помните, вы говорили, что были в Италии и ели там мидии. И что в Голландии надо обязательно попробовать сыр, а в Германии – сосиски с капустой. Потому что это достопримечательности…
Он кивнул.
Она хотела продолжить монолог, но потом поняла, что роль неудачная. В конце должна была бы присутствовать фраза: «А я не хочу быть достопримечательностью». Но зачем тогда она пришла в гостиницу – вопрос.
…У него был такой фильм, где двое не спали. Точнее, они именно спали – просто засыпали вместе на одной кровати. И это было хорошо. Она про этот фильм думала.
Режиссёр умел держать паузы.
Наступило время окончательного монтажа.
Малевич пишет «Белый квадрат». Ночь не наступает.
Прощаются, сохраняя дистанцию.
– Пока.
– Пока.
Всё. Снято.
Девушка надела новое платье – значит, это уже другая девушка.
Другая девушка и другой мужчина приехали в другой город.
Их встречал Свободный переулок. Такое название. От чего именно свободный – неизвестно. Но, проходя по такому переулку, приятно примерить его название на себя.
Свободные люди в Свободном переулке.
По чувству – это был приморский городок. В котором у тебя нет дел, обязанностей… Вообще ничего нет. И как будто тебя самого нет.
Всю жизнь так нельзя прожить, а два дня – можно.
– А куда мы идем? Ты уже был здесь?
– Да, давно.
Он был в этом городе шесть лет назад. И ел мороженое. И теперь создавалось впечатление, что он приехал на поиски этого мороженого. Причем он хотел купить его в том же месте, что и шесть лет назад: в парке, рядом с набережной.
Они долго искали. Вернее, они гуляли, разговаривали, смотрели, а «мороженое» – это была его подмысль.
Сработала синхронизация, и у нее тоже появилась эта под-мысль: ей казалось, что вот-вот и свет белого фартука просочится сквозь листву, и даже не он узнает мороженщицу, а она его. И скажет: «Ну, здравствуй. Шесть лет тебя здесь жду, а тебя все нет и нет. Нет и нет».
Наконец, нашли повозку с мороженым. Но это, конечно, была не та повозка, не тот продавец и не то мороженое. В городе встретили еще несколько лотков, но они тоже не подошли.
Делать было нечего. Свобода как отсутствие сюжета. Ищи мороженое, читай названия улиц, рассказывай о своем детстве.
Попадая в маленький город, ты сам несколько увеличиваешься, ты такой значимый теперь, ты единственен. А с тобой рядом мужчина. Или женщина. Или эльф. Неважно. В данную минуту это просто самое близкое к тебе существо. Возьми его руку – и это будет просто продолжение твоей руки.
Они шли куда глаза глядят.
А глаза были жадными и смотрели во все стороны.
Его манили стены из фортификационного кирпича – старые заводы и фабрики, построенные в готическом стиле.
– Мне тоже нравится готика. И шотландские сказки. Особенно концовки этих сказок: «И жили они долго и счастливо. И, если не умерли, значит, живут до сих пор». Или такая: «Гости пировали много дней, и, если еще не закончили, значит, и сейчас пируют». Там настоящее время не заканчивается.
Прохладная шелковая ткань ветра гладила ноги и плечи. Тени ложились на дома, как краска на влажную акварельную бумагу.
Они вдвоем могли бы совершить злодейство или хотя бы украсть ложку из кафетерия. Город как будто специально для них убрал с улиц всех свидетелей. Но нет, ничего не происходило, никакого развития сюжета и объединяющего действия.
Городу было скучно с ними, поэтому ночь пришла раньше, чем обычно. Явилась на Тверскую площадь, где главным был фонтан. Трогательный и торжественный. Как царь игрушечный.
– Пойдем к фонтану? А то приехали, а у фонтана не были, дураки, что ли.
Девушка кивнула. Ничего против фонтана она не имела.
– Знаешь, в моем родном городе было мало памятников, но был фонтан. Я часами на него мог смотреть и смотрел.
Встреча с фонтаном была чем-то вроде компенсации после невстречи с мороженым.
Двое смотрели на него. И фонтан был несколько смущен таким вниманием. Обычно все шли мимо, лишь мельком поглядывая на его работу.
На следующий день город, в котором они находились, стал еще меньше. Тверь превратилась в Торжок.
А прогноз погоды сообщал следующее: «+23, ощущается как +25. Легкий ветерок колышет волосы».
– Не прогноз погоды, а начало романа, – усмехнулась девушка.
Ветер и правда был нежным, теплым, ненавязчивым. Как и сам город.
Храмы, холмы, земля выворачивалась, дыбилась, скатывалась, как на картинах Петрова-Водкина.
Встречая очередной храм, девушка крестилась незаметно, словно стараясь не оскорбить чувства неверующих.
Он это заметил. И улыбнулся.
Улыбка совершенно меняла его лицо: детский человек, чей мальчик? А потом он снова возвращался в себя: взрослый, обособленный. Уединенный в себе. Фортификационный человек.
Вдруг город, по которому они гуляли, снова изменил облик: храмы пропали, дома исчезли, дороги размыло. Остались только лес и поле.
– Ты когда-нибудь была в панике?
– В смысле?
Он показал на табличку, стоявшую среди деревьев. На ней большими буквами было написано: «ПАНИКА».
– Что это?
– Деревня. С населением в семь человек.
– Интересно, как здесь называют жителей – «паникёры»?
И тут же представила, как достала местных жителей эта шутка.
…А прямо в поле, на столбе, висел телефон. Девушка взяла трубку. И услышала голос.
– Алё, здравствуй. А это кто? А в поле больше никого нет? Странно. Гроза, что ли, начинается?.. А ты не клади трубку, ладно? Расскажи лучше о себе… Ну как «что», я вот в Панике родилась, некоторые думают, что в Панике, но это неправильно. Была речка Паника, поникшая, а теперь так деревня называется, вот. У меня есть шесть друзей. Они все предали меня, но мы все равно живем рядом. Алё, ты не молчи, скажи что-нибудь: ты вообще кто? Как живешь?.. Я тоже нормально. А ты из какого города?.. О, я там была, белые ночи смотрела. Открытку привезла: там мост Дворцовый и Эрмитаж – красиво, но наяву все немножко не так было, не знаю, как сказать. Алё, да чего ты молчишь?! Как будто говорить не о чем! Ты что тут делаешь? На мост из валунов приехала посмотреть? Про мост не знаешь?! Ну, смотри: видишь дорожку вдоль поля? Вот, иди прямо, долго, и будет тебе мост. Там камни на собственной силе держатся, была дорога из Петербурга в Москву, и вот мост от нее остался. По нему еще Екатерина ездила, представляешь? Что-то мне с тобой прощаться не хочется – говоришь мало, но слушаешь хорошо. А мы с тобой, получается, первый и последний раз говорим, случайная встреча, да, ну ладно, иди, смотри…
Девушка повесила трубку и оказалась в Петербурге. «+20» ощущалось как «+17».
А он оказался в Москве. «+20» ощущалось как «+20».
И жили они долго и счастливо.
И, если не умерли, значит, живут до сих пор.
У смерти были розовые вьетнамки
– Почему у тебя дома на календаре всегда март?
– Потому что на этой странице Белла Ахмадулина. Там дальше Горький хмурится, Шукшин щурится. Не, не надо. Пусть будут Белла и март. А то, что сейчас декабрь, это и так хорошо видно.
Она посмотрела в окно, как бы желая убедиться в верности своих слов. Черная речка была совершенно белой.
– Черная речка, Новая деревня, Старая деревня… – продолжила она. – Название этих районов не для амбициозных людей: понты некуда кинуть.
Двое в машине, на «Яндекс. Карте» высвечивается надпись: «Место дуэли Пушкина».
– Нет, ну место, конечно, неудачно выбрано, – заметил он. – Дорога, дома… Из окон могли увидеть, да?
– Да, жители каждый раз выходят на балкон и пытаются их остановить. Ни разу не получилось: Дантес стреляет, Пушкин падает в снег. А потом на то же место приходят кидать понты Волошин и Гумилев.
– Трагифарс по мотивам трагедии. Волошин, кажется, по дороге к барьеру сапог потерял или что там…
– Калошу. Долго ее искал, наотрез отказывался дуэлировать в одной калоше.
Снег серебрит город. За окном показалась церковь Рождества Иоанна Предтечи.
– Здесь Пушкин крестил своих детей.
Проезжая мимо, она всегда почему-то произносит эту фразу. Словно Пушкин их вчера крестил. Последняя новость.
– Не представляю на Пушкине креста, – говорит он. – Нет, я все понимаю, крестил детей, но крестик на нем представить не могу.
– Ну правильно: крест не должен быть виден, он спрятан, нательный.
– Хорошо, я могу представить голого Пушкина, но крест на нем…
– Я знаю, что ты не веришь в Бога, но, наверное, с тебя достаточно того, что ты веришь в Пушкина.
Остановились на светофоре. Через дорогу шла женщина – джинсовая куртка, рыжие волосы из-под кепки. Девушка неотрывно смотрела на нее.
– А вечной жизни тоже нет?
– Нет.
– А во сне к тебе умершие разве не приходят? Дедушки, бабушки…
– Приходят.
– И что говорят?
– Разное говорят.
– Смотри, это моя бабушка, видишь? Рыжая, в кепке. Она тоже на Черной речке живет. Два года назад умерла.
– Умерла или живет?
– Ты знаешь, затрудняюсь ответить. Однажды во сне она позвонила мне и сказала, что отдыхает в Железноводске. А я ей говорю: «Подожди, так ты живая?!» А она отвечает: «Ты что, с ума сошла?!» – и бросила трубку. Прям как живая: она с характером была. Слушай, а я тебе про «Комнату страха» рассказывала?..
…Я впервые перестала бояться смерти, когда увидела, что у нее розовые вьетнамки.
Она помахала мне рукой и сказала:
– Привет, малышка. Сколько тебе лет?
– Восемь.
– О, когда вырастешь – заходи в гости.
Смерть не пускала меня в «Комнату страха», загораживая черную дверь. Из этой комнаты доносились крики и зловещая музыка.
Мне хотелось попасть туда, хотя все, кто входил в эту черную дверь, – не возвращались.
Через несколько минут Катя посадила меня в огромную «Чашку для чая». Это был один из тех аттракционов на Крестовском острове, куда пускали восьмилеток.
Кружась в «Чашке», я вдруг увидела, что люди, которые вошли в «Комнату страха», вышли с другой стороны.
Все живы. Смерти нет.
– Да, забавно. Ты когда приедешь в Москву?
Она взглянула на него и подумала, что он слишком крепко в себе заварен. Он сам для себя и «Чашка для чая», и чай, и «Комната страха».
Открыла нараспашку окно. А там – Салоники, Брюгге, Сент-Аньес… В Петербурге можно найти любой город.
А она находит себя на перроне, отражаясь в стекле «Сапсана».
– Ты не ответила. Когда приедешь в Москву?
Он уезжает, она остается. Это происходит из века в век: поезд Петербург – Москва вот уже сто шестьдесят девять лет идет по своему маршруту.
Дантес сто восемьдесят три года убивает Пушкина.
Пушкин живет уже двести двадцать один год.
А на календаре Белла Ахмадулина. Март.
Бабушка пригласила на обед Кончаловского и Высоцкую.
Сидели за длинным неудобным столом. Кончаловский молчал. Высоцкая делилась рецептом салата. Они были нашими далекими родственниками.
Мы с бабушкой хотели, чтобы они поскорее ушли: нам надо было поговорить о главном.
И наконец они ушли. Мы обрадовались. Я развалилась в кресле, бабушка присела рядом. И тут некстати меня посетила мысль, что как-то нехорошо получилось. Все-таки родственники. И не какие-нибудь, а знаменитые. Надо связь поддерживать, а мы всю жизнь так, не особо общались. Бабушка даже не знает, кто это. Я стала объяснять ей.
– Это Кончаловский – режиссер, известный, знаменитый. А это жена его, актриса. Салаты готовит по телевизору.
Но бабушка Катя желает поскорее закончить этот пустой разговор: она как бы осознаёт, что это дурка сна. То есть, в отличие от меня, понимает, в каких обстоятельствах мы находимся, и поэтому обнимает меня за плечи и спрашивает о главном:
– Ну а с женихами-то у тебя как?
Даже после смерти ее волнует этот вопрос.
Надо ответить. Сегодня пойду на кладбище и расскажу.
Смоленское кладбище, Малышевская дорожка.
– Привет, вот и я. – Рассказываю новости.
Рядом кружит пчела. Она всегда тут летает, ждет меня.
Странно, такое большое кладбище, столько живых цветов, а она вьется только у Катиной могилы, причем опыляет искусственный колокольчик. Хотя рядом стоят две живые розы, которые я принесла.
Начинаю рассказывать про деда Виталия, что отпели его спустя тридцать лет после смерти… Недослушав, она быстро улетает. Резко и даже немножко обиженно. Узнаю бабушкин характер: ревнует. И вообще. Хочет только про любовь слушать.
– Ладно. Про любовь.
Пчела возвращается. Снова притворяется, что опыляет пластмассовый колокольчик. Старается себя не выдать. Актриса.
– Я влюблена…
Пчела подлетает ближе, замирает в воздухе – вся внимание.
– Я влюблена в того, про кого ты говорила: «Только не этот!»
Пчела не улетает. Хороший знак. Значит, уже «этот». Смирилась.
«Хочу на твоей свадьбе погулять», – так говорила.
«Хочу на твоей свадьбе полетать», – так говорит.
Возвращаюсь домой.
Мне почему-то все время хочется петь. В бабушку пошла.
Голоса у меня совершенно нет (как и у нее), но песня внутри кружит. Летает, смешит, поет, жалит. «Верила, верила, верю-ю. Верила, верила я-я… Время настанет – полюбишь, но будет уж поздно тада».
И обязательно в конце это Катино твердое белорусское «тада».
Когда – «тада»?
Сёдня.
– На Васильевский остров я приду полетать, – обещает он.
И прилетает. Снимает крылья и оставляет их на вешалке в коридоре.
– А можно примерить?
Он помогает мне прикрепить крылья к спине.
Крылья велики. Они волочатся по полу. Ни шагу ступить, ни взлететь.
– Тяжелые… Как ты их носишь?
– Тут сноровка нужна, – улыбается он.
У него всегда неотложные дела, каждый день спасает мир: с миром все время что-то не так. Мир постоянно требует его внимания.
Я не знаю, кто он, поэтому называю его просто Белый.
С крыльями – точно ангел. Без крыльев – человек.
Может быть, все это неправда, но, с другой стороны, я же своими глазами видела эти крылья. Многим людям, чтобы уверовать, – нужно что-то осязаемое.
У меня был знакомый, который не верил в Бога, но носил крест: родители крестили, он понимал, что это традиция, и крест не снимал никогда, но веры не было. Белый говорит, что так многие люди живут. А когда попадают на небо, они там самые ошалевшие бродят, удивляются все время, облака трогают, каждого ангела останавливают и спрашивают: «А что дальше? А куда идти?..» Суматоха как в аэропорту. Потом их вызывают на стойку регистрации… Ад, рай, возьмите билетик.
А знакомый мой, неверующий, три раза крест в реке терял. И три раза покупал новый. Была у него какая-то необходимость в этой ноше. Белый говорит, что ангелы летят на крест и садятся на «ангелову полочку».
– Какую полочку?
– Вот тут.
Белый касается моей шеи и чуть надавливает на яремную ямку.
– Вот тут слышно, о чем голова думает и про что сердце стучит, очень удобно. Кстати, перестань свои ошибки считать, отпусти их, включи какой-нибудь другой режим, почисти память.
Но я перестаю думать о них только тогда, когда Белый накрывает меня крылом. В эту минуту мир сокращается до пределов одного крыла.
В моей жизни Белый появился неожиданно и вовремя.
В тот год смерть забирала всех наспех, без передышки. Все только и успевали повторять: «Ушла эпоха, ушла эпоха, ушла эпоха».
Умирали великие актеры, режиссеры, музыканты, писатели, художники… Словно Там был запланирован какой-то заоблачный фестиваль, где непременно должны выступить все лучшие люди планеты Земля.
А небесный зрительный зал заполнили зрители.
Моя бабушка Катя, по земной привычке, пришла на концерт заранее, на два часа раньше, заняла место.
30 августа дал концерт Иосиф Кобзон.
– А Кобзон спел «Катюшу»? – спрашиваю я.
Белый кивнул.
– Правда?
– Конечно, ты же просила. А я передал.
А 1 октября он так сказал:
– Ей сегодня Шарль Азнавур поет.
И Белый показал контрамарки.
В детстве игра такая была – «Секретик»: роешь в земле ямку, кладешь в нее красивый цветок, накрываешь стеклышком, запоминаешь место и никому про него не рассказываешь – всё, тайна готова. А теперь моя тайна – Белый. И тоже в ямке – яремной.
…А однажды на одной из стен моего двора появилась надпись: «Бесконечность минус значимое равно бесконечность».
Весь двор думал над данным уравнением, никто не мог осилить этого вычитания и полученного результата.
Стерли, закрасили, почистили память.
Но надпись опять появилась. Проступила. И на себе настаивала: «Бесконечность минус значимое равно бесконечность».
То есть: минус Катя – «минус значимое». На Земле все время идет вычитание. И прибавление – планета прирастает новоселами. Бесконечность такая. А минусы принимает Небо, тоже бесконечное.
У меня в коридоре крылья висят. Оставил кто-то.
Надеваю. Смотрю в зеркало: великоваты. Зато теплые.
По дороге на Смоленское кладбище всегда вижу одного и того же нищего, Филимоном зовут. Его все знают, у него собственное кресло. Он как памятник для голубей: они сидят на его голове, плечах, ногах, животе… Бог голубей. Любит деньги, но принимает их с достоинством.
– А крылья возьмете?
– Так это ж мои!
Он на все так реагирует: думает, что люди ему не подают, а возвращают.
Надел крылья и взмыл в небо вместе с голубями.
Все это правда, все было.
И падал петербургский снег, мартовский. Белый, неосязаемый, яремный.
Андрей Коровин (Москва)
Улица Приморская, дом два
…Он очнулся от того, что луч солнца шарил по его груди. Как будто солнечный зайчик водил по его телу лапкой, нежно поглаживая, согревая те места, которых касался. Сознание возвращалось медленно, сон всё не отпускал его. Наконец, он понял, что его гладит женщина.
Никита нехотя открыл глаза и увидел полутёмную комнату, которую свет прорезал узкими острыми лезвиями. Она лежала на его плече, густые чёрные вьющиеся волосы разметались по его телу, по простыне, щекотали губы и нос. Одной рукой она гладила его грудь. Её ладонь была сухой и гладкой, её прикасания к его соскам вызывали волны лёгких мурашек.
«Кто она? – подумал он. – И где я?»
Они лежали на пружинной кровати, утонув в ней, провалившись посередине, старые пружины поскрипывали, когда они шевелились. Её рука медленно сползла под простынёй по телу к его бёдрам, затем спустилась в овражек между ногами и начала гладить его пенис. Тот немедленно проснулся и окреп, а она всё продолжала гладить его, затем мошонку, затем снова член.
Никите томительно захотелось войти в эту женщину, посмотреть ей в глаза, узнать её имя. Он сделал движение, чтобы перевернуть её на спину, она поняла его и прошептала:
– Пойдём вниз, на пол, как вчера…
Они встали с кровати.
Это была жилая комната старого деревянного дома. Ставни на окне были закрыты, а сквозь щели пробивались те самые острые лучи, которые тонко нарезали воздух в комнате на ломтики света и тьмы.
Она перетащила на пол одеяло и подушку, взяла его за руку, потянула к себе, вниз.
Он видел её будто впервые, её чёрную львиную шевелюру, её стройное гладкое тело без единой лишней детали, её небольшую, но крепкую грудь с крупными сосками, её пах, опушённый чёрными зарослями волос. Никита подчинился ей, опустился на колени, посмотрел ей в лицо. Она ждала, глядя на него влюблёнными влажными глазами, казалось, будто она не так давно плакала. Он лёг на неё, помогая себе рукой, пока не вошёл в мягкое горячее лоно, и начал двигаться внутри, облизывая один её сосок, кажется правый. Она вздрогнула, когда он вошёл в неё, и начала двигаться ему навстречу, выгибая спину и постанывая, закусив губу, чтобы смягчить звук. Женщина была похожа на гречанку, смуглая или очень загорелая, с огромными, широко раскрытыми глазами и длинными чёрными ресницами. Она смотрела на него в упор, как будто поглощала его, и в этом взгляде он видел всю её – от ненависти до любви. Казалось, в какие-то секунды она ненавидела его, нарушившего её безмятежный покой, а следом в её взгляде было столько неутолённого плотского голода, что казалось, будто она только и ждала того, что он будет входить и входить в неё бесконечно.
За окном послышались голоса невольных свидетелей их танца – мужской и женский. И ему стало неловко и захотелось поскорее закончить этот обряд. Он сделал несколько сильных резких движений и почувствовал приближение финала, резко вытащил член и кончил прямо на её густые чёрные завитки на лобке. Белая сперма растеклась, склеивая волосы. Он рухнул рядом, притянул её к себе. Она доверчиво прижалась и обвила его торс рукой.
«Как же её зовут?» – попытался вспомнить он, но не смог.
– Где мы?
– Мы у друзей, я здесь снимаю комнату, – сказала она, – а этому дому больше ста лет, представляешь?
В комнате пахло так же, как в тех старых домах, где он бывал раньше, – старыми вещами, затхлостью, деревом, но было что-то особенное, своё в запахах этого дома.
– А кто там говорит за стеной? Хозяева?
– Хозяйка, Наталья Степановна, и Миша, археолог. Он тоже, оказывается, остался здесь на ночь.
Миша-археолог – огромный мужик в возрасте, который клеился к ней вчера – вдруг вспомнил он. «Но как же всё-таки её зовут?»
События вчерашнего дня понемногу всплывали в его памяти.
Это был археологический конгресс, на который он приехал как журналист, думая, что послушает эту скукоту и уедет в тот же день. Доклады были и впрямь скучны, он думал, что мог бы прочесть подобный доклад и сам, если бы захотел. Никита несколько раз выходил курить, он и так специально сел в самый задний ряд, чтобы можно было незаметно дремать, чтобы не умереть от тоски. Однажды вместе с ним вышла девушка, точнее молодая женщина, крайне необычной внешности. «Не мой тип», – подумал он, но автоматически предложил ей огоньку, когда она вытащила сигарету из пачки. «Спасибо, у меня своя», – холодно улыбнулась она. Её холодность совершенно не вязалась с её южной, горячей внешностью.
Среди участников конгресса был его старый знакомый, хранитель одного небольшого исторического музея – Сэм. И после секционных заседаний он предложил всем идти купаться. С ними увязался толстый увалень, который читал скучнейший доклад, археолог Миша, хохотун из одного крымского музея Иннокентий и внезапно – она! По дороге зашли в магазин за вином и закуской, и Сэм, знавший и любивший эти места, повёл их тайной тропой куда-то в никому неизвестные бухты. Мелкие камешки хрустели под ногами, летние босоножки скользили под большими, обласканными морем валунами, через которые они перелезали. Никита несколько раз предлагал ей свою руку, чтобы помочь, но она подчёркнуто соглашалась принять помощь только археолога Миши. Миша цвёл и расточал цитаты из древних греков. Остановились в небольшой бухточке, где можно было разложить на камне небогатую снедь – лаваш, сыр, помидоры и инжир. Сэм вскрыл вино и предложил первый тост – за прекрасную даму. Дама засмущалась и ответила, что пьёт за не менее прекрасных мужчин. Второй тост произносил Миша и тоже, конечно, за даму, за её уникальные способности и таланты. На Никиту же дама продолжала поглядывать свысока: подумаешь, какой-то журналистишко затесался в их сугубо научную элитную компанию. На его вопросы сыпала едкими остротами, и он видел, что это доставляло ей удовольствие – ставить на место не в меру нахального представителя древнейшей профессии. От удовольствия её губы слегка кривились, а ноздри раздувались как у горячего скакуна. «Ах, вот ты как!» – подумал он.
Наконец, допили первую бутылку вина и решили купаться. Купальников ни у кого не было, но все как-то не очень переживали по этому поводу. Только она сказала, что разденется и войдёт в воду за соседним камнем. Раздевшись, она начала заходить в воду и попросила «мальчиков» отвернуться. Все, улыбаясь, отвернулись, и только он краем глаза оценил её без одежды. Фигурка у неё была как у двадцатилетней, хотя ей, кажется, уже исполнилось тридцать. Грудь была небольшой, но попа ему понравилась.
Никита сбросил шорты и трусы и прыгнул с камня в воду. Под водой он открыл глаза и невдалеке от себя увидел её ноги и поросший волосами треугольник пикассо между ног. Там же, под водой, оказалось несколько островков, поросших морскими водорослями, между которыми сновали мелкие рыбки. Она подплыла к одному из них, ухватилась пальцами за камни и болталась на воде, распугивая рыбёшек. Он незаметно подкрался сзади (была даже мысль проскользнуть у неё между ног, но он справился с искушением), тихонько обогнул её и неожиданно вынырнул из воды со словами:
– Морская Владычица позволит мне подержаться за её камень?
Она вздрогнула от неожиданности, засмеялась и сказала «нет». Ну, конечно же, нет.
– Тогда я вынужден захватить соседний остров и объявить его своим, Ваше величество! – парировал он.
– Если я – Владычица Морская, значит, все острова мои! – заявила она в ответ.
– Но я – пират, и захватничество – моя работа!
И они начали игру. Игру, которая привела их в этот старинный дом со скрипящими ставнями под высоким кипарисом.
Когда они вылезли, она накинула на мокрое тело вязаную кофту в крупную клетку, сквозь которую случайно просвечивал большой тёмно-красный сосок. Он не мог оторвать взгляд от этого соска. Он уже не мог думать ни о чём другом, кроме неё. И её остроты как-то округлились, стали мягче.
Назад в город шли в молчании. В ближайшем кафе остановились пообедать, заказали ещё вина и кальян. Он сел рядом с ней. С другой стороны подсел Миша, который никак не мог понять, что происходит. Ведь ещё утром он был её единственным фаворитом. Местный художник начал рисовать на небе очередные рериховские сумерки, и она сказала «Мне холодно», и он притянул её к себе. Она не сопротивлялась. Миша хотел предложить ей свою джинсовую куртку, но опоздал. Она пригрелась и недоверчиво положила голову на плечо Никиты. Все зачарованно замолчали.
Наконец, Сэм предложил: «Может, переоденемся и погуляем по вечерней набережной?» Они условились встретиться у корабля-ресторана в девять вечера. И только Миша сказал, что ему нужно готовиться к завтрашнему докладу. На прощанье археолог спросил у неё, где она остановилась. «На Приморской-два», – сказала она. «Ааа, у Натальстепанны!» – радостно закивал Миша. Он давно кочевал по Крыму и знал местных старожилов.
