Торговцы культурой. Книгоиздательский бизнес в XXI веке
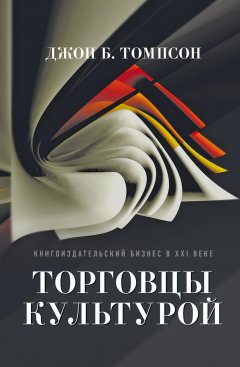
Copyright © John B. Thompson
First Edition published in 2010 by Polity Press
This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge.
© А. Корбут, перевод с английского, 2023
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Предисловие ко второму изданию
Писать о современной индустрии – все равно что стрелять по движущейся мишени: не успели вы закончить текст, как ваш предмет уже изменился. Происходят разнообразные события, что-то меняется, и индустрия, которую вы зафиксировали в определенный момент времени, теперь выглядит иначе. Мгновенное устаревание – судьба текста любого летописца настоящего. Единственное, что тут можно поделать, – перерабатывать и обновлять текст, если и когда представляется такая возможность, хотя даже в этом случае вы всегда будете оставаться на шаг позади потока событий, запечатлевая мир в тот момент, когда он ускользает от вас.
Для того, кто писал бы книгу о книгоиздательской индустрии тридцать или сорок лет назад, риск устаревания был бы не таким серьезным: конечно, отрасль существенно менялась, но ее базовые принципы и практики не ставились под сомнение. Крупные корпорации покупали издательства, розничные сети и литературные агенты становились все более влиятельными, а традиционный мир массового книгоиздания превращался в крупный бизнес. Но сама книга как культурный объект – уникальное сочетание печати и бумаги, слияние письменного слова и материального артефакта – производилась почти так же, как и несколько веков назад. Сегодня это уже не так. На пороге второго десятилетия XXI века старейшая из медиаиндустрий переживает бурные перемены, изо всех сил пытаясь справиться с последствиями технологической революции, которая лишает былой уверенности, подрывает традиционные модели и открывает новые возможности, одновременно захватывающие и дезориентирующие. То, что когда-то казалось тихой заводью медиаиндустрий, внезапно попало на передовицы.
При подготовке текста для издания в мягкой обложке я постарался учесть ключевые изменения последних лет и обновить эмпирические данные там, где это важно. Во многих контекстах данные за 2008 или 2009 год по-прежнему дают хорошую картину того, как отрасль выглядит сегодня, поэтому я оставил цифры такими, какими они были. Но есть и другие контексты, особенно описанные в главе о цифровой революции, где потребовалось существенно обновить данные. Когда революция в разгаре, два года могут показаться вечностью. Я повторно обратился примерно к двадцати моим информантам в Лондоне и Нью-Йорке и поговорил с ними о произошедших переменах, отчасти для того, чтобы убедиться, что я в курсе наиболее важных событий, но также для того, чтобы увидеть, каким образом изменились их взгляды, пока они пытались приспособиться к происходящим вокруг них переменам. Я хочу еще раз выразить огромную благодарность этим людям – которые, как и прежде, останутся анонимными, – за уделенное мне время, за их щедрость и открытость. Однако я не поддался искушению переписать текст и заново проанализировать каждого актора и каждую организацию: хотя произошло много событий, базовые структуры и динамика мира англо-американского массового книгоиздания остаются в значительной степени такими, какими я их описал. Конечно, мы не можем исключать возможности того, что со временем эти структуры и динамика трансформируются в результате происходящих в настоящее время изменений: никогда ни стоит недооценивать разрушительный потенциал новых технологий. Но в то же время следует понимать, что их разработка и внедрение всегда представляют собой неотъемлемую часть более широкой совокупности социальных отношений, в рамках которых агенты и организации сотрудничают, конкурируют и порой конфликтуют друг с другом и где результаты определяются в равной степени как внутренними свойствами самих технологий, так и структурами власти. Эти структуры и составляют предмет данной книги, в которой показывается, как они возникли, как они определяют практики акторов в поле и как они меняются сегодня. Я намеренно оставляю открытым вопрос о том, насколько сильно эти структуры изменятся в будущем, на который пока – и, вероятно, еще в течение некоторого времени – нельзя дать однозначного ответа.
Дж. Б. Т., Кембридж
Предисловие к первому изданию
Удивительно, но один из секторов креативных индустрий, о котором мы очень мало знаем, – это индустрия книгоиздания, сектор, который с нами дольше всего. Появившиеся в XV веке благодаря знаменитым изобретениям золотаря из Майнца печать и издание книг – бизнес, существующий уже более пяти столетий, однако мы крайне мало знаем о том, как сегодня организована эта индустрия и как она меняется. Книги по-прежнему окружены большим вниманием в газетах, радио и других медиа, они остаются важным источником вдохновения и сырым материалом для фильмов и прочих видов популярных развлечений, а писатели – особенно романисты, историки и ученые – все еще обладают в наших обществах высоким статусом, даже аурой, которой могут похвастаться немногие профессионалы. Но в тех редких случаях, когда предметом публичного внимания становится сама издательская индустрия, чаще всего это происходит потому, что какой-либо журналист спешит объявить, что с наступлением цифрового века книгоиздание, которое мы знаем, обречено на исчезновение. Мало каким отраслям предрекали смерть столь же часто, как книгоизданию, и тем не менее каким-то чудесным образом оно переживало их все – по крайней мере до нынешнего дня.
Одной из целей начатого мной около десяти лет назад систематического изучения современной книгоиздательской индустрии было восполнение этого пробела в нашем понимании. Сначала я обратился к сектору индустрии, наиболее близкому к моему собственному миру академического работника, а именно к полю академического книгоиздания, в которое входят университетские издательства, коммерческие академические издательства (такие, как Taylor & Francis, Palgrave Macmillan и SAGE Publications) и издательства, выпускающие учебники для колледжей (например, Pearson и McGraw-Hill). Результаты этого исследования были опубликованы в 2005 году в монографии «Книги в цифровую эпоху». После я погрузился в совершенно иной мир – мир литературы для массового читателя: мир бестселлеров, таких как «Код да Винчи» Дэна Брауна и «Тайна» Ронды Бирн, мир литературных знаменитостей вроде Стивена Кинга и Джона Гришэма, мир множества стилей и жанров художественной и нехудожественной литературы, от коммерческой беллетристики до высокой литературы, от воспоминаний о страданиях до серьезных сочинений об истории, политике и текущих событиях. Я изучал этот мир так, как антрополог изучал бы практики племени, населяющего какой-нибудь отдаленный остров в южной части Тихого океана, только в данном случае племя живет и работает по большей части на небольшом участке острова, зажатого между реками Гудзон и Ист в Нью-Йорке, и на берегах Темзы в Лондоне. Их практики могут поначалу показаться стороннему наблюдателю странными, порой даже эксцентричными. Но в своей работе я исхожу из допущения, что, если понять структуру этого мира и то, как она развивалась с течением времени, даже самые удивительные вещи перестанут казаться столь уж необычными.
Исследование, которое легло в основу этой книги, проводилось в течение четырех лет, с 2005 по 2009 год. Я благодарен Совету по экономическим и социальным исследованиям (ESRC) Великобритании за щедрый грант (RES-000-22-1292), который поддержал это исследование и позволил мне проводить много времени в Нью-Йорке и Лондоне. За это время я взял около двухсот восьмидесяти интервью у топ-менеджеров, издателей, редакторов, директоров по продажам, директоров по маркетингу, специалистов по связям с общественностью и прочих менеджеров и сотрудников во многих издательских фирмах, начиная с крупных корпораций и заканчивая небольшими независимыми издательствами. Я также взял интервью у множества агентов, авторов и книготорговцев, включая некоторых ключевых закупщиков из крупных розничных сетей. Я благодарен всем этим людям за то, что они столь щедро уделяли мне свое время – и в некоторых случаях позволяли мне интервьюировать их по нескольку раз. Я прекрасно понимаю, что в мире, где время считается так же тщательно, как и деньги, меня одарили множеством ценных временны´х подарков. Их готовность разговаривать, их терпеливые объяснения того, чем они занимаются и как они это делают, и их откровенные оценки вызовов, с которыми они сталкиваются, стали незаменимым фундаментом, на котором я построил описание их мира. Мои собеседники по большей части анонимны; лишь в некоторых случаях я, с их разрешения, позволил им говорить от своего имени, когда полагал, что это будет полезно для читателя (или что читатель, немного знающий эту область, легко их узнает). Но то, что большинство моих информантов анонимны и что они и их компания чаще всего выступают под псевдонимами, не должно скрывать размеры моего долга.
Я не смог бы завершить эту книгу без щедрой помощи Аланны Айвин и ее ассистентов, которые с безграничной целеустремленностью и профессионализмом расшифровали множество часов интервью. Я чрезвычайно признателен Майклу Шадсону, Ангусу Филлипсу, Уильяму Шинкеру, Хелен Фрейзер, Дрейку Макфили, Андреа Друган, четырем анонимным читателям из ESRC и нескольким моим информантам – которые тоже должны остаться анонимными, – нашедшим время для чтения рукописи этого текста и высказавшим множество полезных замечаний. Я также благодарен Энн Боне за искусную и дотошную техническую редактуру, Дэвиду Драммонду за гениальный дизайн обложки и многим людям в Polity – в том числе Гиллу Мотли, Сью Поуп, Саре Ламберт, Нилу де Корта, Клэр Анселл, Саре Доджсон, Бреффни О’Коннор, Марианне Раттер и Колину Робинсону, – которые провели эту книгу через публикационный процесс. Наконец, я благодарю Мирку и Алекса, которые создали условия для написания этой книги и которые (в случае Алекса) постоянно напоминали мне о том, какая это незамутненная радость – читать книги.
Введение
Представьте на минуту, что вы находитесь в офисе книжного скаута в Нью-Йорке. На дворе ноябрь 2007 года; за окном светит солнце, небо ярко-синее, в воздухе ощущается прохлада поздней осени. Офис находится в старом здании, построенном в конце XIX века; помещения были со вкусом перепланированы, теперь здесь светлые стены и полированные деревянные полы. Из окна можно видеть несколько резервуаров для воды, стоящих на крышах зданий, – обычный вид, открывающийся из офисов на верхних этажах в этой части центрального Манхэттена. Скауты ищут таланты. Они (обычно это женщины), как правило, работают за гонорар на издательства из Италии, Испании, Германии, Франции, Скандинавии и других стран, разыскивая книги, которые их клиенты могли бы перевести и опубликовать в своих странах и на своих языках. Скауты – это глаза и уши иностранных издательств в сердце англо-американского книгоиздательского бизнеса. Чаще всего они базируются в Нью-Йорке или Лондоне, работая на издательства в Риме, Франкфурте, Берлине, Париже, Мадриде, Лиссабоне, Копенгагене, Стокгольме, Рио, Сан-Паулу, Токио и других местах; в обратном направлении поток сообщений идет крайне редко. Скаут, с которым вы сегодня беседуете, – назовем ее Ханне, – рассказывает вам, каким образом она узнаёт о новых книжных проектах, которые запускаются в нью-йоркских издательствах и, вероятно, будут опубликованы где-то в следующем году, и в ходе рассказа упоминает о предложении, касающемся книги Рэнди Пауша под названием «Последняя лекция». «Кто такой Рэнди Пауш?» – спрашиваете вы. «Вы не знаете, кто такой Рэнди Пауш?» – отвечает она с легким удивлением в голосе. «Нет, никогда не слышал о нем. Кто он и о какой книге идет речь?» И тогда она рассказывает вам историю Рэнди Пауша и «Последней лекции».
Рэнди Пауш был профессором информатики в Университете Карнеги – Меллона в Питтсбурге (теперь эту историю нужно рассказывать в прошедшем времени, хотя в 2007 году Ханне использовала настоящее время). Он был специалистом по человеко-машинным интерфейсам и опубликовал множество технических статей о различных аспектах программирования, виртуальной реальности и разработки программного обеспечения. Но в сентябре 2007 года в карьере Пауша неожиданно произошел необычный поворот. Его пригласили выступить с лекцией в Карнеги – Меллон в рамках серии под названием «Последняя лекция» – в рамках этой серии профессорам предлагают поразмышлять о самом важном для них и суммировать знания, которые они хотели бы передать своим студентам, в одной лекции, как если бы она была последняя. По трагической иронии судьбы это была, видимо, одна из последних лекций Рэнди Пауша: этот 46-летний отец троих детей умирал от неизлечимой формы рака поджелудочной железы. Часовая лекция на тему «Как осуществить свои детские мечты» была прочитана перед примерно четырьмястами студентами и преподавателями 18 сентября 2007 года; лекция была записана на видео, чтобы его дети могли посмотреть ее, когда вырастут. В аудитории находился обозреватель Wall Street Journal Джефф Заслоу, который, услышав о лекции, приехал из Детройта. Как и многие из присутствовавших, Заслоу был глубоко тронут этим событием и написал небольшую статью об этом для своей колонки в Wall Street Journal. Статья вышла 20 сентября со ссылкой на короткий пятиминутный клип с основными моментами лекции. В телешоу «Доброе утро, Америка» канала ABC заметили статью в Journal и пригласили Пауша в следующий выпуск. Интерес медиа начал расти, и Пауша позвали выступить на шоу Опры Уинфри в октябре. Тем временем видео лекции было выложено в YouTube, и миллионы людей посмотрели короткий клип или полную версию.
Вскоре после выхода статьи в Wall Street Journal нью-йоркские издательства начали присылать Паушу электронные письма, спрашивая, не хочет ли он написать книгу на ее основе. «Меня это позабавило, – рассказывал Пауш, – потому что в то время паллиативная химиотерапия еще не сработала, и я полагал, что у меня осталось примерно шесть недель хорошего здоровья». Но после некоторых раздумий он согласился, при условии что он будет соавтором книги с Джеффом Заслоу, но фактически писать ее будет Джефф. Джефф связался со своим агентом в Нью-Йорке, и агентство занялось подготовкой предложения и рассылкой его издательствам. Агентство отклонило упреждающее предложение цены и в октябре отправило короткое 15-страничное предложение во многие нью-йоркские издательства. В течение двух недель сделка была заключена. «И за сколько ушла книга?» – спрашиваете вы у Ханне. «6,75 миллиона долларов, – отвечает она. «6,75 миллиона долларов?! Вы, должно быть, шутите!» – «Нет, серьезно, Hyperion купил ее за 6,75 миллиона долларов, – говорит она. – Они закрыли сделку пару недель назад. Это будет короткая книга, около 180 страниц, и они планируют опубликовать ее в апреле следующего года». Вы не можете поверить своим ушам. Зачем кому-то платить 6,75 миллиона долларов за книгу под названием «Последняя лекция», написанную профессором информатики, который до сих пор не был известен в качестве успешного автора? Может быть, 40 000 или 50 000 долларов, или даже скромная шестизначная сумма, если вы редкий оптимист. Но 6,75 миллиона долларов? Как издательская компания может решиться выложить такие деньги за темную лошадку? Стороннему наблюдателю это кажется удивительным, невероятным, совершенно немыслимым. Даже сам Пауш признавался, что был ошарашен размером аванса («То, что за книгу дали большой аванс за счет авторских отчислений, застало нас обоих врасплох»). Как понимать это, на первый взгляд, странное поведение? Многим оно покажется еще одним примером «иррационального изобилия» рынков, но действительно ли оно так иррационально, как кажется?
Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно отстраниться от деталей нашей истории и пойти окольным путем. Нам нужно понять, как изменился мир массового книгоиздания за последние 40–50 лет и как он организован сегодня – каковы ключевые игроки, с какими трудностями они сталкиваются и какими ресурсами они располагают. Нам также нужно ввести некоторые понятия, которые помогут нам разобраться в этом мире и понять, как действия каждого ключевого игрока обусловливаются действиями других, поскольку эти игроки не действуют в одиночку: они всегда действуют в определенном контексте или в том, что я буду называть «полем», в котором действия любого агента обусловливаются действиями других и, в свою очередь, обусловливают их.
Издательские поля
Что такое поле? Я заимствую этот термин у французского социолога Пьера Бурдьё и адаптирую его для своих целей[1]. Поле – это структурированное пространство социальных позиций, которые могут занимать агенты и организации, и позиция любого агента или организации зависит от типа и количества ресурсов или «капитала», которым они располагают. Любая социальная область – бизнес-сектор, сфера образования, сфера спорта – может рассматриваться как поле, в котором агенты и организации находятся друг с другом в отношениях сотрудничества, конкуренции и взаимозависимости. Рынки являются важной частью некоторых полей, но поля всегда больше, чем рынки. Они включают в себя агентов и организации, различные типы и объемы власти и ресурсов, разнообразные практики и специфические формы конкуренции, сотрудничества и вознаграждения.
Существует четыре причины, по которым понятие поля помогает понять мир книгоиздания. Во-первых, благодаря ему становится ясно, что издательский мир – не один мир, а множество миров или, как я буду говорить, множество полей, каждое из которых обладает своими отличительными характеристиками. Так, есть поле массового книгоиздания, поле научного книгоиздания, поле издания литературы для высшего образования, поле издания профессиональной литературы, поле издания иллюстрированных книг по искусству и т. д. Каждое из этих полей имеет свои специфические черты – их нельзя обобщить. Это как разные виды игр: есть шахматы, шашки, монополия, риск, клюдо и т. д. Для стороннего наблюдателя все они могут выглядеть одинаково – всё это настольные игры с маленькими фрагментами, которые передвигаются по доске. Но у каждой игры есть свои правила, и вы можете знать, как играть в одну из них, не зная, как играть в другую. Именно так зачастую устроено книгоиздание: люди, вовлеченные в издательский бизнес, как правило, работают в одном конкретном поле. Они становятся экспертами в этом поле и могут дойти в нем до высших руководящих должностей, но при этом с большой вероятностью вообще ничего не знают о том, что происходит в других полях.
Вторая причина, по которой понятие поля полезно, состоит в том, что оно заставляет не ограничиваться конкретными фирмами и организациями и мыслить вместо этого в категориях отношений. Понятие поля составляет часть теории, которая имеет фундаментально реляционный характер, в том смысле, что, согласно этой теории, действия агентов, фирм и других организаций ориентированы на других агентов и организации и основаны на расчетах относительно того, как другие могут или не могут действовать в поле. Агенты, фирмы и другие организации никогда не существуют изолированно: они всегда находятся в сложных отношениях власти, конкуренции и сотрудничества с другими фирмами и организациями, и теория полей побуждает фокусироваться на этом сложном пространстве власти и взаимозависимости. Эта теория постоянно напоминает нам, что действия любого конкретного агента или организации всегда являются частью более широкого целого, системы, если хотите, частью которой они являются, но над которой у них нет полного контроля.
Третья причина, по которой понятие поля полезно, заключается в том, что оно обращает наше внимание на то, что власть любого агента или организации в поле зависит от типов и объемов ресурсов или капитала, которым они располагают. Власть – это не волшебное свойство, которым обладает индивид или организация, а способность действовать и добиваться своего, всегда зависящая от имеющихся у агента или организации типов и объемов ресурсов.
Какие же типы ресурсов или капитала важны в издательских полях? На мой взгляд, можно выделить пять типов ресурсов, которые особенно важны в издательских полях: я буду называть их «экономический капитал», «человеческий капитал», «социальный капитал», «интеллектуальный капитал» и «символический капитал» (рис. 1)[2]. Экономический капитал – это накопленные финансовые ресурсы, в том числе запасы книг, недвижимое имущество и финансовые резервы, к которым издательства имеют доступ либо напрямую (собственные счета), либо опосредованно (благодаря возможности использовать ресурсы материнской компании или привлекать финансовые средства от банков или других институтов). Человеческий капитал – это персонал, нанятый фирмой, и его накопленные знания, навыки и экспертиза. Социальный капитал – это сети контактов и отношений, которые индивид или организация выстраивают с течением времени. Интеллектуальный капитал (или интеллектуальная собственность) включает в себя права на интеллектуальный контент, которым издательства владеют или который контролируют, – права, подтвержденные договорами с авторами и другими организациями, с помощью которых издательства могут извлекать прибыль посредством публикаций и продажи производных издательских прав. Символический капитал – это накопленный престиж и статус, ассоциируемые с издательством. Любое издательство занимает свое особое положение в социальном пространстве позиций в зависимости от обладания относительными объемами этих пяти форм капитала.
Рис. 1. Ключевые ресурсы издательских фирм
Зачем издательствам экономический капитал, понять легко: как основное звено издательской цепочки, берущее на себя риски, издательства должны иметь возможность использовать свои финансовые ресурсы (или ресурсы финансовых агентов и институтов, с которыми они связаны, например банков или материнских компаний) на разных этапах для финансирования производства и публикации книг, а также для выстраивания и расширения бизнеса. На первых этапах цикла книгоиздания они должны быть готовы выплатить автору или его агенту аванс за счет авторских отчислений. На более поздних этапах издательства должны инвестировать в производство книги: оплачивать счета технических редакторов, наборщиков, дизайнеров, печатников и т. д., создавать запасы, которые могут как продаться, так и не продаться, и инвестировать в маркетинг и продвижение книги. Чем больше финансовые резервы издательства, тем больше преимуществ они дают в высококонкурентной игре приобретения интеллектуального контента, тем больше издательства могут инвестировать в маркетинг и продвижение и тем больше они способны распределять риски книгоиздания путем инвестирования в большее количество проектов в надежде, что некоторые из них принесут плоды.
Также легко понять, зачем издательствам человеческий капитал: как и прочие организации, издательские фирмы хороши настолько, насколько хороши их сотрудники. Высококвалифицированная и высокомотивированная рабочая сила – жизненно важный ресурс для издательской фирмы и во многих отношениях ключ к ее успеху. Это верно для всех уровней, но в особенности для уровня редакторского персонала, так как это творческое ядро издательской фирмы. Принципиальным условием успеха фирмы является способность привлекать и удерживать высокомотивированных редакторов, умеющих обнаруживать и приобретать новые проекты, обещающие стать успешными, и эффективно работать с авторами, максимизируя потенциал этих проектов. В высококонкурентном поле массового книгоиздания редактор хорош лишь в той мере, в какой хорош список приобретенных и опубликованных им за предыдущие годы книг: этот список и есть его резюме. Редакторы, которые обладают надлежащим сочетанием способности суждения, вкуса, социальных навыков и финансовой рассудительности, составляют ценный актив, и их способность находить успешные книги становится жизненно важной для общего успеха фирмы. Другая часть этого уравнения состоит в том, что редакторы, сильно переплачивающие за провальные книги или покупающие не оправдывающие ожиданий книги, иногда начинают считаться скорее пассивом, чем активом, и могут обнаруживать, что их суждения ставят под сомнение, что им угрожает увольнение и что их карьера находится под угрозой.
Однако даже лучшие редакторы не работают в одиночку: им нужны хорошие контакты. Большую часть своего времени они тратят на налаживание отношений с агентами, от которых они во многом и все сильнее зависят в том, что касается запуска новых книжных проектов: пресловутый ланч с издателем – не просто приятный бонус работы, а необходимое условие ее эффективного выполнения, именно потому, что в этом поле сети и отношения – то есть социальный капитал – имеют решающее значение. Отношения важны и в других сферах данного бизнеса. Издательства инвестируют время и силы в установление тесных связей с поставщиками и розничными торговцами и предпринимают множество усилий, чтобы выстроить и сохранить эти связи, поскольку они принципиально важны для успеха. И чем крупнее издательства, тем больше у них возможностей просить своих деловых партнеров об одолжении – например, попросить печатника сделать важную допечатку вне очереди и доставить допечатанный тираж в течение трех-четырех дней или позвонить менеджеру по продуктам крупного розничного магазина и попросить его обратить особое внимание на книгу, на которую издательство делает большую ставку.
У издательств есть и другой ресурс, который принципиально важен для их успеха: интеллектуальный капитал (или то, что часто называют интеллектуальной собственностью). Отличительная особенность издательской фирмы заключается в том, что она обладает правом использовать и извлекать прибыль из интеллектуального контента, «публикуя» или делая доступным этот продукт в формах, которые приносят доход. Это право регулируется договорами, которые она подписывает с авторами или агентами и другими институтами, контролирующими контент, например с зарубежными издательствами. Запас договоров издательства представляет собой чрезвычайно ценный ресурс, поскольку он закрепляет юридические права на контент (или потенциальный контент), из которых издательство может извлекать доход. Но точная ценность этого ресурса зависит от множества вещей. Стоимость договора на конкретную книгу зависит, например, от того, будет ли книга написана и предоставлена в течение нужного периода времени, насколько прибыльной она будет (то есть какой поток доходов минус затраты, включая авансы, она, скорее всего, будет генерировать) и какие территориальные и производные издательские права с ней связаны (например, можно ли ее издавать где угодно в мире на любом языке или только в Северной Америке). Запас договоров издательства представляет собой совокупность его прав в отношении интеллектуального контента, которые оно стремится приобретать и из которых пытается извлекать доход. Договор может быть ценным ресурсом, но может оказаться и обузой, в том смысле, что обяжет издательство выпустить книгу, которая, учитывая сумму аванса и другие расходы, понесенные при производстве и маркетинге книги, может оказаться убыточным, а не прибыльным проектом.
Зачем издательствам экономический, человеческий, социальный и интеллектуальный капитал – понять легко, но зачем им символический капитал? Символический капитал лучше всего рассматривать как накопленный престиж, признание и уважение, выражаемое в отношении определенных индивидов или институтов[3]. Это один из тех нематериальных активов, которые чрезвычайно важны для издательских фирм, поскольку издательства – это не только работодатели и те, кто берет на себя финансовые риски, но также культурные посредники и судьи качества и вкуса. Название издательства – это «бренд», знак отличия в высококонкурентном поле. Издательства стремятся накапливать символический капитал так же, как они стремятся накапливать экономический капитал. Это важно для них отчасти потому, что это имеет значение для их имиджа, для того, как они воспринимают себя и как они хотят, чтобы их воспринимали другие: большинство издательств воспринимают себя (и хотят, чтобы другие воспринимали их) как организации, которые публикуют «качественные» произведения, как бы ни определялась их «качественность» (есть много способов). Ни один крупный издатель не согласился бы с тем, что его единственная цель в жизни – публиковать ерунду (даже если он готов признать, как делают некоторые, что ему приходится публиковать ерунду, чтобы заниматься другими вещами). Но это также важно для издательств по веским организационным и финансовым причинам. Так они усиливают свои позиции в борьбе за приобретение нового контента, поскольку символический капитал делает их организацию более привлекательной в глазах авторов и литературных агентов: многие авторы хотят публиковаться в издательствах, которые хорошо зарекомендовали себя в определенном жанре литературы, будь то детективы, биографии или исторические книги. Это укрепляет их положение в сетях культурных посредников, включающих книготорговцев, рецензентов и представителей медиа, чьи решения и действия могут оказывать большое влияние на успех или неуспех конкретных книг. Агенты, розничные продавцы и даже читатели больше склонны доверять издательству, которое известно качеством и надежностью. И это может напрямую конвертироваться в финансовую успешность: книга, получившая крупную литературную премию, очень часто демонстрирует резкий рост продаж и может даже влиять на продажи других книг того же автора.
Хотя символический капитал имеет большое значение для издательских фирм, также важно понимать, что другие игроки в поле, включая литературных агентов и авторов, могут накапливать и накапливают собственный символический капитал. Авторы могут сами становиться брендами – большинство известных авторов, таких как Стивен Кинг, Джон Гришэм, Джеймс Паттерсон, Патрисия Корнуэлл и т. д., превратили свое имя в бренд. Они приобрели значительные объемы символического капитала и могут использовать их в своих интересах. На ранних этапах их писательской карьеры издательская фирма, возможно, вкладывается в создание их бренда, но по мере того, как они становятся более известными и складывается фанатская база постоянных читателей, бренд автора отделяется от бренда издательства и начинает все меньше зависеть от него. Это усиливает их позицию или позицию их агентов при обсуждении условий договоров с издательствами и гарантирует, что их новые книги, независимо от того, кто их публикует, будут занимать хорошие позиции в каналах распространения и сетях признания.
Все пять форм капитала принципиально важны для успеха издательской фирмы, но структура издательского поля определяется прежде всего неравномерным распределением экономического и символического капитала, поскольку именно эти формы капитала оказывают основное влияние на конкурентную позицию фирмы. Издательства со значительными запасами экономического и символического капитала, как правило, занимают сильную позицию в поле, могут эффективно конкурировать с другими и устраняют угрозы со стороны конкурентов, тогда как фирмы с небольшими запасами экономического и символического капитала находятся в более уязвимой позиции. Это не означает, что менее обеспеченным фирмам обязательно будет трудно выжить – напротив, поле книгоиздания представляет собой чрезвычайно сложную область, и есть много способов, с помощью которых более мелкие фирмы могут эффективно конкурировать, обгоняя более крупных игроков или находя специализированные ниши, в которых могут процветать. Кроме того, важно понимать, что экономический капитал и символический капитал не обязательно находятся на одном уровне: фирма с небольшими запасами экономического капитала может преуспеть в накоплении значительных запасов символического капитала в тех областях, где она активна, зарабатывая репутацию, которая намного превосходит ее чисто экономическую силу, – иными словами, она может занять место, которое ей не по рангу. Накопление символического капитала зависит от процессов, которые по своей природе сильно отличаются от тех, что приводят к накоплению экономического капитала, и обладание большим количеством первого не обязательно предполагает обладание большими количествами второго.
Важность экономического и символического капитала в поле массового книгоиздания можно рассмотреть и под другим углом. Среди большинства издательств, выпускающих литературу для массового читателя, «ценность» книги или книжного проекта определяется одним из двух способов: ее реальными или потенциальными продажами, то есть ее способностью генерировать экономический капитал, либо ее качеством, которое может пониматься по-разному, но включает в себя способность получения различных форм признания, например премий и хвалебных рецензий, то есть, иными словами, способность генерировать символический капитал. Есть лишь два этих критерия – других попросту не существует. Иногда эти критерии взаимосвязаны, например в тех случаях, когда произведение, получившее высокую оценку за качество, также хорошо продается, но чаще всего связи между этими критериями нет. Тем не менее редактор или издатель могут ценить произведение, поскольку считают его хорошим, хотя знают или подозревают, что продажи будут в лучшем случае скромными. Оба критерия важны для всех издательств в данном поле, но их относительная важность по-разному оценивается разными редакторами, импринтами или издательствами и в разных секторах поля. В крупных издательских корпорациях нередко некоторые входящие в них импринты считаются «коммерческими» по своему характеру, то есть ориентированными в первую очередь на продажи и накопление экономического капитала, в то время как другие считаются «литературными», и в их случае, хотя продажи тоже важны, получение литературных премий и увеличение символического веса являются самостоятельными легитимными целями.
Как и другие поля деятельности, издательское поле – чрезвычайно конкурентная область, характеризующаяся высокой степенью соперничества между организациями. Фирмы используют свои накопленные ресурсы, чтобы приобретать конкурентные преимущества перед соперниками – подписывать контракты с авторами бестселлеров, привлекать наибольшее внимание медиа и т. д. Сотрудники любого издательства все время оглядываются на то, что делают их конкуренты. Они постоянно изучают списки бестселлеров и самых успешных книг своих конкурентов, чтобы найти подсказки относительно того, как им развивать свои издательские программы. Подобная форма межорганизационного соперничества часто приводит к гомогенности или изданию книг по принципу «я тоже» среди фирм, которые конкурируют в одной области, – одна успешная «книга для женщин» порождает десяток подобных ей. Но она также вызывает сильное желание найти следующую большую вещь, поскольку фирмы постоянно стремятся превзойти своих конкурентов, первыми разглядев новую тенденцию.
Хотя многие поля деятельности чрезвычайно конкурентны, конкурентная структура издательского поля имеет некоторые особенности. С точки зрения конкурентной позиции большинство издательств – организации с двумя лицами: они должны конкурировать как на рынке контента, так и на рынке клиентов. Они должны конкурировать на рынке контента, поскольку большинство издательских организаций не создает свой контент или не владеет им. Они должны приобретать контент, вступая в договорные отношения с авторами или их агентами, а это заставляет их конкурировать с другими издательствами, которые хотят приобрести тот же самый или похожий контент. Редакторы и издатели прилагают множество усилий для налаживания отношений с агентами и другими игроками, которые контролируют доступ к контенту. Но точно так же, как издательствам приходится конкурировать за контент, им приходится конкурировать за время, внимание и деньги розничных магазинов и покупателей после выхода книги. Рынок книг переполнен – и становится все более переполненным, так как число издаваемых книг с каждым годом увеличивается. Сотрудники, отвечающие за маркетинг и продажи, тратят огромное количество времени и усилий, пытаясь сделать так, чтобы их книги отличались от остальных и не терялись в лавине новых книг, появляющихся каждый сезон. Финансовые ресурсы фирм, социальные навыки и сети их сотрудников, а также накопленный символический капитал издательства и автора – важные факторы, определяющие, насколько их книги будут заметны в условиях высококонкурентного и все более насыщенного книжного рынка.
Я указал три причины, по которым понятие поля полезно для понимания книгоиздательского мира, но есть и четвертая, на мой взгляд самая важная. Я полагаю, что у каждого поля книгоиздания своя особая динамика – то, что я называю «логикой поля». Логика издательского поля – это совокупность факторов, определяющих условия, при которых индивидуальные агенты и организации могут входить в поле, то есть такие условия, при которых они могут играть в игру (и играть в нее успешно). Индивиды, действующие в определенном поле, обладают практическим знанием его логики: они знают, как играть в игру, и у них могут быть представления о том, как меняются ее правила. Возможно, они не могут четко и кратко объяснить логику поля или привести простую формулу, которая его суммирует, но они могут очень подробно рассказать, каково было поле, когда они впервые попали в него, каково оно сейчас и как оно менялось с течением времени. Если использовать другую метафору, логика поля подобна грамматике языка: люди знают, как правильно говорить, и в этом смысле у них есть практическое знание правил грамматики, но они могут быть неспособны сформулировать эти правила в явной форме – не могут сказать, например, каково правило для использования сослагательного наклонения в английском языке. Как сказал бы Витгенштейн, их знание языка заключается в том, что они знают, как его использовать, знают, как говорить. Часть моей работы как аналитика мира книгоиздания состоит в том, чтобы выслушивать и осмыслять практические описания агентов, действующих в данном поле, сопоставлять эти описания с позициями агентов в нем и выявлять тем самым логику поля, то есть формулировать ее более явно и систематически, чем это делают сами агенты в своих практических описаниях.
Предметом моего внимания в настоящей книге будет массовое англоязычное книгоиздание, то есть сектор издательской индустрии, который занимается выпуском как художественной, так и нехудожественной литературы для широкого круга читателей, продаваемой в основном через книжные магазины и другие торговые точки. Я не буду рассматривать другие поля книгоиздания, например академические издательства или издательства профессиональной литературы; эти поля организованы совсем иначе, и нет никаких оснований полагать, что факторы, которые определяют деятельность издательств массовой литературы, идентичны факторам, которые определяют деятельность издательств в других полях[4]. Я также буду ограничиваться английским языком, что на практике означает – США и Великобританией[5], просто потому, что издательские поля, как и все культурные поля, имеют лингвистические и пространственные границы, и нет никаких оснований полагать, что динамика массового книгоиздания на английском языке будет такой же, как на испанском, французском, немецком, китайском, корейском или любом другом. На самом деле динамика массового книгоиздания на других языках в некоторых отношениях различна. Существуют даже важные различия между США и Великобританией, но все же структурное сходство в том, как устроено массовое книгоиздание в Великобритании и США, настолько велико, что есть смысл рассматривать британские и американские издательства, выпускающие массовую литературу, как относящиеся к одному англо-американскому полю.
То, что англо-американская издательская индустрия сегодня доминирует на международной арене массового книгоиздания, не случайно: это следствие длительного исторического процесса, начавшегося в XIX веке и даже раньше, в результате чего английский язык стал де-факто общемировым и дал англо-американским издательствам огромное конкурентное преимущество по сравнению с их коллегами, выпускающими книги на других языках и вынужденными действовать в гораздо более узких и ограниченных полях[6]. Сегодня США и Великобритания публикуют гораздо больше новых книг, чем другие страны, и их книжный экспорт, измеряемый объемом продаж, намного выше[7]. Кроме того, на рынке переводов, как правило, доминируют книги и авторы, изначально опубликованные на английском языке. Переводы с английского часто появляются в списках бестселлеров в Европе, Латинской Америке и прочих частях мира, тогда как переводы с других языков редко появляются в списках бестселлеров в Великобритании и США. На международном рынке книг большую часть потока переводов и бестселлеров составляют книги и авторы из англоязычного мира[8].
Есть ли в поле англо-американского массового книгоиздания логика, и если да, то какова она? На этот вопрос и призвана ответить настоящая книга. Кто-то может усомниться в том, что в мире массового книгоиздания вообще есть какая-то логика; это, скажут они, лишь сложная сфера деятельности, в которой множество разных агентов и организаций занимаются множеством разных вещей, и любая попытка свести эту сложность к базовой логике поля будет неизбежно вводить в заблуждение. Что ж, посмотрим; может быть, они правы, может быть, нет. Социальный мир запутан, но не совсем беспорядочен. Я поставил перед собой цель понять, можно ли найти какой-то порядок в изобилии деталей, составляющих разнообразные практики повседневной жизни. Конечно, я не буду пытаться пересказать все детали – нет ничего более утомительного для читателя – и не буду претендовать на то, что способен объяснить все, что происходит в данном поле. Всегда есть исключительные события, исключительные акторы и исключительные обстоятельства, но исключения не должны мешать нам видеть правила. В нашей истории некоторые акторы и некоторые детали будут играть более заметную роль, чем другие, но я не буду просить за это прощения. Обнаружение порядка предполагает выдвижение на первый план определенных деталей, придание большего значения одним акторам и событиям, а не другим, именно потому, что они лучше остальных говорят о базовой структуре и динамике поля[9].
Издательская цепочка
Помимо понятия поля, есть еще одно понятие (или набор понятий), которое нам необходимо для понимания мира массового книгоиздания, – издательская цепочка. Издательство – лишь один из игроков в поле, и то, как издательства связаны с другими игроками, определяется цепочкой действий, в которой разные агенты или организации выполняют разные роли, ориентированные на общую цель – производство, продажу и распространение культурного товара под названием «книга».
Издательская цепочка является одновременно цепочкой поставок и цепочкой создания ценности. Это цепочка поставок в том смысле, что она обеспечивает ряд организационных связей, посредством которых конкретный продукт – книга – постепенно создается и передается через дистрибьюторов и розничных продавцов конечному пользователю, который его покупает. На рисунке 2 представлено простое изображение цепочки поставок книг. Основные этапы в цепочке поставок книг таковы. Автор создает контент и передает его издательству; в массовом книгоиздании этот процесс обычно опосредуется агентом, который действует как фильтр, отсеивающий материал и направляющий его подходящим издательствам. Издательство покупает пакет прав у агента и затем выполняет ряд функций – вычитка, редактирование и т. д., – прежде чем отправить окончательный текст или файл в типографию, которая печатает и переплетает его и доставляет дистрибьютору, который может принадлежать издательству или быть третьей стороной. Дистрибьютор хранит товар на складе и выполняет заказы как от розничных, так и от оптовых продавцов, которые, в свою очередь, продают книги или выполняют заказы других лиц – индивидуальных потребителей в случае розничных продавцов либо розничных продавцов и других институтов (например, библиотек) в случае оптовых продавцов. Клиентами издательства являются не индивидуальные потребители или библиотеки, а скорее посреднические институты в цепочке поставок, то есть оптовые и розничные продавцы. Большинство читателей контактируют с цепочкой поставок книг, только когда заходят в книжный магазин, чтобы посмотреть или купить книги, либо когда просматривают информацию о книгах в интернете, либо когда берут книги в библиотеке. По большей части они не вступают в прямые контакты с издательствами и знают о них очень мало; их основной предмет интереса – книга и автор, а не издательство.
Рис. 2. Цепочка поставок книг
Издательская цепочка также представляет собой цепочку создания ценности в том смысле, что каждое из ее звеньев должно добавлять определенную «ценность» в процесс. Это более сложное понятие, чем может показаться на первый взгляд, но общая идея достаточно проста: каждое из звеньев выполняет задачу или функцию, которая вносит существенный вклад в общую задачу создания книги и ее доставки конечному пользователю, и за этот вклад издательство (или другой агент или организация в цепочке) готово платить. Другими словами, каждое из звеньев «добавляет ценность». Если задача или функция не вносит ничего существенного или если издательство (или другой агент) считает, что добавляемой ею ценности недостаточно, чтобы оправдать расходы, тогда издательство (или другой агент) может убрать звено из цепочки, то есть «сократить число посредников». Технологические изменения тоже могут менять функции, выполняемые определенными звеньями в цепочке. Например, функции наборщика радикально изменились с появлением компьютеров, и некоторые наборщики попытались закрепить за собой новые функции, такие как разметка текста при помощи специализированных языков вроде XML, для защиты (или изменения) своей позиции в цепочке создания ценности.
Рис. 3. Издательская цепочка создания ценности
На рисунке 3 обобщены основные задачи или функции в издательской цепочке. Эта схема более сложна, чем рисунок 2, поскольку каждая организация в цепочке поставок может выполнять несколько функций (агенты или организации, которые обычно выполняют различные задачи или функции, указаны в скобках).
Исходной точкой в цепочке создания ценности является создание, выбор и приобретение контента – область, в которой взаимодействуют авторы, агенты и издательства. Это взаимодействие гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Иногда это простой линейный процесс: автор пишет текст и передает его агенту, который берет его в работу и затем продает издательству. Но часто все намного сложнее, чем в таком простом линейном процессе: агент, зная, чтó ищут издательства, часто тесно работает со своими клиентами, помогая им доводить их книжные проекты до нужной формы, особенно в области нехудожественной литературы; черновики книг могут неоднократно переписываться, прежде чем агент захочет их отправить; у издательства порой бывает идея для книги, которую оно может заказать автору, и т. д. Литературных агентов и издательства вполне можно мыслить как «привратников» идей, отбирающих перспективные, на их взгляд, книжные проекты из большого числа предложений и рукописей, поступающих к ним «самотеком» от начинающих авторов, и отклоняющих неподходящие[10]. Но даже в мире массового книгоиздания, который, вероятно, соответствует этой модели больше, чем другие сектора издательской индустрии, понятие привратника чрезмерно упрощает сложные формы взаимодействия и переговоров между авторами, агентами и издательствами, из которых состоит творческий процесс.
В массовом книгоиздании как агенты, так и издательства производят отбор контента, работают с авторами над его созданием и осуществляют определенный контроль качества. Принципиальное различие между агентом и издательством состоит в том, что они сидят по разные стороны стола на рынке контента: агент представляет интересы автора и отбирает и дорабатывает контент с целью его продажи (или, более точно, продажи пакета прав на его использование), тогда как издательство отбирает контент с целью его покупки (или покупки пакета прав), а затем улучшает его для публикации. Доработка контента обычно заключается в вычитке чернового материала и его редактировании (иногда несколько раз); она также может включать поиск изображений, разрешение вопросов с авторскими правами и различные виды контроля качества. Многие другие функции в издательской цепочке, такие как техническая редактура, верстка и дизайн обложки, корректура и составление указателей, выполняются либо специальными сотрудниками в издательстве, либо внешними исполнителями. Практически все издательства сегодня отдают верстку, печать и переплет книг на сторону, специализированным фирмам, занимающимся версткой, и типографиям. Большинство издательств оставляет за собой продажи и маркетинг, хотя некоторые небольшие издательства могут покупать услуги по продажам и распространению у специализированных фирм или у других издательств, которые работают со сторонними клиентами. Торговые представители продают книги книготорговцам, розничным продавцам и оптовым продавцам (многие мелкие книготорговцы закупают книги у оптовиков), а книготорговцы и розничные продавцы хранят, выставляют и продают книги индивидуальным потребителям/читателям. Книги поставляются книготорговцам, розничным продавцам и оптовым продавцам на условиях продажи или возврата, так что непроданные запасы могут возвращаться издательству[11]. Издательство использует целый ряд маркетинговых и информационных стратегий, от рекламы и авторских туров до выступлений авторов на радио и телевидении и рецензий в общенациональной прессе, чтобы привлечь внимание читателей и подтолкнуть продажи (или «распродать» запас) в книжных магазинах, поскольку это единственный способ сделать так, чтобы книги, которые были теоретически «проданы» розничной сети, не возвращались издательству.
Каждая задача или функция в издательской цепочке существует в значительной степени благодаря тому, что вносит определенный вклад, разной степени важности, в общую цель производства и продажи книг. Некоторые из этих задач (дизайн, техническая редактура, верстка и т. д.) могут решаться в одной издательской организации, хотя издательство может разделять функции и передавать их на сторону для сокращения затрат и повышения эффективности. Другие задачи связаны с очень специфичными формами деятельности и исторически имеют более четкую институциональную дифференциацию. Эта дифференциация может характеризоваться, с одной стороны, гармоничными связями между вовлеченными агентами и организациями, когда сотрудничество выгодно всем, а с другой – напряженностью и конфликтностью, поскольку их интересы не всегда совпадают. Кроме того, определенные позиции в цепочке не обязательно являются устойчивыми или постоянными. Изменения в рабочих практиках, экономические трансформации и технологический прогресс могут оказывать существенное влияние на издательскую цепочку, и тогда задачи, которые ранее были повсеместными или ключевыми, перестают иметь значение или исчезают.
Рис. 4. Ключевые функции издательства
Поскольку издательская цепочка не является жесткой и конкретные задачи или функции могут исчезать в результате экономических и технологических преобразований, не делает ли это роль непосредственно издательства излишней? Каковы основные виды деятельности или функции издательства? Могут ли новые технологии сделать его деятельность ненужной и может ли кто-то другой заменить его? Можно ли устранить издательства из издательской цепочки? В последние годы эти вопросы поднимались довольно часто. В эпоху, когда любой может публиковать текст в интернете, кому еще нужны издательства? Но эти вопросы сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и для правильного ответа на них необходимо более тщательно проанализировать ключевые функции, традиционно выполняемые издательствами, и отделить их от других видов деятельности, которые могут быть переданы сторонним организациям или специализированным фирмам. На рисунке 4 показаны шесть ключевых функций издательства – выполняя именно эти задачи или функции, издательство традиционно вносит свой особый вклад в процесс создания ценности.
Как издательства добавляют ценность
Первая функция – приобретение контента и составление портфеля. Это во многом ключевая функция издательства – приобретать и помогать создавать контент, который будет превращаться в книги, составляющие портфель издательства. Издательство действует не просто как фильтр или привратник, но во многих случаях активно помогает создавать или задумывать проекты либо видит потенциал идеи и помогает автору ее реализовать. Некоторые из лучших издательств способны придумывать идеи книг и находить подходящих авторов для их написания, превращать зачаточные идеи в умах авторов в нечто конкретное или просто замечать потенциал там, где другие видят лишь мусор. Это требует настоящего умения, в котором соединяются интеллектуальная креативность и маркетинговая хватка и которое отличает выдающихся редакторов и издателей от заурядных.
Вторая функция – финансовые инвестиции и риски. Издательство выступает в роли банкира, который с самого начала предоставляет ресурсы как для выплаты авансов авторам и агентам, так и для покрытия расходов на приобретение, доработку и производство. В издательской цепочке в конечном счете только издательство берет на себя реальные финансовые риски – всем остальным платят (при условии, что автор получил аванс за счет авторских отчислений и что издательство оплатило счета). Если книга не продается, именно издательство уценяет нераспроданный запас и списывает неокупившийся аванс. В книгоиздательской цепочке издательство является кредитором последней инстанции.
Третья и четвертая функции – доработка контента и контроль качества. В некоторых случаях автор предоставляет превосходный контент, требующий очень небольшого вклада со стороны издательства, но во многих областях книгоиздания это скорее исключение, чем правило. Черновые рукописи обычно переписываются и дорабатываются с учетом комментариев от редакторов и других лиц. Ответственность за оценку качества текста и обеспечение его соответствия определенным стандартам также лежит на издательстве. Эти стандарты, конечно, будут различаться в разных издательствах, которые могут использовать разные процедуры оценки, начиная с оценки штатными редакторами и заканчивая оценкой одного или нескольких внешних читателей – специалистов в данной области (хотя в массовом книгоиздании последнее редкость). Контроль качества важен для издательств, поскольку это одно из ключевых средств, с помощью которых они могут строить свой особый профиль и бренд в издательском поле и тем самым отличать себя от других издательств.
Пятую функцию можно условно назвать управлением и координацией. Этот ярлык описывает ряд менеджерских действий, которые являются неотъемлемой частью издательского процесса, от управления конкретными проектами, которые могут быть исключительно сложными, до управления определенными видами деятельности или фазами в жизненном цикле книги. Например, даже если техническая редактура отдается фрилансерам, последним необходимо передать произведение и инструкции, согласовать с ними условия работы и заплатить им, и все это требует от менеджеров времени и опыта; часто этим занимается специальный редактор отдела рукописей или выпускающий редактор. Точно так же, даже несмотря на то что верстка, дизайн и печать могут отдаваться на аутсорсинг специализированным фирмам, кто-то должен управлять всем производственным процессом, начиная с технической редактуры рукописи и заканчивая переплетом книги; обычно это делается в самом издательстве руководителем производства или контролером. Необходимо решить, каковы будут цена и тираж, а затем нужно управлять запасами на протяжении всего жизненного цикла книги. Авторскими правами тоже следует управлять посредством продажи производных издательских прав (переводы, допечатки, серийные издания и т. д.). Все эти действия требуют значительного количества времени и опыта руководства, и в большинстве случаев ими занимаются штатные менеджеры, которые отвечают за конкретные участки производственного и издательского процесса.
Шестая и последняя функция – продажи и маркетинг. Я соединил эти виды деятельности, хотя на самом деле они очень различаются. Маркетинг предполагает информирование потенциальных покупателей о существовании книг и побуждение к их покупке. Сюда относится подготовка и почтовая рассылка каталога, реклама, прямая почтовая рассылка книг, рассылка экземпляров для рецензий и, в последнее время, различные виды электронного маркетинга. В большинстве издательств, выпускающих массовую литературу, также есть отдельный менеджер, отвечающий за информационное сопровождение, и/или отдел, задача которого состоит в налаживании связей с медиа и обеспечении освещения книг в них – начиная с рецензий, фрагментов и интервью в печатной прессе и заканчивая выступлениями на радио и телевидении, автограф-сессиями и авторскими турами. Маркетинг и информирование преследуют одну и ту же цель – сделать так, чтобы потребители/читатели узнали о книгах, и убедить их купить эти книги; единственная реальная разница состоит в том, что издательство платит за маркетинг, тогда как информирование, если оно происходит, бесплатно. Задача менеджера по продажам и отдела продаж состоит в том, чтобы связываться с ключевыми клиентами – к ним относятся книготорговые сети, независимые книготорговцы, онлайн-продавцы, оптовые продавцы и различные розничные продавцы, от супермаркетов до складских магазинов, – и сообщать им о предстоящих книгах, собирать заказы и управлять связями издательства с его ключевыми закупщиками, чтобы обеспечивать приобретение книг и их доступность для ознакомления и приобретения покупателями в книжных магазинах.
Все эти действия по продаже и маркетингу нужны не просто для поставки продукта на рынок и информирования розничных продавцов и потребителей о его доступности; у них более фундаментальная цель – создать рынок для книги. Книгоиздание в смысле обеспечения доступности книги для публики – легкое дело, особенно сегодня, когда размещение текста в интернете можно в некотором смысле считать его «публикацией». Но книгоиздание в смысле обеспечения знания публики о книге, ее заметности для покупателей и привлечения достаточного количества их внимания к ней, чтобы побудить их купить книгу и, возможно, даже прочитать ее, – очень сложное дело, особенно сегодня, когда потребители и читатели завалены контентом, объем которого может свести на нет даже самые решительные и хорошо финансируемые маркетинговые усилия. Хорошие издательства, как метко выразился один из бывших издателей, умеют создавать рынки в мире, в котором в дефиците не контент, а внимание.
Эти шесть ключевых функций издательства определяют основные аспекты «добавления ценности» издательскими фирмами. Будут ли эти функции всегда выполняться традиционными издательскими фирмами, или же в информационной среде, изменяющейся под влиянием цифровизации и интернета, по крайней мере некоторые из этих функций исчезнут, маргинализируются, трансформируются или будут переданы другим – это вопрос, на который в данный момент нет однозначного ответа. Но прежде чем рассуждать о неизбежном конце посреднической роли издательских фирм, стоит тщательно проанализировать, какие функции фактически выполняют издательства в культурной экономике книги, какие функции необходимо будет по-прежнему выполнять в будущем и, если они будут выполняться, кто и как будет это делать.
Что дальше
Решающее значение для понимания логики поля массового книгоиздания имеют три ключевые тенденции, которые будут предметом нашего внимания в первых трех главах: рост розничных сетей и в целом произошедшая в последние годы трансформация розничной среды книготорговли (глава 1), превращение литературного агента в ключевую фигуру в поле англоязычного массового книгоиздания (глава 2) и появление транснациональных издательских корпораций в результате последовательных волн слияний и поглощений, начавшихся в 1960‐е годы и продолжающихся до сих пор (глава 3). Я попытаюсь показать, что эти три ключевые тенденции создали определенным образом структурированное поле, которое определяет, как могут действовать агенты и организации, что имеет определенные последствия; эти последствия рассматриваются в главах 4–8. В целом этот анализ ключевых изменений и их последствий должен обнажить то, что я называю логикой поля англоязычного массового книгоиздания. В главе 9 я обсужу цифровую революцию и ее влияние на книгоиздательскую индустрию, а в главе 10 изложу более нормативные размышления о мире массового книгоиздания и его издержках. В заключительных комментариях я кратко остановлюсь на некоторых вызовах, с которыми сталкивается издательская индустрия на пороге второго десятилетия XXI века.
Создавая это описание современного мира массового книгоиздания в Великобритании и США, я в значительной степени полагаюсь на то понимание, которое сложилось у меня в результате интервью с участниками поля (более подробное обсуждение моих методов исследования можно найти в приложении 2). Я также опираюсь на данные, собранные Nielsen BookScan, Группой по изучению книжной индустрии (Book Industry Study Group, BISG), Subtext и другими организациями. Я использую чужие исследования и книги о книжном бизнесе, когда это целесообразно, но в целом, на мой взгляд, по разным причинам от них мало пользы. Исследование, проведенное Льюисом Козером, Чарльзом Кадушином и Уолтером Пауэллом, на которое я ссылался выше, остается лучшим из них и незаменимым ориентиром для всех, кто интересуется современной индустрией книгоиздания[12]. Но исследование, которое легло в основу их книги, было проведено более тридцати лет назад, в конце 1970‐х годов; с тех пор мир книгоиздания сильно изменился. Кроме того, это исследование было посвящено исключительно США, и поэтому в нем отсутствует более сравнительная и международная перспектива, к которой должно стремиться любое исследование креативных индустрий сегодня, в нашем все более глобализированном мире. Не случайно из пяти крупнейших издательств, являющихся сегодня ключевыми игроками в поле американского массового книгоиздания, четыре принадлежат крупным международным медиакорпорациям, которые владеют значительными активами в Великобритании, Европе и других частях мира.
Примерно тогда же, когда вышло исследование Козера и его коллег, Томас Уайтсайд опубликовал в журнале New Yorker серию статей, впоследствии изданных в виде книги, где предлагается критичный взгляд на мир нью-йоркского массового книгоиздания[13]. В это время – около 1980 года – поглощение множества издательств крупными корпорациями с разнообразными медиаактивами вызывало во многих кругах растущую обеспокоенность тем, что литературные ценности, ассоциирующиеся с этими издательствами, может затмить поиск нового типа легковесного, низкокачественного контента, одинаково подходящего как для телевизионных ток-шоу и киноиндустрии, так и для традиционных книг. Проницательный анализ Уайтсайда подкреплял эти опасения и выделял некоторые ключевые тенденции, которые в последующем оказались для отрасли определяющими. Но, как и в случае с работой Козера и его коллег, сегодня ценность исследования Уайтсайда ограничена как из‐за его давности, так и из‐за исключительного фокусирования на США. Кроме того, центральная линия его критики – тезис о том, что массовое книгоиздание становится частью бизнеса, ориентированного на киноиндустрию, в котором все больше заправляют голливудские киностудии, – теперь, в ретроспективе, выглядит преувеличением. Безусловно, связь с киноиндустрией может быть существенным элементом бизнеса в массовом книгоиздании и повышать продажи, но эта связь и продажа прав на экранизации оказались менее важными для издательств, выпускающих массовую литературу, чем полагал Уайтсайд. Другие аспекты нашей современной медиакультуры, такие как статус знаменитости и «известность», обусловленные видимостью и слышимостью в медиа, более важны для понимания мира массового книгоиздания, чем связи с голливудским кинобизнесом или то, что книги становятся «программным обеспечением» мультимедийных пакетов во все более интегрированном коммуникационно-развлекательном комплексе.
Помимо исследований Козера и его коллег и Уайтсайда, за последние десять-двадцать лет появилось множество других книг о современной издательской индустрии, написанных самими издателями. Пожалуй, в качестве наиболее интересных современных образцов этого жанра следует назвать книги Андре Шиффрина и Джейсона Эпштейна (соответственно «Бизнес на книгах» и «Книжный бизнес»)[14]. И Шиффрин, и Эпштейн были выдающимися издателями и редакторами в мире американского массового книгоиздания: Шиффрин много лет возглавлял издательство Panteon, пока не поссорился с его корпоративными владельцами и в 1989 году не вышел в отставку, создав свое собственное некоммерческое издательство The New Press, а Эпштейн много лет был главным редактором в Random House, став в результате долгой и блестящей карьеры одним из самых успешных американских редакторов. Их книги содержат множество глубоких размышлений о состоянии массового книгоиздания в Америке на рубеже тысячелетий; они на себе испытали серьезные изменения, которые произошли в отрасли после 1960–1970‐х годов, и их книги свидетельствуют о масштабах и последствиях этих изменений, как культурных, так и личных. Но составленные ими описания неразрывно связаны с их собственным опытом и карьерными траекториями. Это не беспристрастные отчеты о драматических изменениях, которые претерпевает индустрия, и они не претендуют на это: это мемуары с критическим уклоном. Это личные, иногда безапелляционные описания отрасли – изложенные изящно, насыщенные реальными ситуациями, с оттенком ностальгии – с точки зрения двух ее участников, которые прокладывали собственный путь в сложном и бурном мире книгоиздания. То, что главные герои добились такого успеха на своем пути и рассказали о нем столь красноречиво, свидетельствует об их замечательных талантах как издателей и авторов, но не отменяет того, что их описания по своей сути частичны. Эти книги представляют собой в той же мере симптомы и отражения меняющегося мира, в какой и его анализ.
Хотя эти и другие описания современной издательской индустрии многому меня научили, я попытался сделать то, чего ранее не делал никто. Если существующая литература, как правило, фокусируется на издательской индустрии в одной стране, чаще всего в США, то я в своем анализе постарался выстроить сравнительную и международную перспективу, сосредоточившись на поле англоязычного массового книгоиздания, которое шире американского массового книгоиздания и ýже книгоиздания (даже массового) как такового. Я положил в основу своего анализа подробное рассмотрение фактов и эмпирических тенденций, но не ограничился простым перечислением фактов и цифр. Предлагаемое описание является как аналитическим, так и нормативным: я попытался обнажить фундаментальную динамику, которая определяла эволюцию данного поля несколько последних десятилетий, и на основе этого анализа сформулировать критические соображения по поводу последствий этих изменений для нашей литературной и интеллектуальной культуры. Я постараюсь показать, что, поняв логику поля, мы сможем разобраться в действиях агентов и организаций в этом поле, которые в противном случае могут показаться эксцентричными, – в том числе понять поступок организации, которая решает выпустить небольшую книгу ранее почти неизвестного профессора информатики, прочитавшего вдохновляющую последнюю лекцию о том, как осуществить свои детские мечты.
1. Рост розничных сетей
Радикальная трансформация розничной торговли была одним из ключевых факторов, определявших эволюцию поля англоязычного массового книгоиздания после 1960‐х годов. В первой половине XX века книготорговлей в США и Великобритании занимались в основном множество мелких независимых книжных магазинов, разбросанных по всей стране, и различные розничные продавцы, не связанные с книгами, например аптеки, универмаги, разносчики газет и газетные киоски[15]. Книжные магазины обычно обслуживали образованных и просвещенных клиентов – так называемую «экипажную публику», – а розничные продавцы, не связанные с книгами и предлагавшие их вместе со многими другими товарами, обычно продавали книги более широкой публике. В США книги появились в универмагах в конце XIX века. Нью-йоркский Macy’s начал продавать книги в 1869 году и быстро стал одним из крупнейших книготорговцев в стране[16]. К 1951 году универмаги обеспечивали от 40 до 60% всех розничных продаж книг в США[17]. Книги были привлекательны для универмагов, потому что считались престижным и желанным товаром. Они соответствовали просвещенным вкусам состоятельных покупателей, добавляя магазину ауру серьезности и респектабельности и привлекая клиентов, у которых были деньги.
От магазинов в торговых центрах к суперсторам
Традиционные формы розничной торговли книгами – мелкие независимые книготорговцы, с одной стороны, универмаги и другие розничные продавцы, не связанные с книгами, с другой, – начали меняться в США в начале 1960‐х годов в результате увеличения числа торговых центров. Оно было вызвано глубоким демографическим сдвигом, который происходил в США в это время: средний класс переезжал из городских центров в пригороды, которыми начали стремительно обрастать американские города[18]. В результате миграции средних классов в пригороды и превращения автомобиля в основное транспортное средство пригородный торговый центр стал новым ядром американской розничной торговли. В 1962 году Walden Book Company, которая в течение многих лет управляла сетью платных библиотек на Восточном побережье, открыла свою первую точку в торговом центре в Питтсбурге. Четыре года спустя Dayton Hudson Corporation – компания, образованная в результате слияния двух универмагов на американском Среднем Западе, – открыла первый книжный магазин B. Dalton в пригородном торговом центре в Миннеаполисе. В 1969 году эта корпорация купила книжный магазин Pickwick в Голливуде вместе с другими торговыми точками Pickwick, и в 1972 году две компании слились, образовав B. Dalton Booksellers. К 1980 году в торговых центрах по всей территории США располагалось более 450 магазинов B. Dalton. Waldenbooks тоже быстро расширялись в 1960‐х и 1970‐х годах; к 1981 году у Waldenbooks было 750 точек, и они утверждали, что являются первым книготорговцем, имеющим книжные магазины во всех пятидесяти штатах.
Как оказалось, 1970‐е годы были периодом расцвета книжных магазинов в торговых центрах; в течение 1980‐х их постепенно вытеснили так называемые суперсторы, прежде всего сети Barnes & Noble и Borders. Barnes & Noble – старая книготорговая компания, ведущая начало от букинистического бизнеса Чарльза Монтгомери Барнса, открывшего свое дело в 1873 году в пригороде Чикаго, городе Уитоне, штат Иллинойс. Сын Барнса, Уильям, в 1917 году переехал в Нью-Йорк, где занялся оптовой продажей книг с Гилбертом Клиффордом Ноублом. Они поставляли учебники в школы, колледжи и библиотеки Нью-Йорка. Вначале Barnes & Noble был преимущественно оптовым предприятием, продававшим книги учебным заведениям, а не индивидуальным клиентам, но постепенно стал все больше заниматься розничными продажами, что привело к открытию большого книжного магазина на пересечении Пятой авеню и 18‐й улицы на Манхэттене; этому магазину предстояло стать флагманом компании. Однако в 1970‐е Barnes & Noble столкнулся с трудностями. Джон Барнс, внук основателя, умер в 1969 году, и бизнес был куплен Amtel, конгломератом, который производил игрушки, инструменты и прочие товары; торговля пошла на спад, и вскоре Amtel решил избавиться от своего нового приобретения. В 1971 году компания Barnes & Noble была куплена Леонардом Риджио, который открыл успешный студенческий книжный магазин, когда был студентом Нью-Йоркского университета в 1960‐х годах, и хотел заняться книготорговлей. Под управлением Риджио Barnes & Noble расширил свою деятельность в Нью-Йорке и Бостоне, открыв дополнительные магазины и приобретя пару местных сетей. В 1986 году Barnes & Noble приобрел сеть книжных магазинов B. Dalton у Dayton Hudson, а в 1989 году – сеть книжных магазинов Scribner’s и Bookstop/Bookstar – региональную сеть на юге и западе США. Эти приобретения превратили Barnes & Noble в общенационального продавца и одного из крупнейших книготорговцев в Америке.
Пока компания Barnes & Noble расширяла сеть своих книжных магазинов, двигаясь с Восточного побережья, Borders строил общенациональную сеть книжных магазинов, двигаясь со Среднего Запада. В 1971 году Том и Луи Бордерсы открыли небольшой букинистический магазин в Энн-Арборе, штат Мичиган; в 1975 году они переехали в более просторное здание, расширили бизнес и затем много лет успешно управляли им. В 1985 году они открыли второй книжный магазин в Детройте, чтобы посмотреть, удастся ли им повторить успех в менее академической среде. Успех магазина в Детройте побудил их открыть магазины в других городах на Среднем Западе и Северо-Востоке. В 1992 году Borders был куплен розничным гигантом Kmart, который в 1984 году приобрел сеть книжных магазинов Waldenbooks, располагавшихся в торговых центрах. Kmart объединил Borders с Waldenbooks и создал Borders Group, которая в 1995 году стала публичной компанией. К этому времени Borders Group и Barnes & Noble стали доминирующими сетями розничной книготорговли в США, и их продажи в пять-десять раз превышали продажи других общенациональных сетей, таких как Crown и Books-A-Million.
В течение 1990‐х годов Borders и Barnes & Noble быстро расширялись, стремясь усилить свое присутствие на всей территории США и укрепить позиции в качестве главных игроков в розничной книготорговле. В обоих случаях расширение основывалось на концепции «книжного суперстора», который в некоторых ключевых аспектах отличался как от магазинов в торговых центрах, так и от независимых магазинов. Книжные суперсторы, часто располагавшиеся в лучших городских районах, должны были быть привлекательными торговыми точками, в которые покупатели должны были приходить и проводить там время – это были чистые, просторные, удобные магазины с диванами, кафе и зонами для отдыха и чтения. Эти магазины были открыты каждый день, вплоть до ста часов в неделю; основной упор в них делался на обслуживание клиентов и привлекательную, приятную глазу обстановку. Эти две сети конкурировали друг с другом и с остальными сетями и независимыми книжными, предоставляя большие скидки (30–40%) на бестселлеры из фронт-листов[19] и умеренные скидки (10–20%) на другие книги в твердом переплете, а также предлагая широкий ассортимент и создавая большие запасы книг. Они ввели централизованный контроль закупок и запасов, что дало им серьезный инструмент влияния на поставщиков и позволило добиться значительной экономии за счет масштаба. Во многих случаях они продавали не только книги, но и такие товары, как журналы, музыкальные компакт-диски, компьютерные игры и видео. Они хотели сделать процесс покупки книг простым, дружелюбным и приятным для людей, которые не привыкли ходить в традиционные книжные магазины.
По мере усиления конкуренции между Barnes & Noble и Borders в начале 1990‐х годов обе компании начали закрывать магазины своих сетей B. Dalton и Walden в торговых центрах и открывать суперсторы. Например, в 1993–1994 годах Barnes & Noble закрыл 52 магазина B. Dalton, общее количество которых сократилось с 750 в 1993 году до 698 в 1994-м; в то же время он увеличил количество суперсторов с 200 до 268. За тот же период Borders закрыл 57 магазинов Walden, общее количество которых упало с 1159 до 1102, и почти вдвое увеличил количество суперсторов – с 44 до 85 (см. таблицу 1)[20]. Старые книжные магазины в торговых центрах постепенно уступали место книжным суперсторам.
К 2006 году Barnes & Noble управлял 723 книжными магазинами в США, включая 695 суперсторов и 98 магазинов в торговых центрах; общий объем продаж составлял около 4,8 миллиарда долларов[21]. Компания диверсифицировалась, начав заниматься розничными продажами видеоигр и компьютерных программ, и открыла множество магазинов по продаже видеоигр и развлекательного программного обеспечения под различными торговыми марками, включая Babbage’s, Funco и Software Etc. Она также начала заниматься книгоизданием, в 2003 году приобретя Sterling Publishing – издательство, выпускающее нехудожественную литературу и имеющее 5000 книг в продаже, – и начав издавать обширную линейку классических произведений под маркой Barnes & Noble. В 2009 году Barnes & Noble вышел на рынок электронных книг, выпустив собственное устройство для чтения электронных книг Nook и начав продавать электронные книги через свой веб-сайт.
* Расчетная оценка. Источник: Logos (1996).
Borders Group, общий объем продаж которой в 2006 году составил около 4,1 миллиарда долларов, была в то время второй по величине сетью розничной книготорговли в США, управляя 1063 книжными магазинами в США, включая 499 суперсторов под торговой маркой Borders и 564 магазина под именем Waldenbooks в торговых центрах. Компания Borders также расширялась в международном масштабе, открыв ряд магазинов Borders за пределами США (в основном в Великобритании и в странах Тихоокеанского региона) и приобретя в 1997 году в Великобритании сеть Books Etc. Но в начале 2000‐х годов магазины за границей начали сталкиваться с трудностями. В 2007 году британский бизнес, который к тому времени состоял из 42 суперсторов в Великобритании и Ирландии и 28 филиалов Books Etc., был продан группе прямого инвестирования Risk Capital Partners за скромную начальную сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Он был выкуплен руководством в июле 2009 года и перешел в управление в ноябре 2009 года. 22 декабря 2009 года все 45 магазинов Borders в Великобритании были закрыты. В США дела Borders тоже пошли вниз; последняя зафиксированная прибыль была в 2006 году, и с тех пор годовой объем продаж падал, а убытки росли. В феврале 2011 года Borders объявил, что подал заявку на защиту от банкротства по главе 11[22], и к сентябрю все оставшиеся магазины Borders были закрыты.
Банкротство Borders ознаменовало конец эпохи, в том смысле, что давнее соперничество между Barnes & Noble и Borders, которое побудило двух гигантов розничной книготорговли развернуть сеть суперсторов по всей Америке, теперь осталось в прошлом. Но глубокие изменения, происходящие сегодня на рынке розничной торговли, сулят большие проблемы для Barnes & Noble и оставшихся более мелких розничных сетей. Физические книжные магазины уже давно сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны интернет-магазинов, таких как Amazon, и магазинов смешанного ассортимента (подробнее см. ниже); сейчас все более реальной становится угроза того, что все больше наименований будут реализовываться в виде электронных книг, которые проходят совершенно мимо физических книжных магазинов. Общий доход от книжных магазинов Barnes & Noble снижается с 2007 года. Barnes & Noble – значительный игрок на рынке электронных книг, но существенно уступает Amazon по доле рынка, и неясно, сможет ли рост доходов от продаж электронных книг компенсировать снижение продаж в обычных книжных. Хотя Barnes & Noble перехватит часть продаж, которые раньше принадлежали бы Borders, вполне вероятно, что общая доля розничных продаж через суперсторы и магазины в торговых центрах – около 45% в 2006 году[23] —в ближайшие годы существенно снизится.
Безусловно, распространение общенациональных книготорговых сетей в 1990‐е и интенсивная конкуренция между ними значительно увеличили доступность книг для миллионов простых американцев. Люди, живущие в тех частях страны, которые до этого плохо обслуживались книжными магазинами, внезапно обнаружили, что теперь в нескольких минутах езды находятся два или более крупных книжных магазина, запасы которых во много раз превосходят запасы обычных книжных. Но такое радикальное преобразование розничного ландшафта имело свои издержки и последствия.
Самым заметным последствием – о котором много говорили и сожалели – было резкое снижение числа независимых книготорговцев. Хотя это снижение началось до появления суперсторов, оно, несомненно, ускорилось. В 1958 году независимые книготорговцы, владевшие одним магазином, продавали 72% массовой литературы в США; к 1980 году этот показатель сократился до 40% от общего объема продаж[24]. По мере того как в 1990‐е годы сети открывали новые суперсторы в городских агломерациях Америки, все большее число независимых книжных закрывалось из‐за двойного давления растущих накладных расходов (особенно расходов на недвижимость) и снижения доходов. Американская ассоциация книготорговцев (ААК), в которой состоят многие независимые книготорговцы, потеряла более половины своих членов в 1990‐х и в начале 2000‐х годов: их численность сократилась с 5100 в 1991 году до 1900 в 2004-м. Являются ли данные о членстве в ААК точным отражением фактического числа независимых книготорговцев в США – спорный вопрос[25], но никто не оспаривает того, что число независимых книготорговцев значительно сократилось и их доля на рынке снизилась. В 1993 году в США на сети приходилось около 23% розничных продаж; к концу десятилетия эта цифра превысила 50%. За этот же период рыночная доля независимых книготорговцев упала с 24% до примерно 16%. Это падение продолжилось в 2000‐х годах, и к 2006 году на независимые книжные магазины приходилось лишь около 13% розничных продаж в США[26].
Безусловно, сокращение числа независимых книготорговцев было отчасти вызвано хищнической экспансионистской активностью сетей – конечно, это был не единственный фактор, но было бы странно полагать, что он не сыграл никакой роли. Сети открыто ориентировались на агломерации или почтовые индексы, где демография была благоприятной для продажи книг, и это были те районы, в которых уже существовали независимые книготорговцы. Как только открывался суперстор с обширным ассортиментом и агрессивными скидками, маленькому независимому продавцу становилось очень трудно конкурировать. С другой стороны, многие закрывшиеся независимые книжные плохо вели дела и плохо обслуживали клиентов. В их магазинах царил беспорядок, запасы на складах отличались непостоянством, у них не было денег на счетах и они мало заботились о том, чтобы сделать покупку книг приятной потребителю и приносящей ему удовольствие. «Закрывались ли независимые книжные из‐за экспансии и хищнического поведения Barnes & Noble и Borders? Вне всяких сомнений, – сказал мне один из бывших сотрудников сети, который отвечал за поиск мест для новых суперсторов в начале 1990‐х годов. – Другая сторона истории состоит в том, что они закрылись, потому что в этом бизнесе больше нельзя было оставаться любителем. Поскольку книготорговля была благородной профессией, казалось, что между нами и остальной экономикой существует некая стена, но внезапно до людей дошло, что нужно знать, что ты делаешь». Выжившие независимые книготорговцы, как правило, хорошо вели дела и имели прочные связи с местными сообществами, проводя различные мероприятия; также им помогали наличие собственной недвижимости или защищенность правилами районирования, которые ограничивали деятельность сетей. К 2007 году в США осталось примерно 400 независимых книготорговцев, с которыми работали издательства массовой литературы. Но к этому времени сокращение числа независимых книжных прекратилось, поскольку оставшимся удалось выработать стратегию, которая позволяла им выживать в условиях интенсивной конкуренции со стороны сетей и других торговых точек. А для некоторых категорий книг их роль была и по-прежнему остается более значительной, чем можно судить по их количеству и размеру, оцениваемому лишь по доходам и доле в розничных продажах.
Долгое десятилетие борьбы между сетями и независимыми книжными закончилось, несомненно, победой сетей, но в процессе происходили различные мелкие столкновения, которые приносили значительные выгоды независимым книготорговцам. Самым важным из них была, безусловно, серия исков, поданных против сетей и крупных издательств ассоциациями независимых книготорговцев, которые утверждали, что издательства предоставляют льготные условия и скидки сетям в нарушение федерального антимонопольного законодательства. Выдвигая обвинения против издательств и сетей, независимые книготорговцы апеллировали к федеральному закону под названием «закон Робинсона – Патмана», который был принят в 1936 году для сдерживания антиконкурентных практик производителей, продающих сетевым магазинам товары по более низким ценам, чем другим розничным торговцам. Закон запрещает ценовую дискриминацию при продаже товаров розничным торговцам, находящимся в равных условиях, если это приводит к снижению конкуренции. После иска, поданного в 1982 году Ассоциацией книготорговцев Северной Калифорнии против издательств Avon и Bantam, выпускавших книги в мягкой обложке, и начáла расследования Федеральной торговой комиссии в 1988 году, Американская ассоциация книготорговцев подала в 1994 году иск против пяти издательств за дискриминационные практики, дававшие преимущество сетям[27]. К осени 1996 года все издательства заключили мировые соглашения, не признав нарушений, но согласившись соблюдать правила, гарантирующие отсутствие дискриминации при ценообразовании, кредитовании и возвратах[28]. В марте 1998 года ААК подала еще один иск, на этот раз – против двух главных сетей, Barnes & Noble и Borders, обвинив их в нарушении закона Робинсона – Патмана и закона о недобросовестной торговой практике штата Калифорния (иск был подан в окружной суд США по Северной Калифорнии). Опять было заключено мировое соглашение; ни Barnes & Noble, ни Borders не признали никаких нарушений и согласились лишь выплатить ААК некую сумму – меньше, чем ассоциация потратила на оплату юридических услуг. Независимые книготорговцы потерпели поражение и согласились уничтожить все документы, полученные в ходе разбирательства, а также воздерживаться от любых дальнейших исков в течение трех лет[29]. Но результатом этой длительной юридической битвы стало появление гораздо более четкой и прозрачной системы скидок и совместной рекламы[30], а также острое осознание рисков, с которыми связано вмешательство в эту систему. Издательства сообщают о своих графиках скидок и условиях совместной рекламы, чтобы все розничные продавцы знали о них при покупке книг и составлении планов продвижения. В принципе, это выравнивает игровое поле, поскольку крупные сети не могут использовать свои масштабы, чтобы заставлять издательства предлагать более высокие скидки, хотя на практике, как мы увидим, не все так просто.
Вторым следствием роста розничных сетей стало постепенное изменение способов хранения и продажи книг. Это изменение началось с магазинов в торговых центрах в конце 1960‐х и начале 1970‐х годов и происходило одновременно с проникновением в книготорговлю методов продажи и управления запасами, которые использовались в других секторах розничной торговли. B. Dalton и Waldenbooks, розничные точки которых располагались в торговых центрах с большим потоком людей, должны были организовывать свои магазины таким образом, чтобы максимизировать товарооборот. Для стимулирования импульсивных покупок и приобретения нескольких книг за раз товар выставлялся на столах и в стойках. Были внедрены компьютеризированные системы управления запасами, позволявшие следить за объемом и оборотом хранящихся книг и быстро дозаказывать хорошо продающиеся наименования, а непродающиеся запасы возвращать. Эти практики розничной торговли были включены в принципы работы новых суперсторов, открывавшихся в 1990-е. Огромный размер суперсторов предоставил Barnes & Noble и Borders больше возможностей для увеличения ассортимента и объема запасов. Они могли хранить на складах более специализированные книги и медленнее продающуюся литературу, в отличие от магазинов в торговых центрах, которые из‐за гораздо меньшей площади не могли держать столько книг на своих полках, и это стало важным преимуществом суперсторов. Тем не менее суперсторы продолжали уделять большое внимание максимизации товарооборота в хорошо просматриваемом пространстве передней части магазина, где новые книги и бестселлеры выставлялись на столах и в стойках, а с издательств брали плату за выставочную площадь. Когда около 2000 года общенациональное разворачивание суперсторов прекратилось и сети стали более тщательно следить за тем, как связаны капиталовложения в запасы, накладные расходы и доходы, и больше беспокоиться о движении денежных средств, их решения о покупке книг стали более осторожными и они начали проявлять больше инициативы в отношении возврата медленно продаваемых запасов. Сетям удалось привести книжные магазины в торговые центры и центральные районы городов, где американцы совершают покупки; они сделали книги более доступными, чем когда-либо прежде, и превратили приобретение книг в такой же потребительский опыт, как и любой другой. Но чем больше книги воспринимались как простой товар и подчинялись тем же принципам розничной торговли, тем больше сетям приходилось фокусироваться на быстро продаваемых книгах известных авторов, отодвигая на задний план книги, которые увеличивают запасы и ассортимент магазина, но расходятся гораздо медленнее.
Этот неизбежный сдвиг во многом был следствием повышения цен на недвижимость. Содержание крупных книжных магазинов в торговых центрах и в центральных районах городов, где высок поток покупателей и, следовательно, высока конкуренция за торговые площади, – крайне дорогостоящее дело, и в такой низкомаржинальной деятельности, как книготорговля, покрыть эти расходы и получить прибыль трудно. Очень сложно сопротивляться давлению, вынуждающему сокращать капиталовложения в медленно продающиеся запасы, сосредоточивать больше внимания на быстро продающихся бестселлерах и искать другие способы повышения маржи – например, взимать с издательств более высокую плату за выставочную площадь и закупать сопутствующие товары вроде шоколада и канцелярских принадлежностей, где маржа выше. Этот аспект хорошо объясняет Эпштейн: «В книжной торговле, как и в любом розничном бизнесе, товар и аренда сбалансированы. Чем больше вы платите за одно, тем меньше вы можете потратить на другое»[31]. Поэтому усиливающееся доминирование розничных книжных сетей, начиная с магазинов в торговых центрах и заканчивая суперсторами, постепенно выдвигало на первый план в индустрии быстро продаваемые новинки от авторов с хорошей историей продаж и узнаваемым именем. Сети обычно закупали такие книги в больших объемах и с большей вероятностью выставляли их на видных местах в передней части магазинов, тем самым увеличивая свои шансы на хорошие продажи. Книги менее известных авторов не игнорировались. Напротив, централизованные закупщики из сетей всегда стремились найти новых авторов и новые книги, которые могли бы понравиться их клиентам. Но решения о том, какие книги покупать, в каких количествах, как их продвигать и выставлять и как долго держать на полках, принимались в контекстах, которые определялись все более жесткими финансовыми требованиями ведения крупного розничного бизнеса на дорогих площадях. Как правило, с течением времени эти контексты снижали уровень терпимости к медленно продающимся запасам.
У стремительного роста розничных сетей было и третье последствие, которое менее заметно, но оказало огромное влияние на эволюцию издательской индустрии: появление нового рынка для того, что можно назвать «массовой литературой в твердом переплете». Уже много писалось о революции, которую совершили книги в мягкой обложке благодаря Аллену Лейну, открывшему в 1930‐е в Великобритании издательство Penguin, а также Pocket Books, Bantam, Dell, Fawcett, New American Library и другим американским издательствам, выпускавшим книги в мягкой обложке после Второй мировой войны. С 1940‐х годов продажи массовой литературы в мягкой обложке росли очень быстро; книги в мягкой обложке продавались в газетных киосках, в аптеках, в супермаркетах, в аэропортах, в автобусных терминалах и на железнодорожных станциях, а также в более традиционных книжных магазинах. Продажа книг массового ассортимента в мягкой обложке стала финансовым мотором отрасли, а продажа прав на издания в мягкой обложке сделалась основным источником дохода для издательств, выпускавших книги в твердом переплете. К 1960‐м годам индустрия разделилась на два отдельных бизнеса: с одной стороны, издание книг в твердом переплете, с другой – в мягкой обложке. «Считалось, что единственное сходство между ними состоит в том, что и те и другие выпускают книги, – сказал мне один топ-менеджер, который пришел в бизнес издания книг в мягкой обложке в конце 1960-х. – Книги в твердом переплете были снобистскими, литературными, престижными, непритязательными – всем, что можно было ожидать в ту эпоху. А книги в мягкой обложке были своего рода вторым классом – мы получали книгу на год позже, нас не считали литературой, нас ассоциировали только с маркетингом, упаковкой, распространением и продажей книг. Так что это были две параллельные вселенные, не очень жаловавшие друг друга, но при этом одна полностью зависела от другой в плане продукта». И если бизнес на книгах в мягкой обложке зависел от бизнеса на книгах в твердом переплете, который поставлял продукт, то издательства, выпускавшие книги в твердом переплете, сильно зависели от доходов, которые приносила продажа прав на издания в мягкой обложке.
Рост сетевых магазинов в торговых центрах в конце 1960‐х и 1970‐х стимулировал продажи книг в мягкой обложке и еще больше укрепил позиции выпускавших их издательств, поскольку магазины в торговых центрах по достоинству оценили книги в мягкой обложке и сделали их доступными в обстановке книжного магазина, которая была гораздо более привлекательной и менее пугающей для потребителей, чем обстановка традиционного книжного. К середине 1970‐х годов некоторые из тех, кто работал в издательствах, выпускавших книги в мягкой обложке, начали понимать, что их бизнес-модель – которая делала их зависимыми от издательств, публиковавших литературу в твердом переплете, хотя продажи обеспечивали именно издательства, выпускавшие книги в мягкой обложке, – не так уж хороша. Были даже случаи, когда издательство, выпускавшее книги в мягкой обложке, придумывало идею для книги, но было вынуждено находить издательство, специализирующееся на книгах в твердом переплете, чтобы опубликовать сначала издание в твердом переплете, а затем уже получить лицензию на издание ее у себя в мягкой обложке. «Это как если бы я приходил к вам и говорил: „Знаете, у меня нет редакторов, отредактируйте эту книгу для меня, опубликуйте ее в твердом переплете, я дам вам книгу, а потом я заплачу вам часть того, что заработаю на ней“», – сказал издатель, который начал свою карьеру в качестве редактора в издательстве, выпускавшем книги в мягкой обложке. Некоторые сотрудники таких издательств – обычно более молодые, меньше придерживавшиеся традиционной модели и меньше беспокоившиеся о том, чтобы не обижать издательства, выпускавшие книги в твердом переплете, которые были их традиционным источником продукта, – поняли, что нужно начать издавать книги самим. Поэтому в 1970‐е издательства, занимавшиеся книгами в мягкой обложке, начали выпускать свои собственные книги, первоначально издавая их в мягкой обложке, а затем, в конце 1970‐х годов, перейдя на собственные книги в твердом переплете. Важно отметить, что они применили к изданию книг в твердом переплете некоторые методы, сложившиеся в мире издания массовой литературы в мягкой обложке, например использование более привлекательной упаковки и распространение через нетрадиционные торговые точки, благодаря чему они смогли продавать книги в твердом переплете в беспрецедентных объемах. Так было положено начало «революции твердых переплетов».
Революция твердых переплетов
Когда сети магазинов в торговых центрах превратились в сети суперсторов, раскинувшиеся по всей стране, сложились благоприятные условия для революции твердых переплетов. Применение издательских стратегий, используемых при издании массовой литературы, к книгам в твердом переплете прекрасно сочеталось с используемыми в сетях нетрадиционными методами продвижения товара, включая скидки и стойки. И то, что сети открывали большие суперсторы по всей стране и разрабатывали более эффективные системы снабжения своих магазинов, означало, что объем книг, которые можно было выпустить на рынок, намного превышал прежний. В 1970‐х книга в твердом переплете, проданная в количестве 500 000 экземпляров, считалась бы колоссальным успехом, практически неслыханным в отрасли. Тридцать лет спустя эквивалентным успехом считалось бы 8–10 миллионов проданных экземпляров, то есть примерно в 20 раз больше. В начале 2000‐х годов продажи книг в твердом переплете, превышающие миллион экземпляров, были в порядке вещей, а новые книги известных авторов часто продавались даже еще лучше. «Код да Винчи» Дэна Брауна, впервые вышедший в 2003 году, к 2006 году был продан в твердом переплете в количестве более 18 миллионов экземпляров только в США. Хотя это исключительный случай, такой объем продаж книги в твердом переплете был просто невообразим в предыдущие десятилетия. По мере увеличения продаж книг в твердом переплете старые отношения между издательствами, выпускающими книги в твердом переплете, и издательствами, выпускающими книги в мягкой обложке, постепенно менялись на противоположные: если в 1950‐х и 1960‐х издательства, выпускавшие книги в мягкой обложке, были финансовым двигателем массового книгоиздания, то в 1980‐х и 1990‐х финансовым фундаментом отрасли становятся издательства, выпускающие книги в твердом переплете.
У этой революции твердых переплетов было и три других очень важных аспекта. Во-первых, когда издательства, выпускающие книги в мягкой обложке, осознали ценность публикации собственных книг, они начали использовать растущие финансовые возможности для приобретения издательств, выпускающих книги в твердом переплете. Это позволило им не только расширить свои издательские программы, но и укрепить цепочки поставок, которые стали меньше зависеть от покупки книг у издательств, специализировавшихся на выпуске литературы в твердом переплете и требовавших все более высоких авансов за права на издания в мягкой обложке. В этом крылась основная причина так называемой «вертикальной интеграции» издательского бизнеса, которая была частью процесса конгломератизации издательств, протекавшего с 1960‐х по 1990‐е годы.
Вторым аспектом революции твердых переплетов было то, что ее результатом стало распространение принципов маркетинга массовой литературы по всей отрасли. До революции методы массового маркетинга применялись в основном издательствами, выпускающими книги массового ассортимента в мягкой обложке, на которые многие занимавшиеся выпуском книг в твердом переплете обычно смотрели свысока. Но по мере того как в 1980‐е революция твердых переплетов начала набирать обороты, практики, первоначально разрабатывавшиеся для массового маркетинга книг в мягкой обложке, получали все большее распространение в отрасли в целом. Отчасти это было обусловлено тем, что из‐за усиления вертикальной интеграции отрасли разделение на издание книг в твердом переплете и издание книг в мягкой обложке, распространенное в индустрии в 1970‐е и ранее, начало стираться. Это также отчасти было обусловлено тем, что многие менеджеры, занявшие руководящие должности в новых издательских корпорациях, сформировавшихся в 1980‐е, отточили навыки в мире издания книг массового ассортимента в мягкой обложке и могли теперь привнести – даже навязать при необходимости – более рыночно ориентированные ценности и практики в сектора индустрии, до сих пор остававшиеся в стороне.
Хороший пример того, как в конце 1980‐х в повседневной деятельности крупных издательских корпораций рыночные ценности издательств, выпускающих книги массового ассортимента в мягкой обложке, начали превалировать над ценностями и практиками традиционного бизнеса по изданию книг в твердом переплете, – дизайн обложек. Один топ-менеджер, начинавший карьеру в издательстве, выпускавшем массовую литературу в мягкой обложке, и присоединившийся к одной из крупных корпораций в 1980‐х, вспоминал, что в ту пору сотрудники отдела, отвечавшего за издания в твердом переплете, выступали резко против изменения обложек их книг, о котором говорили менеджеры по продажам:
Я помню, как однажды пришел на планерку в отдел, занимавшийся книгами в твердом переплете, и привел с собой менеджеров по продажам. Они бывали на этих встречах и раньше, но им никогда не давали слова. У большинства книг не было суперобложек, но у одной – важной книги – она была, и менеджеры по продажам начали шептать мне на ухо, что обложка ужасна. Один из них поднял руку и сказал: «Думаю, у меня будут проблемы с продажей этой книги с такой обложкой». Я не помню, кто набросился на него первым, – главный художник, издатель, редактор или все трое. Это было что-то вроде: «Да кто вы такой, черт возьми, чтобы говорить нам, правильное решение мы приняли или нет?» Я только покачал головой – это был решающий момент для нас, потому что я потом пришел и сказал: «Знаете, с таким подходом вы неминуемо провалитесь. Ребята, занимающиеся продажами, должны пойти и продать вашу книгу человеку, который будет продавать вашу книгу, и если вы не сможете продать ее ему, он не сможет продать ее покупателям. Вот что вам нужно понять». До некоторых дошло быстрее, чем до других, но должен сказать, в течение следующих нескольких лет мы избавились почти от всех, кто не понимал. До некоторых так никогда и не дошло.
Для многих редакторов и издателей, которые овладевали профессией в традиционном мире книг в твердом переплете, такое столкновение с ценностями и практиками издания массовой литературы в мягкой обложке было подобно резкому пробуждению. Для многих это был вопрос выбора между адаптацией к новому положению вещей и уходом из бизнеса. Некоторые адаптировались и даже преуспели, сделав чрезвычайно успешную карьеру в качестве издателей книг в твердом переплете. Они взяли на вооружение принципы, пришедшие из мира издания массовой литературы в мягкой обложке, и использовали их при составлении своих портфелей книг в твердом переплете, став легендарными фигурами. Но многие из издателей старой школы, занимавшиеся выпуском книг в твердом переплете, в это время – в конце 1980-х – просто исчезли в результате культурной революции в самой основе бизнеса.
Третье последствие этой трансформации заключается в том, что она медленно, но верно привела к отмиранию рынка, положившего начало революции, – рынка книг в мягкой обложке. Отчасти причиной стал сам успех революции твердых переплетов в 1980‐е и начале 1990‐х, а также способность новых систем дистрибуции, выстроенных розничными книготорговыми сетями, быстро выводить на рынок большое количество книг в твердом переплете. Это также было отчасти обусловлено более широким применением скидок для сетей и других розничных торговцев, которые продавали книги, – подобная практика значительно сократила разницу в цене между книгами в твердом переплете и книгами в мягкой обложке. В 1970‐х годах и ранее соотношение цен обычно составляло примерно 10 : 1 – книга массового ассортимента в мягкой обложке могла стоить вдесятеро дешевле оригинального издания в твердом переплете. В 1990‐е и начале 2000‐х годов, когда некоторые розничные торговцы продавали новые книги в твердом переплете за 40% от розничной цены, соотношение цен достигало всего 3 : 1. Кроме того, когда поколение беби-бумеров, стоявшее за революцией мягких обложек в 1960‐х и 1970‐х, начало стареть, они стали более обеспеченными и их потребности изменились. Разница между 5 и 15 долларами за новую книгу значила для них меньше, чем возможность быстро ее получить (зачем ждать еще год, пока выйдет издание в мягкой обложке?) и читать в формате, более удобном для ухудшающегося с возрастом зрения, чем мелкий шрифт книг массового ассортимента в мягкой обложке. Поэтому, по мере роста продаж книг в твердом переплете в 1990‐е и начале 2000‐х, рынок для массовой литературы в мягкой обложке начал сокращаться. В ответ на эту тенденцию издательства стали более широко использовать формат массовой книги в бумажной обложке, изобретенный Джейсоном Эпштейном в начале 1950‐х годов, когда ему, в то время молодому редактору-стажеру в Doubleday, пришла в голову мысль переиздавать качественные книги в прочной бумажной обложке в более крупном формате, чем книги массового ассортимента в мягкой обложке, дороже и на более качественной бумаге. Эту идею Doubleday положил в основу Anchor Books, и вскоре ее взяли за образец импринты многих других издательств[32]. Сокращение рынка массовой литературы в мягкой обложке в 1990‐х и начале 2000‐х годов сопровождалось расширением рынка книг в бумажной обложке, поскольку все больше книг в твердом переплете переводилось в формат книги в бумажной обложке, а не переупаковывалось в мягкую. Но расширение рынка книг в бумажной обложке не должно заслонять тот факт, что настоящей революцией, изменившей отрасль в 1980‐х и начале 1990‐х годов, стал массовый рост продаж книг в твердом переплете, обусловленный успешным применением при их издании ценностей и практик, которые впервые появились в мире книг массового ассортимента в мягкой обложке.
Подъем Amazon
В то время, когда Barnes & Noble и Borders разворачивали свои общенациональные сети суперсторов, начал распространяться новый способ продажи книг, который добавил еще одно измерение к перестройке ландшафта розничной торговли в 1990-е: продажа книг онлайн. Ключевым игроком здесь был, конечно же, Amazon. Amazon.com – детище Джеффа Безоса, окончившего Принстонский университет по специальности «информатика», – начал работу в июле 1995 года из пригородного гаража в Сиэтле; к концу 1998 года он стал третьим по величине книготорговцем в США[33]. В конце 1990‐х продажи Amazon росли феноменальными темпами, увеличившись с 15,75 миллиона долларов в 1996 году до 610 миллионов долларов в 1998 году, но росли и убытки: к 1998 году Amazon сообщал об убытках в размере 124,5 миллиона долларов, что составляло более 20% его оборота. К 2000 году совокупные убытки Amazon составляли астрономические 1,2 миллиарда долларов. Достижение прибыльности становилось все более актуальной корпоративной задачей. В 2003 году Amazon сообщил о своей первой чистой годовой прибыли в размере 35 миллионов долларов при выручке 5,2 миллиарда долларов. К 2007 году чистая прибыль составляла 476 миллионов долларов, а выручка – 14,8 миллиарда.
Побуждаемые невероятным ростом Amazon в конце 1990‐х, другие продавцы тоже начали выходить на рынок онлайн-книготорговли. Компания Barnes & Noble наблюдала за подъемом Amazon с растущим беспокойством и в марте 1997 года открыла собственный книжный интернет-магазин b&n.com. В 1998 году Bertelsmann, который уже планировал открыть собственный интернет-бизнес, BooksOnline, приобрел 50-процентную долю в b&n.com за 200 миллионов долларов и слил с ним свой планируемый американский онлайн-магазин. К 1999 году объем продаж b&n.com составил 202 миллиона долларов, что сделало его пятым по величине книготорговым предприятием в США. В 2003 году компания Barnes & Noble выкупила долю Bertelsmann в b&n.com и в следующем году получила полный контроль нам ним. Хотя b&n.com функционирует отдельно от Barnes & Noble и имеет иную корпоративную структуру, две компании тесно сотрудничают друг с другом и, помимо прочего, совместно работают над приобретением и управлением запасами. Это дает b&n.com определенное конкурентное преимущество по сравнению с Amazon, его основным конкурентом, поскольку позволяет b&n.com использовать более широкий диапазон внутренних ресурсов компании. Borders Group также запустила собственный онлайн-магазин в 1997 году, но Borders.com значительно отставал от Amazon и b&n.com, получив в 2000 году прибыль лишь в размере 27 миллионов долларов. В 2001 году Borders объявил о передаче своего убыточного онлайн-магазина Amazon, который начал управлять им, выполнять заказы и обслуживать клиентов.
Большим преимуществом онлайн-продавцов является то, что они могут предложить огромный ассортимент книг, во много раз больше, чем обычный книжный магазин. Когда Amazon.com начал свою деятельность, они утверждали, что предлагают более миллиона наименований (слоган был: «Крупнейший книжный магазин на Земле») по сравнению с 175 000 наименований в крупнейшем физическом книжном магазине в США. Но, конечно, сравнение было не совсем справедливым, поскольку в список Amazon входили книги из базы данных «Книги в продаже», которые на самом деле нигде не хранились. В поставках товара Amazon в значительной степени полагался на крупных оптовых продавцов Ingram и Baker & Taylor: когда Amazon получал заказ от покупателя, он заказывал книгу у одного из оптовиков, распаковывал ее по прибытии в свой распределительный центр в Сиэтле, переупаковывал и отправлял заказчику по почте. У этой модели был огромный плюс: для нее не требовалось создавать запасы книг, но недостатком было то, что она была относительно медленной, поскольку книги приходилось заказывать и отправлять по почте дважды. Поэтому в 1996 году Amazon начал расширять свои складские мощности и строить региональные распределительные центры, позволяющие быстрее выполнять заказы и сокращать расходы, связанные с двойной обработкой книг. Однако чем больше Amazon двигался в направлении складирования своих запасов, тем больше капитала вкладывалось в физические книги и недвижимость и тем больше компания становилась похожей на традиционного розничного продавца и испытывала финансовые трудности и проблемы, знакомые обычным физическим магазинам.
Онлайн-продавцы конкурировали друг с другом и с физическими книжными магазинами не только в отношении предлагаемых и имеющихся на складе наименований, но и в отношении скидок. Amazon был озабочен «клиентским опытом» и на основе своих исследований пришел к выводу, что для покупателей книг наиболее важны три вещи: выбор, удобство и цена. Отличный выбор обеспечивал 1 миллион с лишним предлагаемых наименований; удобство обеспечивалась тем, что магазин был открыт 24/7 и старался доставлять книги напрямую клиенту как можно быстрее; наконец, возможность конкурировать с суперсторами в цене обеспечивалась скидками на значительную часть продаваемых книг. Amazon предлагал скидку 10% на 300 000 наименований, скидку 30% на 20 лучших книг в твердом переплете и 20 лучших книг в мягкой обложке, а также скидку 40% на отдельные наименования. Когда b&n.com начал работу в 1997 году, он предлагал скидки на 400 000 наименований, включая скидки до 50% на некоторые бестселлеры. В определенной мере онлайн-продавцы могли предлагать столь значительные скидки, потому что их накладные расходы были ниже, чем у физических книжных магазинов, но они продолжали предлагать существенные скидки несмотря на то, что несли убытки из года в год, потому что считали это ключевым условием своей способности конкурировать с суперсторами. И Amazon, и b&n.com также ввели бесплатную доставку заказов после определенной суммы, чтобы общая стоимость покупок оставалась низкой.
Закрепившись на книжном рынке США, Amazon расширил свою деятельность за рубежом и диверсифицировал ассортимент продукции. Значительная часть клиентской базы Amazon всегда находилась в других странах, но в 1998 году Amazon напрямую вышел на европейский рынок, приобретя британского онлайн-книготорговца Bookpages и немецкого онлайн-книготорговца Telebuch, использовав их для запуска Amazon.co.uk и Amazon.de. Впоследствии были открыты и другие международные отделения в Японии, Франции и Канаде. К 2007 году 45% дохода Amazon получал за пределами Северной Америки. Amazon также вышел за рамки своего основного бизнеса, продажи книг, отчасти – путем приобретения других онлайн-магазинов и присоединения их к тому, что быстро превратилось в огромный торговый центр в интернете. В 1998 году Amazon начал продавать музыкальные компакт-диски и видео, в начале 1999 года – игрушки и электронику, а в сентябре 1999 года запустил zShops – зону для онлайн-покупок, предлагающую широкий ассортимент товаров, начиная с одежды и бытовой техники и заканчивая товарами для домашних животных.
К 2006 году онлайн-продажи составляли около 11% рынка розничной книготорговли в США[34]. Эта цифра включает всех онлайн-книготорговцев, но Amazon стал крупнейшим игроком, владевшим 70% книжного онлайн-рынка. Всего за десять лет Amazon с нуля стал одним из самых важных розничных магазинов для издательств, а для многих университетских и мелких издательств – самым важным покупателем. Вскоре даже крупные издательства обнаружили, что Amazon входит в число двух-трех их крупнейших клиентов – одно крупное издательство сообщило, что в 2006 году Amazon обеспечивал около 8% их бизнеса и рос примерно на 20% в год. Для некоторых категорий книг, например нехудожественной литературы в твердом переплете, доля Amazon на рынке уже достигла 20%.
Для издательств стремительный рост Amazon и других онлайн-магазинов означал появление долгожданного дополнения к существующим рыночным каналам. В то время как физическая розничная торговля все больше консолидировалась в руках крупных розничных сетей и многие независимые книготорговцы сходили с дистанции, появление розничной онлайн-торговли привело к серьезной реконфигурации книготоргового бизнеса. Она оказалась особенно удобной для продажи книг из бэк-листов, специализированных изданий и произведений еще не очень известных авторов, которые физические книжные магазины начали закупать с меньшей охотой. Одна из привлекательных – как для издательств, так и для авторов – особенностей Amazon как канала розничной торговли заключается в том, что он быстро и зримо реагирует на спрос: чем чаще книга заказывается в Amazon, тем выше ее рейтинг на сайте. Поэтому, даже если книга не пользуется сильной поддержкой со стороны централизованных закупщиков в розничных сетях, она может найти подходящий рынок сбыта благодаря Amazon, и, если она начнет хорошо продаваться через Amazon, централизованные закупщики могут пересмотреть свое первоначальное решение и разместить более крупный заказ. «Все розничные продавцы постоянно следят за Amazon, – сказал один книготорговец, руководящий командой централизованных закупщиков в крупной сети. – Потому что он живой, это честный график, он часто меняется в зависимости от реальных продаж, и видно, как это работает. Так что все можно исправить за день, если необходимо. Можно сделать заказ, и книги будут на складе на следующий день. Нужно, чтобы это стало частью культуры закупщиков: если допустил ошибку, не паникуй, все можно очень легко исправить».
В то же время рост Amazon и в целом онлайн-книготорговли создал новые угрозы для издательств и усилил некоторые старые. С одной стороны, онлайн-среда оказалась чрезвычайно удобной для продажи подержанных книг, поскольку такие онлайн-магазины, как Biblio, AbeBooks и Alibris, могли работать в качестве клиринговых центров для сотен мелких букинистов, располагающихся по всей стране и по всему миру. Когда Amazon и b&n.com вышли на рынок подержанных книг, выступив в качестве клиринговых центров для букинистов и начав выдавать подержанные книги вместе с новыми в результатах поиска, это значительно расширило клиентскую базу букинистического рынка – подержанные книги стали покупать не только люди, которые специально ищут букинистическую литературу и знакомы с поставляющими ее специализированными онлайн-книготорговцами, но и все, кто покупает книги онлайн. Если американские издательства, выпускающие учебники для колледжей, уже давно привыкли работать с рынком подержанных книг, то теперь продажа букинистической литературы начала становиться предметом все большей озабоченности и для издательств массовой литературы. И для этой озабоченности были основания: проведенное в 2005 году исследование показало, что продажи подержанных книг общей направленности достигли в 2004 году 589 миллионов долларов, что на 30% больше, чем в 2003‐м[35]. Общий доход от продаж подержанных книг в 2004 году превысил 2,2 миллиарда долларов, и, хотя большую их часть (73%) составляли учебники и другая учебная литература, продававшаяся в основном через университетские книжные магазины, наиболее существенный рост наблюдался в области продажи книг общей направленности и в продажах через онлайн-каналы. В то время как общий рост продаж в отрасли был очень скромным, рост продаж подержанных книг на 30% действительно вызывал тревогу, поскольку торговля подержанными книгами, хотя и очень выгодна для книготорговцев, не приносит доход издательствам и не обеспечивает авторские отчисления.
Вторая проблема для издательств заключалась в том, что по мере расширения Amazon и превращения его во все более важный канал для выхода на рынок он также обретал все большее влияние и использовал свой масштаб, чтобы добиваться от издательств более выгодных условий – более высоких скидок, больших вложений в совместную рекламу, лучших условий оплаты и т. д. Издательства привыкли иметь дело с давлением со стороны крупных розничных сетей, пытающихся получить более выгодные условия, но теперь они столкнулись с аналогичным давлением со стороны нового игрока, который быстро становился одним из их наиболее важных клиентов. «Условия оплаты, совместная реклама, транспортировка – о чем бы ни шла речь, у 800-фунтовой гориллы есть много способов заставить вас слушаться, – сказал один опытный директор по продажам. – Беспокоит ли меня это? Конечно. Чем они больше, тем они сильнее». Его беспокойство отражалось в поведении: он говорил об этом с большой осторожностью, за моими вопросами следовали многозначительные паузы, он тщательно подбирал слова и неоднократно просил меня гарантировать, что его высказывания будут анонимными. Ни один директор по продажам не захотел бы ссориться с тем, кто стал одним из его самых важных клиентов. Всегда есть страх – не совсем беспочвенный, как мы увидим, – что Amazon может использовать возможность удалять книги со своего сайта или отключать кнопку «купить» в качестве оружия в борьбе за улучшение условий торговли. То, что Amazon является крупным и растущим клиентом для большинства издательств, что он намного больше любого другого онлайн-магазина и что это также очень заметный сайт, в том смысле, что многие читатели будут искать книги в Amazon, а многие авторы будут заходить на его сайт, чтобы проверить наличие своих книг, – все это значительно усилило переговорную позицию Amazon. Если книги издательства перестанут продаваться через Amazon или если они окажутся на сайте, но их нельзя будет купить, это может принести издательству существенные убытки: доступность в Amazon все больше становится лакмусовой бумажкой доступности как таковой.
Усиление роли магазинов смешанного ассортимента
Книжные магазины, как независимые, так и сетевые, никогда не были единственными торговыми точками для продажи книг: как отмечалось ранее, они также часто продавались в неспециализированных торговых точках, таких как аптеки и универмаги. В 1980‐х и 1990‐х годах издательства обнаружили, что книги можно продавать в расширяющихся сетях крупных дисконтных магазинов, таких как Wal-Mart, Kmart и Target, а также в складских магазинах – так называемых «клубах уцененных товаров». Сэм Уолтон открыл свой первый Wal-Mart Discount Store в Арканзасе в 1962 году; через пять лет компания владела двадцатью четырьмя дисконтными магазинами по всему штату. С 1970‐х годов Wal-Mart начал расширять свою сеть, сначала открыв магазины в соседних штатах, а затем – в остальной части США и за рубежом. К 2005 году у Wal-Mart было 3800 магазинов в США и 2800 в других странах. Wal-Mart стал крупнейшим розничным продавцом в США, Канаде и Мексике; он также стал вторым по величине продуктовым магазином в Великобритании благодаря приобретению ASDA в 1999 году за 10 миллиардов долларов[36].
Wal-Mart открыл свой первый складской клуб под названием Sam’s Club (в честь Сэма Уолтона) в Мидвест-Сити, штат Оклахома, в 1983 году, но обычно изобретение складского магазина приписывают Солу Прайсу, адвокату из Сан-Диего. Унаследовав пустой склад в начале 1950‐х годов, Прайс уговорил нескольких оптовых продавцов разместить там товары самого разного ассортимента, от ювелирных изделий и мебели до алкоголя, которые продавались по оптовым ценам членам – государственным служащим. Бизнес, который Прайс открыл в 1954 году под названием FedMart, имел успех, и когда в 1975 году он продал его, это была сеть из сорока пяти магазинов. Развивая успех FedMart, Сол Прайс и его сын Роберт открыли в 1976 году первый магазин Price Club на окраине Сан-Диего. Концепция торговли была простая: продавать широкий ассортимент товаров в больших объемах и по низким ценам, обычно на 10% дороже оптовой цены. Чтобы сохранять низкие цены, накладные расходы были сведены к минимуму: товары выставлялись на паллетах или высоких стеллажах внутри склада, а сами склады находились в дешевых промышленных зонах на окраинах городов и обслуживались минимумом персонала. Ограниченное членство снижало риск плохих чеков и краж, а скромные членские взносы позволяли покрывать накладные расходы. После разочаровывающего первого года Прайсы расширили членский состав, включив в него сотрудников больниц, финансовых учреждений и коммунальных служб, и этого оказалось достаточно для роста бизнеса. К середине 1980‐х годов Прайсы открыли 20 складов, большинство из которых находились в Калифорнии, и компания получила прибыль в размере 45 миллионов долларов при объеме продаж в 1,9 миллиарда долларов.
Успех Price Club породил множество подражателей, в том числе Costco Wholesale Club, Sam’s и BJ’s. Соучредителем Costco был Джеймс Синегал, который работал с Солом Прайсом в FedMart и Price Company, но потом ушел оттуда и в 1983 году вместе с Джеффри Бротманом создал Costco. Costco придерживался принципов, очень похожих на принципы Price Club, и, начав с магазина в Сиэтле, быстро стал основным конкурентом Price Club. Sam’s Wholesale Club был основан Wal-Mart в 1983 году и начал быстро расти; к 1993 году Sam’s обогнал Price Club и стал крупнейшим оптовым клубом в США, владеющим 434 магазинами и почти половиной рынка. Отчасти в ответ на угрозу со стороны Sam’s Прайсы решили объединиться с Costco, который тогда занимал третье место среди оптовых клубов по общему доходу. Новая компания PriceCostco оказалась нестабильным союзом; Роберт Прайс покинул компанию в 1994 году, а в 1997‐м она сменила название на Costco Wholesale. Costco и Sam’s в настоящее время являются ведущими оптовыми клубами и имеют примерно одинаковый размер; у Costco с оборотом 64,4 миллиарда долларов в 2007 году самый высокий объем продаж, но у Sam’s с 713 магазинами больше торговых точек.
Рост магазинов смешанного ассортимента, таких как Wal-Mart, Kmart, Target, и оптовых клубов, таких как Price Club, Sam’s, BJ’s, Costco, привел к появлению множества новых торговых точек, где можно было продавать книги. Это были розничные точки, глубоко интегрированные в общество и имеющие высокую пропускную способность с точки зрения покупательского трафика: по оценкам, 90% американцев живут в четверти часа езды от Wal-Mart и каждый год 93% американских домохозяйств хотя бы раз делают покупки в Wal-Mart[37]. Примерно с середины 1990‐х эти сети магазинов смешанного ассортимента постепенно стали важнейшими розничными точками продаж для отдельных категорий книг – прежде всего для бестселлеров, в особенности для бестселлеров известных авторов коммерческой художественной литературы, продающихся сначала в твердом переплете, а затем в мягкой обложке. «Они торгуют очень небольшим ассортиментом книг, – сказал один аналитик продаж из крупной издательской фирмы, – но они продают их в больших количествах».
В таблице 2 показана рыночная доля крупнейших розничных продавцов США в случае двух самых продаваемых романов ведущего автора коммерческой художественной литературы. Одна книга была опубликована в 2005 году, другая – в 2008-м; цифры отражают продажи изданий в твердом переплете в течение первых трех недель после публикации. Хотя рыночные доли обоих продавцов в двух случаях несколько различаются, общая картина очевидна: крупнейшей продавец – Costco (21% рынка в случае книги 2005 года и 18,7% – в случае книги 2008 года); следом идут Wal-Mart и Sam’s (который принадлежит Wal-Mart) с рыночной долей 15,8 и 18,2% в случае Wal-Mart и 17 и 11% в случае Sam’s. В совокупности на долю магазинов смешанного ассортимента (включая Target) приходится более половины продаж этих книг в течение первых трех недель – 61,3% в 2005 году и 53,8% в 2008-м. Рыночная доля Barnes & Noble составила 13% в 2005 году и 15% в 2008‐м, в то время как у Borders она была 8 и 11%. В совокупности на долю сетей книжных суперсторов пришлась примерно четверть продаж (21% в 2005 году и 26% в 2008-м). Доля Amazon выросла с 2,9% в 2005 году до 5,4% в 2008-м. Эти семь продавцов – четыре ключевых магазина смешанного ассортимента, две сети книжных суперсторов и Amazon – обеспечили 85% продаж этих двух бестселлеров в твердом переплете в течение первых трех недель после публикации. На все оставшиеся торговые точки, включая остальные сети, такие как Books-A-Million, и все независимые книжные магазины вместе взятые, пришлось только 15% продаж.
Продажи изданий в твердом переплете в течение первых трех недель после публикации.
Паттерн продаж, проиллюстрированный этими двумя книгами, специфичен для данной категории книги, то есть для коммерческих романов-бестселлеров известных авторов, выпускающихся сначала в твердом переплете. Для других категорий книг – например, для серьезной художественной литературы, биографий или серьезной нехудожественной литературы – распределение продаж по каналам окажется совсем другим: бóльшая часть будет приходиться на Barnes & Noble, Borders, Amazon и независимые книжные, а гораздо меньшая (для большинства книг нулевая) – на магазины смешанного ассортимента. Структура продаж по каналам значительно различается в зависимости от категорий, форматов, авторов и содержания конкретных книг. Распределение продаж также различается по типам и форматам книг у разных магазинов смешанного ассортимента, частично отражая различные демографические профили их покупателей. Например, Wal-Mart лучше продает коммерческую художественную литературу в твердом переплете и в мягкой обложке, в то время как Target, имеющий более широкую клиентскую базу, лучше продает книги в бумажной обложке. Магазины смешанного ассортимента предлагают очень ограниченный набор бестселлеров, тщательно отобранных для их покупателей. Они делают большие скидки, иногда целых 43%, беря, например, 15,95 доллара за книгу в твердом переплете с прейскурантной ценой 27,95 доллара. Другие розничные продавцы, в том числе сети книжных суперсторов, не могут соперничать с этими ценами. «Клубы, Wal-Mart и Target украли продажу бестселлеров у сетей суперсторов, так же как сети до этого украли продажу бестселлеров у независимых книжных, – пояснил тот же аналитик продаж. – Они сделали это благодаря скидкам, в точности так же, как сети поступили с независимыми продавцами». Маржа чрезвычайно маленькая, но магазины смешанного ассортимента могут делать книги прибыльными, сводя свои накладные расходы к минимуму и достигая высоких объемов продаж. Книги часто выкладываются на паллетах или столах и хранятся на складе только до тех пор, пока объем продаж не падает ниже определенного значения – в одном крупном оптовом клубе это обычно 1800 экземпляров в неделю для новинок в твердом переплете. Книги, которые продаются медленнее, возвращаются, чтобы освободить место для других книг. Поэтому показатели возвратов от магазинов смешанного ассортимента, как правило, высоки – обычно около 50%, но для некоторых книг эта цифра может достигать 80%. Это низкомаржинальный бизнес с большим объемом товара, в котором отличные возможности для продаж – магазины со смешанным ассортиментом могут пропускать через себя большое количество книг, – но риски с точки зрения доходов тоже намного выше, чем в других розничных каналах.
Радикальные изменения на рынке, произошедшие за последние 40–50 лет, привели к формированию ландшафта розничной торговли, который совсем не похож на множество независимых книжных магазинов, универмагов и других торговых точек, где книги продавались в 1950‐х годах и ранее. В таблице 3 представлена оценка рынка розничных продаж книг в США в 2006 году с разбивкой по каналам. На долю суперсторов и книжных сетей приходится около 45% розничного книжного рынка, оцениваемого в 12,4 миллиарда долларов, в то время как на долю независимых книжных приходится 13%[38]. Онлайн-продавцы занимают около 11% рынка, а книжные клубы и заказы по почте – еще 10%. На долю остальных магазинов, в том числе магазинов смешанного ассортимента и складских клубов, приходится где-то около 5%, хотя в случае некоторых бестселлеров их доля на рынке, как мы видели, может быть намного больше. Примерно за 40 лет произошел резкий переход основной доли рынка от множества независимых книготорговцев и магазинов (аптек или универмагов) к крупным розничным сетям – сначала к сетям магазинов в торговых центрах, затем к сетям суперсторов, а теперь к магазинам смешанного ассортимента, оптовым клубным сетям и онлайн-магазинам (особенно Amazon). В результате этой трансформации несколько крупных розничных продавцов – Barnes & Noble, Borders, Amazon и, для некоторых категорий бестселлеров, Costco, Wal-Mart, Target и Sam’s – стали ключевыми клиентами издательств и ключевыми игроками в борьбе за придание книгам заметности и привлечение к ним внимания покупателей на все более тесном рынке. Эта небольшая группа ключевых розничных продавцов приобрела огромную власть в области массового книгоиздания, поскольку издательства не продают книги напрямую потребителям, а все в большей степени зависят от этих розничных гигантов, которые делают их продукцию доступной для потребителей и побуждают их покупать.
Данные о продажах предоставлены Группой по изучению книжной индустрии; учитываются только продажи книг (исключая музыку, журналы, подарки, канцелярские товары, кафе и т. д.). Источник: Oda S., Sanislo G. The Subtext 2007–2008 Perspective on Book Publishing. Darien, CT: Open Book, 2007. P. 64.
Специфика британцев
Изменения, происходившие в Великобритании, зеркально отражали трансформацию розничной торговли в США; большинство игроков оказались иными, некоторые распространенные практики были исключительно британскими, а последствия в некоторых отношениях – более радикальными, но общая картина сохранилась. На протяжении большей части XX века британская книготорговля регулировалась Соглашением о фиксированных ценах на книги – неформальным соглашением между издательствами и книготорговцами, которое было предложено издательством Macmillan в 1890‐х годах после периода неразберихи и интенсивной ценовой конкуренции в издательской индустрии[39]. В основе соглашения лежала идея, что издательства будут устанавливать фиксированную, или «чистую», розничную цену для каждой опубликованной ими книги, а книготорговцы соглашались продавать книги по чистой цене в обмен на скидку, которая позволяла им устанавливать разумную маржу. Издательства должны были прекращать поставку книг любому книготорговцу, нарушившему правила. Соглашение вступило в силу 1 января 1900 года и действовало на протяжении почти всего XX века, создавая относительно стабильную коммерческую среду для издательств и книготорговцев.
Однако были и критики соглашения, которые нередко ставили его под сомнение. В 1959 году оно было направлено в Суд по делам о нарушении свободы конкуренции – специальный трибунал, учрежденный Законом 1956 года о нарушении свободы конкуренции. Дело было рассмотрено в 1962 году[40]. Секретарь по соглашениям об ограничении торговли утверждал, что подписанты Соглашения о фиксированных ценах на книги представляли собой незаконный картель, устанавливающий цены в ущерб общественным интересам, тогда как ассоциации издательств и книготорговцев утверждали, что, учитывая культурную и образовательную ценность книг, общество заинтересовано в том, чтобы иметь широкую сеть книжных магазинов со складами, которая будет разрушена, если допустить снижение цен: это приведет к падению качества и количества издаваемых книг. Председатель суда вынес решение в пользу издательств и книготорговцев, и соглашение осталось в силе.
Отсрочка, однако, была временной. В начале 1990‐х годов соглашение столкнулось с новым давлением со стороны ряда розничных продавцов и издательств массовой литературы, которые хотели экспериментировать со скидками в надежде, что более низкие цены приведут к увеличению объемов продаж. Терри Мейхер, глава розничной группы Pentos, которая приобрела в 1977 году Dillons – продавца академических книг с головным магазином на Гауэр-стрит в Лондоне и парой небольших книжных в университетах, – и в конце 1980‐х начала развертывать общенациональную сеть книжных магазинов, всегда был против соглашения. «Я считал Соглашение о фиксированных ценах на книги глупостью, оно меня раздражало, – вспоминает он. – Когда у нас было лишь несколько магазинов, это не имело большого значения, но как только у нас появилась общенациональная сеть и мы стали брендировать Dillons на национальном уровне, оно стало большей помехой»[41]. В 1989 году Dillons начал экспериментировать с ценами, в том числе пытаясь продавать по сниженным ценам книги, вошедшие в шортлист Букеровской премии 1990 года, чему помешал судебный запрет, полученный Ассоциацией книгоиздателей. В 1991 году из соглашения вышел Reed Consumer Books – первое крупное издательство, сделавшее это, – а в августе 1994 года генеральный директор Управления защиты прав потребителей постановил, что соглашение должно быть вновь рассмотрено Судом по делам о нарушении свободы конкуренции. Наступил период растерянности и неопределенности. В сентябре Ассоциация книгоиздателей заявила, что будет защищать соглашение, и на следующий день Тим Хели Хатчинсон – тогдашний главный исполнительный директор издательства Hodder Headline – объявил, что собирается вывести их книги из-под действия соглашения на следующий день после Рождества. В сентябре 1995 года Random House и HarperCollins объявили, что они больше не будут придерживаться соглашения, и вскоре после этого книготорговец WH Smith – ранее один из самых решительных сторонников соглашения – объявил, что присоединяется к их отказу от фиксированных цен. Соглашение было фактически мертво. В марте 1997 года Суд по делам о нарушении свободы конкуренции опечатал гроб, постановив, что соглашение незаконно. С этого момента розничные продавцы могли свободно устанавливать скидки на книги и продавать их по любой цене, которую считают нужной.
До распада соглашения Великобритания переживала рост розничных книготорговых сетей, аналогичный их росту в США. В 1970‐х и ранее WH Smith, продавец книг, газет и канцелярских товаров, был важнейшим игроком на розничном рынке книготорговли в Великобритании. Возникнув первоначально в конце XVIII века как оптовый магазин, продававший газеты и канцелярские товары в лондонском Ист-Энде, в XIX веке WH Smith начал быстро расширяться благодаря серии эксклюзивных сделок с крупными железнодорожными компаниями, которые позволили ему открыть книжные киоски на железнодорожных станциях[42]. К 1970‐м годам WH Smith контролировал около 40% розничного книжного рынка в Великобритании. Остальную часть рынка делили несколько хорошо известных традиционных независимых книжных магазинов, таких как Hatchards с Пикадилли, несколько небольших сетей вроде Blackwell и Hammicks и множество небольших независимых книжных. В отличие от США, в Великобритании в 1960‐е и 1970‐е не наблюдался рост числа сетей книжных магазинов в торговых центрах, так как это явление было связано с социальной географией американского города, с миграцией средних классов в пригород и с ростом пригородных торговых центров, обеспеченным высоким уровнем автомобилизации.
Книготорговая среда в Великобритании начала значительно меняться в 1980‐е, во многом благодаря быстрому росту Waterstone’s и Dillon. Тим Уотерстоун пришел в WH Smith в конце 1970‐х, но в 1982 году был уволен. В то время он работал над статьей о книготорговле в Великобритании и придумал план нового типа книжного магазина – как он сам говорит, «магазина с очень хорошо подобранным ассортиментом, с очень сведущим персоналом и со своего рода мессианским желанием продавать книги – в лучших традициях независимых книжных, но в формате сети». Он сумел собрать 6000 фунтов стерлингов, чтобы открыть свой первый книжный магазин на Олд-Бромптон-роуд в Лондоне, а затем нашел дополнительные средства для развертывания сети магазинов по всей стране. Это были большие книжные магазины в центральных, престижных районах, заполненные огромным количеством книг (включая книги, числящиеся в продаже) и оформленные таким образом, чтобы они привлекали покупателей и побуждали их проводить там время. По концепции и дизайну эти магазины были похожи на суперсторы, открывавшиеся Barnes & Noble и Borders в США в 1980‐х, но идея, похоже, была придумана независимо[43]. В то время как Waterstone’s активно расширял свою общенациональную сеть, Pentos Group начала с 1986 года развертывать свою общенациональную сеть книжных магазинов под брендом Dillons; к 1989 году они владели 61 книжным по всей стране. Третья сеть была запущена в 1987 году Джеймсом Хэнеге, предпринимателем с опытом работы в сфере рекламы, который увидел возможность создать сеть привлекательных, хорошо управляемых книжных магазинов в малых и средних городах на юге Англии; первые два книжных магазина Ottakar’s были открыты в Брайтоне и Банбери в 1988 году, и в течение следующего десятилетия сеть продолжила расширяться. К концу 1980‐х существовали две крупные книжные сети, открывавшие магазины по всей стране, и третья, открывавшая книжные в небольших городах на юге Англии. Объем торговых площадей для книг быстро и резко увеличивался. Все три сети конкурировали друг с другом и отнимали долю рынка у WH Smith. Они также вытесняли многих независимых книготорговцев, частично благодаря своей хищнической деятельности, частично потому, что, как и в США, многие независимые продавцы плохо вели дела и просто не могли конкурировать с гораздо более крупными и профессионально управляемыми книжными магазинами.
Конкуренция между Waterstone’s и Dillons закончилась в 1990‐е, когда в Великобритании произошла консолидация сектора розничной книготорговли. В 1993 году Тим Уотерстоун продал компанию своему бывшему работодателю, WH Smith, за 49 миллионов фунтов стерлингов, и она была объединена с 48 магазинами Sherratt & Hughes, начавшими торговать под брендом Waterstone’s. Будучи самостоятельным бизнесом в рамках WH Smith Group, Waterstone’s быстро расширялся и стал ведущим специализированным книготорговцем в Великобритании. В 1998 году Waterstone’s был продан HMV Media Group, которая была создана, под руководством Тима Уотерстоуна, музыкальной корпорацией EMI и американской группой венчурного капитала Advent, чтобы приобрести Waterstone’s и объединить его с Dillons. HMV купила Dillons в 1995 году, когда Pentos Group, которой в то время принадлежал Dillons, была объявлена банкротом. HMV Media Group заплатила 300 миллионов фунтов стерлингов за 115 магазинов Waterstone’s и 500 миллионов фунтов стерлингов за две сети EMI – 78 магазинов Dillons и 271 музыкальный магазин HMV. В течение года два конкурирующих книготорговых бренда оставались отдельными, но в 1999 году от названия Dillons отказались, и магазины переименовали в Waterstone’s. В 2002 году HMV Group владела 197 магазинами Waterstone’s, в основном в Великобритании и Ирландии, а также 328 магазинами HMV, торгующими музыкой, видео и играми. WH Smith тоже расширил свои владения в 1990‐е, используя выручку от продажи Waterstone’s, чтобы приобрести в 1998 году 232 магазина шотландской сети John Menzies, в результате чего общее количество магазинов сети на центральных улицах и станциях достигло 741.
К концу 1990‐х годов компания Waterstone’s благодаря поглощению Dillons заняла доминирующую позицию на британском рынке розничной книготорговли, но это также ознаменовало начало перемен для розничного гиганта. В то время музыкальные магазины HMV были очень успешными, и руководство HMV решило применить к Waterstone’s некоторые принципы розничной торговли, которые хорошо работали для музыкальных магазинов, включая больший акцент на кампаниях и рекламе в передней части магазинов, увеличение запасов и уменьшение ассортимента книг. Эта модель шла вразрез с концепцией продаж книг Тима Уотерстоуна: «HMV хотела выйти на средний рынок, воспроизвести на книжном рынке то, что они блестяще делали на музыкальном. Но с книгами это просто не работало, и я даже не хотел пробовать это на книгах, – рассказывает он. – Waterstone’s зависит от разнообразия ассортимента, от больших капиталовложений в запасы, от качества предлагаемых книг. Если вы начинаете сужать ассортимент, вы начинаете сужать перечень предлагаемых книги. А когда вы начинаете сужать перечень предлагаемых книг, меняется весь характер книготорговли. У вас остаются только новинки, а оставшись только с ними, вы ввязываетесь в дисконтную войну». В 2001 году Тим Уотерстоун ушел с поста руководителя.
В конце 1990‐х и начале 2000‐х годов Waterstone’s также столкнулся с угрозами со стороны новых игроков, которые пришли на рынок. В 1997 году базирующаяся в США Borders Group расширилась, приобретя в Великобритании Books Etc.; через пять лет Borders владела 37 магазинами Books Etc. и 21 суперстором в Великобритании и стала одним из основных конкурентов Waterstone’s. Но иностранная экспансия Borders длилась недолго; как отмечалось ранее, Borders продала бизнес в Великобритании в 2007 году, а в 2009‐м закрыла все свои британские магазины.
Другой американский книготорговец, пришедший на британский рынок, оказался более жизнеспособным. Приобретя в 1998 году британский онлайн-магазин Bookpages, Amazon начал быстро расширять свое присутствие в Великобритании, занимая все большую долю рынка. К 2006 году интернет-книготорговцы владели примерно 11% рынка розничной торговли в Великобритании – так же как в США, – и крупнейшим игроком с подавляющим отрывом был Amazon. Хотя Amazon продает весь спектр книг, он особенно хорошо справляется с продажей более специализированных книг и более старых книг из бэк-листов, тем самым подрывая доход, который Waterstone’s и другие книжные магазины могли бы получить от продаж книг из бэк-листов.
Другой группой ключевых игроков, которые пришли на британский рынок розничной торговли в конце 1990‐х годов, были супермаркеты – Tesco, Asda и Sainsbury’s. Крах Соглашения о фиксированных ценах на книги в середине 1990‐х расчистил путь для выхода супермаркетов на рынок розничной книготорговли. До этого супермаркеты почти не интересовались продажей книг; они продавали только книги с низкой ценой. Причина была проста. Для супермаркетов решающее значение имеет способность конкурировать в цене – это один из ключевых инструментов, с помощью которого они могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими розничными продавцами. Пока действовало соглашение, возможность использовать цену в качестве конкурентного инструмента для продажи книг была для них просто недоступна. Однако после распада соглашения книги стали привлекательным дополнением к непродовольственным товарам, предлагаемым в крупных супермаркетах. Одна из стратегических целей крупных супермаркетов вроде Tesco заключалась в том, чтобы сделать непродовольственные товары столь же продаваемыми, как продукты питания; непродовольственными товарами «могут быть принадлежности для похорон, садовый инвентарь или все, что нам сейчас угодно, – рассказал мне один бывший закупщик из Tesco. – Книги считались развлекательным товаром, на который покупатели готовы тратить деньги». Но супермаркеты должны были иметь возможность продавать книги по ценам достаточно низким, чтобы «это больше не считалось покупкой – ну, чтобы их просто клали в корзину». После краха соглашения супермаркеты могли договариваться с издательствами об условиях, которые позволили бы им делать большие скидки и назначать цены, необходимые, по их мнению, для того, чтобы сделать книги товаром, который «просто кладут в корзину». Но книги имели и некоторые дополнительные преимущества для супермаркетов. Они были одним из немногих товаров, которые можно было возвращать поставщику, если они не продавались, что защищало розничного продавца от риска остаться с большим количеством непроданного товара на полках. И они были одним из немногих товаров в супермаркете, на которых указывалась рекомендованная розничная цена, так что покупатели могли видеть, насколько дешевле они могут купить их в супермаркете.
Супермаркеты начали с книг в мягкой обложке, но через три-четыре года стали переходить на новинки в твердом переплете и детские книги. Поэтому в конце 1990‐х в супермаркетах предлагался очень разнообразный книжный ассортимент. Крупные сети супермаркетов привлекли специализированных закупщиков книг, которые работали в головных офисах и которых регулярно навещали менеджеры по продажам крупных издательств. Приоритетом для закупщиков был «чарт», то есть книги, которые либо были, либо, скорее всего, будут в списках бестселлеров в мягкой обложке или в твердом переплете. Супермаркеты просматривали списки бестселлеров, выпускаемые такими газетами, как Sunday Times, но также составляли собственные списки бестселлеров, основываясь на своих отчетах о продажах. Даже в крупнейших супермаркетах было ограниченное количество полок, отведенных под книги, поэтому у закупщика было небольшое количество слотов – может быть, шесть или двенадцать, в зависимости от магазина, – которые можно было заполнять новыми наименованиями раз в две недели. Книги в чартах поднимаются вверх или опускаются и остаются на полках, пока продаются. Если книга продолжает хорошо продаваться, ее будут держать на полках – «что-нибудь в духе Мартины Коул может находиться там восемь месяцев». Но если продажи падают или просто слишком низкие, книга изымается из магазинов и возвращается издательству.
Влияние этих изменений на розничную торговлю в Великобритании в конце 1990‐х и начале 2000‐х было огромным. Для издательств массовой литературы эти изменения означали, что они все меньше продают книги через традиционные розничные торговые точки и все больше – через нетрадиционные, особенно через супермаркеты. Это видно по таблице 4, где представлены продажи крупного британского издательства массовой литературы в 2000 и 2006 годах, разбитые по каналам продаж. В 2000 году на долю Waterstone’s и Ottakar’s вместе приходилось 28% продаж; к 2006 году их общая доля снизилась до 23%. (В 2006 году Waterstone’s купил Ottakar’s; в таблице они сгруппированы и для 2000-го, и для 2006 года, чтобы была общая точка для сравнения.) Доля WH Smith немного снизилась с 13% в 2000 году до 12% в 2006-м. На другие сети, включая Borders, Books Etc., Blackwell и пр., приходится по 11% в оба года. Доля независимых магазинов значительно снизилась: с 8% в 2000 году до всего лишь 3% в 2006-м. Оптовые продажи упали с 14 до 9%. Продажи через интернет – а это в основном Amazon – напротив, выросли с 2% в 2000 году до 7% в 2006‐м, но даже эти цифры, по-видимому, занижают реальный объем и рост онлайн-продаж, поскольку Amazon и другие онлайн-магазины приобретают часть своих запасов у оптовых продавцов. Однако больше всего в этой таблице впечатляет процент продаж через супермаркеты, который увеличился вдвое – с 12% в 2000 году до 25% в 2006-м. У этого издательства продажи через супермаркеты составили четверть всех продаж в 2006 году, и супермаркеты обогнали по объему продаж Waterstone’s. Кроме того, если доля Waterstone’s со временем снижалась, то доля, приходящаяся на онлайн-торговлю (Amazon) и супермаркеты, быстро росла. Для этого и других издательств массовой литературы нетрадиционные торговые точки были растущим каналом, в то время как в традиционных физических книжных магазинах продажи либо не росли, либо демонстрировали спад.
В июне 2011 года HMV Group объявила о продаже Waterstone’s российскому миллиардеру Александру Мамуту за 53 миллиона фунтов стерлингов. HMV столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из‐за снижения продаж и большого количества займов, и продажа Waterstone’s была частью более широкой стратегии, направленной на сокращение общей задолженности и заключение новых кредитных соглашений с кредиторами. Новый владелец Waterstone’s назначил управляющим директором Джеймса Даунта. Будучи основателем Daunt Books, небольшой независимой книжной сети в Лондоне, Даунт приобрел репутацию, управляя привлекательными, высококачественными книжными магазинами, которые обслуживают постоянных клиентов. Управление большой общенациональной сетью книжных магазинов, которая сталкивается с растущим давлением со стороны супермаркетов, Amazon и роста продаж электронных книг, будет для него вызовом совершенно иного порядка.
В дальнейших главах мы еще вернемся к последствиям этих серьезных изменений в розничной книготорговле в США и Великобритании. Но сначала следует рассмотреть другие структурные трансформации издательского поля.
2. Усиление литературных агентов
Появление литературного агента
Вторым фактором, определявшим эволюцию англоязычного массового книгоиздания в последние десятилетия, было усиление роли агента. Литературный агент не новая фигура в издательском поле: первые профессиональные агенты появились в Лондоне в конце XIX века[44]. Механизация технологий печати в XIX веке и повышение уровня грамотности привели к появлению расширяющегося рынка газет, периодических изданий и книг, создав тем самым постоянно растущий спрос на тексты. Неформальные литературные агенты начали появляться в 1850‐х и 1860‐х годах – они размещали объявления в таких журналах, как Athenaeum, разыскивая истории для газет и других изданий. Но первым профессиональным литературным агентом принято считать А. П. Уотта, шотландца из Глазго, который начал свою карьеру в качестве продавца книг в Эдинбурге, затем женился на сестре издателя Александра Стрэна и перебрался в Лондон, где начал работать в издательской фирме Стрэна в качестве редактора рукописей и заведующего отделом рекламы[45]. Когда в середине 1870‐х годов фирма Стрэна столкнулась с трудностями, Уотт стал рекламным агентом, а в 1878 году, когда поэт и прозаик Джордж Макдональд, друг Уотта, попросил его заняться продажей своих рассказов, начал деятельность литературного агента. Первоначально он – как и другие до него – делал это в виде дружеской услуги, но вскоре увидел коммерческие перспективы. К 1881 году Уотт позиционировал себя одновременно как литературного агента и как рекламного. Он начал брать с клиентов плату за выполнение отдельных задач, но вскоре решил перейти к системе, которую использовал в качестве рекламного агента: взимание 10-процентной комиссии с денег, заработанных его клиентами в результате заключенных им сделок. В течение двух десятилетий Уотт был практически единственным в этом поле и к концу XIX века представлял ряд ведущих авторов того времени, в том числе Уолтера Безанта, Томаса Гарди, Редьярда Киплинга и Артура Конан Дойла. Но к тому времени другие предприимчивые люди – в частности, Альберт Кертис Браун и Дж. Б. Пинкер – оценили открывающиеся возможности и вступили в игру, рекламируя свои услуги и конкурируя с Уоттом в качестве агентов писателей.
Первые агенты нередко работали как на авторов, так и на издателей, – зачастую они были, по сути, «двойными агентами», с одной стороны, пытающимися найти издателей и издания для произведений своих авторов, а с другой – помогающими издательствам отчуждать права на серийные издания или отдельные книги. Уотт считал, что его работа заключается в продаже или временной передаче авторских прав, и был рад оказывать соответствующие услуги как издателям, так и авторам. Однако не всем издателям нравилось то, что Уотт иногда работал на издательства; некоторые из них рассматривали агента как угрозу, которая разрушает традиционные отношения между издателем и автором и обесценивает литературу, выводя на первый план коммерческий аспект. Несомненно, именно А. П. Уотта имел в виду издатель Уильям Хайнеманн, когда в 1893 году составил уничтожающий портрет литературного агента: «Это век посредника, – писал Хайнеманн. – Обычно он паразит. Он всегда процветает. В последнее время я в своем деле вынужден уделять ему определенное внимание. У нас он зовется литературным агентом»[46]. Несмотря на презрение Хайнемана, к началу XX века лондонским издателям пришлось смириться с существованием литературных агентов – они стали реальностью издательского поля. Приобретая специализированные знания о различных издательствах, газетах и журналах, заинтересованных в приобретении текстов и готовых платить за них, агенты могли предоставлять авторам широкий набор услуг – включая публикацию текстов у подходящих издателей и в журналах, согласование условий и договоров, получение платежей и авторских отчислений, – которые высоко ценились многими авторами, включая некоторых ведущих писателей того времени.
В США литературные агенты стали появляться примерно в то же время, что и в Англии. Одним из важнейших первых американских агентов был Пол Ривер Рейнольдс, начавший карьеру в издательстве Lothrop в Бостоне, а в 1891 году перебравшийся в Нью-Йорк, где ему предложили работу в качестве американского агента английского издательства Cassell[47]. Хотя его основные обязанности заключались в поиске американских издателей, которые захотели бы публиковать книги Cassell в Америке, и в консультировании Cassell относительно американских книг, которые могли бы заинтересовать издательство, он вскоре начал искать американских авторов, готовых опубликоваться в Cassell. К 1895 году он начал оказывать авторам независимые услуги, предлагая их книги издателям и беря 10-процентную комиссию со сделок, которые он помог заключить. Как и Уотт, Рейнольдс работал в качестве агента как на авторов, так и на издателей. Он мыслил себя посредником, брокером на литературном рынке, помогающим заключать сделки между покупателями и продавцами литературной продукции, кем бы они ни были.
После появления литературных агентов в Лондоне и Нью-Йорке в конце XIX века их число начало расти, а роль стала более определенной. Агенты все отчетливее осознавали, что их интересы связаны с авторами, и их неоднозначная роль двойного агента постепенно трансформировалась в современное представление о литературном агенте как посреднике, отстаивающем интересы авторов, которые фактически нанимают их. Это не означало, что агентов не интересовало благополучие издателей. Им нужно было взаимодействовать с издателями и поддерживать с ними теплые отношения, даже если они больше не работали непосредственно на них. По большей части они считали, что исполняют роль посредника между авторами и издателями и оказывают услуги своим авторам, договариваясь о сделках, которые обе стороны – и авторы, и издатели – сочли бы справедливыми и разумными. Как выразился в 1906 году Кертис Браун, литературный агент «находится между автором и издателем, и он должен сильнее, чем тот и другой, отстаивать важность величайшего трюизма торговли, а именно, что никакая сделка никогда не будет действительно надежной и честной, не будучи выгодной для обеих сторон»[48].
Эта современная концепция литературного агента определяла пути развития профессии на протяжении XX века, но в 1960‐х и 1970‐х годах начали оказывать влияние новые факторы, которые усилили власть агентов и изменили то, как некоторые агенты понимали свою роль. Самым важным из этих факторов было значительное расширение рынка, вызванное ростом розничных сетей. После появления сетей книжных магазинов в торговых центрах в США и последующего открытия сетей суперсторов в США и Великобритании книги начали попадать к потребителям способами и в объемах, которые раньше были просто невозможны. Книги стали продаваться, как и все прочие товары, в торговых центрах и на центральных улицах, и сети использовали для продажи книг те же принципы розничной торговли, что и для продажи музыки, видео и других товаров. В результате стало возможно продавать намного больше книг, и коммерчески успешные книги начали расходиться беспрецедентными тиражами. Поскольку ставки значительно возросли, особенно для авторов бестселлеров, у агентов появились более сильные аргументы для обоснования необходимости увеличения своей доли в растущем потоке доходов их авторов. Чем больше зарабатывали их авторы, тем больше зарабатывали агенты, что позволяло им расширять и развивать бизнес.
Вторым новым фактором было увеличение возможностей использования прав на произведения. Голливуд жаждал материалов, которые можно было превращать в кинофильмы, а издательская индустрия гарантировала стабильный поток историй с хорошим сюжетом, подходящих для экранизации. Кроме того, глобальное доминирование английского языка означало, что книги, написанные и изданные на английском, можно было использовать на множестве рынков по всему миру, как путем продажи прав на англоязычные издания на различных территориях (чаще всего права на издание в США продавались отдельно от прав на издание в Великобритании и Соединенном Королевстве), так и путем продажи прав на перевод (которые опять же в некоторых случаях можно было делить территориально – например, права на испаноязычное издание в Испании можно было продавать отдельно от прав на испаноязычное издание в странах Латинской Америки). Но для эффективного распоряжения правами требовалось специализированное знание различных рынков и значительная административная поддержка. У многих издателей этого специализированного знания не было, и они просто не могли или не хотели предпринимать необходимые согласованные усилия.
Третьим фактором было появление в 1970‐х и в начале 1980‐х годов новой породы литературных агентов, которые пришли в издательское поле извне и совершенно не были привязаны к традиционным практикам издательств и агентов. Они понимали роль агента иначе, не столько как роль посредника между автором и издательством, сколько как роль последовательного защитника интересов авторов, которых они считали своими клиентами. Традиционные агенты, по их мнению, были слишком пронизаны этосом издательского мира; они считали само собой разумеющимися традиционные способы ведения дел и предпочитали умеренность и компромиссы решительной защите интересов авторов, чреватой раскачиванием лодки. У новых агентов этой осторожности не было. Некоторые, вроде Мортона Джанклоу и Эндрю Уайли, появились из ниоткуда, став одними из самых влиятельных игроков в издательском поле; их взлет является как симптомом, так и свидетельством глубокого изменения в характере деятельности агента и в отношениях власти, структурирующих это поле. Не сильно преувеличивая, мы могли бы назвать появление этой новой породы агентов рождением суперагента.
Рождение суперагента
Мортон Джанклоу попал в издательскую индустрию случайно. Он получил юридическое образование и в начале 1970‐х годов работал корпоративным юристом в крупной нью-йоркской юридической фирме; однажды ему позвонил старый приятель по колледжу, Билл Сафир, и спросил, не поможет ли он ему опубликовать книгу о Ричарде Никсоне, которую он хотел написать. Сафир был спичрайтером Никсона и, видя работу Белого дома изнутри, считал, что уотергейтский скандал гораздо крупнее, чем сообщалось в то время; он хотел покинуть администрацию, стать журналистом и написать книгу. Джанклоу ничего не знал о книгоиздании, но согласился представлять старого друга и попробовать найти для него издательство. Он знал двух человек из издательских кругов Нью-Йорка; он позвонил им, встретился с ними за ланчем и попросил прислать копии их стандартных издательских договоров. «Прочтя их договоры, я позвонил обоим и спросил у каждого: „Позволь задать тебе один вопрос: хотя бы один автор в здравом уме подписал этот договор?“ Они ответили: „Этот договор подписывают все. Что тебе в нем не нравится?“ – „Почти все, – сказал я. – С датой и наименованием сторон все в порядке, но дальнейшее – черт знает что“. Я провел небольшое исследование – не потому, что я намеревался заняться этим бизнесом, для меня это было разовое дело, а потому, что Билл был близким другом и я хотел убедиться, что он будет должным образом представлен». Сафир подготовил краткое содержание книги о Никсоне, Джанклоу пригласил в свой офис нескольких издателей, чтобы они посмотрели это краткое содержание, начались ожесточенные торги, и они продали права примерно за четверть миллиона долларов – в то время это был исключительно высокий аванс за нехудожественную книгу.
К тому времени, когда Сафир закончил работу над книгой, уотергейтский скандал разгорелся в полную силу, и вся американская политика была поглощена им. Политический климат изменился, и издательство, с большим энтузиазмом купившее книгу годом ранее, испугалось: они решили, что не хотят публиковать ее, и попросили вернуть деньги. Джанклоу был в ярости. Он пригрозил подать на издательство в суд. «„Никто никогда не заставит издательство выпустить книгу“, – сказал издатель. „О, – сказал я, – я не пытаюсь заставить вас выпустить книгу, я лишь пытаюсь заставить вас заплатить за нее. Вы не должны ее публиковать. Просто отдайте мне четверть миллиона долларов и не публикуйте ее, а я найду кого-нибудь другого, кто ее издаст“». Джанклоу подал иск против издательства, то обратилось в арбитраж, Джанклоу выиграл, и в итоге они оставили деньги себе и продали книгу другому издательству. «Мой клиент был счастлив, его репутация спасена, его книга опубликована, а я мог вернуться к своей юридической практике. Но тут словно открылись шлюзы. Люди начали звонить мне и говорить: „Знаете, мой агент никогда бы так не сделал. Мой агент – посредник между мной и издательством, он не защищает мои интересы“». К Джанклоу приходило все больше авторов, которые спрашивали, не хочет ли он их представлять, и довольно скоро его остальная юридическая практика отошла на второй план. Поэтому он решил сменить профессию и открыть литературное агентство.
В то же время он все сильнее осознавал, что многие авторы стимулируют людей покупать книги больше, чем издательства. «Однажды я зашел в книжный магазин, чтобы лучше узнать розничную сторону бизнеса, и понял, что никто не приходит и не говорит: „Что нового от Knopf?“, „Что нового от Simon & Schuster или HarperCollins?“ Они говорят: „Где новый Крайтон?“, „Где новый Том Вулф?“ Это значит, что писатель – звезда, как в кинобизнесе. Никто не идет смотреть фильм от Paramount, они идут смотреть новый фильм с Томом Крузом. Поэтому я начал вести переговоры как человек, считающий, что он контролирует эти переговоры. В издательском мире так никогда раньше не делали, хотя чего проще». Он не чувствовал себя скованным традиционными практиками и условностями издательского мира, поскольку не вырос в этом мире и не чувствовал к нему особой привязанности. «Другие агенты в то время обычно держались старых правил. Они считали себя партнерами писателя; они были литературными деятелями, а не юристами. Автор говорил: „Я хочу это“, а они отвечали: „Ты не можешь получить это, издательство никогда не даст тебе это“, и на этом все заканчивалось. Меньше всего они занимались защитой интересов. Они просто давали советы». Джанклоу, напротив, придерживался мнения, что сильная позиция – у автора, а не у издательства, и его работа как литературного агента должна заключаться в отстаивании интересов автора и пересмотре условий договора, если он полагает, что они несправедливы по отношению к автору. Например, Джанклоу не хотел соглашаться с тем, что издательство, заключив договор с автором, должно сохранять за собой одностороннее право отклонить рукопись, предоставленную автором, если сочтет ее неприемлемой:
Я добавил пункт, в котором говорилось о необходимости применения определенного стандарта при оценке приемлемости рукописи. Издательство не могло просто решать само, что рукопись неприемлема. Когда вы заключаете договор, вы выбираете книги. Автору принадлежат вот эти три книги, и теперь издательство соглашается, что, если книга, указанная в договоре, написана в соответствии с этим стандартом, она считается приемлемой, и никакие изменения экономических обстоятельств между датой заключения договора и датой предоставления рукописи не могут повлиять на ее принятие. Это была совершенно новая концепция, такого никогда прежде не делали. Люди были возмущены, и в течение двух-трех лет некоторые издательства отказывались заключать договоры. «Хорошо, не берите этого автора, – говорил я, – я продам его куда-нибудь еще. Я сломаю эту систему».
Отчасти благодаря деятельности таких посторонних, как Джанклоу, традиционная модель взаимоотношений в издательском поле была подорвана. Агенты начали более энергично защищать права авторов, считая себя не столько посредниками между автором и издательством, сколько верными стражами интересов своих клиентов. Они воспринимали свою задачу в первую очередь как задачу юридическую и финансовую и лишили издательства центрального положения, взяв под контроль права на произведения клиентов и закрепив за собой возможность решать, какие права предоставлять какому издательству и на каких условиях. Для них издательство было не главным игроком в поле, а просто средством получения того, чего они хотели достичь от имени своих клиентов, а именно – максимально эффективного и успешного выведения произведения на рынок. Традиционные отношения власти между автором и издательством постепенно сменили полюс. «Мы перешли от ситуации, когда издательство было королем, а автор испытывал к нему благодарность за возможность представить свое произведение публике, к ситуации, когда королем становится автор и мы с ним используем издательство в качестве инструмента для вывода книги на рынок».
Мортон Джанклоу построил чрезвычайно успешное агентство на основе прагматичного юридического и коммерческого подхода, который мало соответствовал традиционным издательским практикам. Его агентство обычно сохраняло за собой права на экранизацию и перевод и уделяло много внимания максимально эффективному распоряжению этими правами: «Мы дирижируем способами использования этих прав и их связями между собой. В тот день, когда я закрываю сделку, каждая ее часть является симфонией, и каждый фрагмент должен быть сыгран в нужном ключе и вовремя»[49]. Права на переводы, права на фильмы, права на сериалы – все это части симфонии, которая при тщательном управлении может сделать книгу коммерчески успешной. Он увеличил свою комиссию до 15%, чтобы покрывать расходы большого офиса с многочисленными сотрудниками, которые занимаются управлением правами на перевод и авторскими отчислениями, – сегодня эта комиссия стала более или менее стандартной в отрасли. Клиентами Janklow & Nesbit, как теперь называется агентство, являются некоторые из самых успешных в мире авторов коммерческой художественной литературы, такие как Даниэла Стил, Джудит Крэнц и Джеки Коллинз, а также многие известные авторы серьезной художественной и нехудожественной литературы.
Эндрю Уайли, как и Джанклоу, пришел в мир книгоиздания извне. Журналисты обычно называют его «шакалом», поскольку он (печально) известен готовностью переманивать авторов у других агентов, а также тем, что упорно добивается высоких авансов, чем вызывает у коллег гнев и уважение, примерно в равных пропорциях. Когда в 1980 году он решил открыть литературное агентство, у него не было опыта в издательском деле; его отец был редактором в Houghton Mifflin, а сам он изучал романские языки и литературу в Гарварде, но в книгоиздательском бизнесе был новичком. Поскольку в университете он изучал сравнительное литературоведение, его интересовали не столько бестселлеры коммерческой художественной литературы, сколько высокохудожественные произведения, которые будут продаваться долго. Он задался вопросом, сможет ли он построить жизнеспособный бизнес, представляя авторов, которые пишут качественную литературу. Познакомившись с работой крупных нью-йоркских агентств того времени, он был поражен тем, насколько тесные отношения они поддерживали с издательствами:
Когда я присмотрелся к крупным агентствам, то увидел, что деньги текут от издательства к агенту, а потом к автору. Из-за такого направления потока доходов крупные агентства имели очень тесные связи с издательствами, они, по сути, делили с ними постель, а писатели были темными, ничего не знающими, сентиментальными, сосредоточенными на себе глупцами, детьми. Агентства нанимали их, чтобы поддерживать отношения с издательскими компаниями. Я сталкивался с невероятными случаями, когда агентства полагали, что должны хранить верность прежде всего издательствам. Я же понял – в то время это была революционная мысль, звучит странно, но это правда, – что это писатель нанимает меня. И моя работа состоит в том, чтобы использовать силу работодателей – не мою собственную, а силу моих работодателей, – чтобы действовать непосредственно в их интересах при взаимодействии с издательским сообществом, которое могло делать то, что я хотел, лишь благодаря нашей силе, благодаря тому, кого мы представляли. Так что мне нужно было большое количество работодателей. Они должны были быть очень высокого качества; с помощью качества мы могли, так сказать, загнать рынок в угол и поднять цену.
Тремя ключевыми компонентами стратегии Уайли были создание критической массы качественных авторов, предельная внимательность и агрессивность при отстаивании их интересов и выход на международный рынок. В отличие от Джанклоу, Уайли сознательно помещал себя на качественном полюсе литературного рынка, отчасти потому, что это соответствовало его собственным литературным вкусам («Я хотел получать удовольствие от жизни, поэтому не желал читать Даниэлу Стил»), отчасти потому, что там было меньше конкуренции, и отчасти потому, что он считал, что это более подходящий способ строить бизнес в долгосрочной перспективе. Конкуренции было меньше, поскольку в то время – около 1980 года – большинство агентов и издательств делали ставку на авторов бестселлеров, книги которых можно было продавать в больших объемах через розничные сети. Том Клэнси, Стивен Кинг и Даниэла Стил пользовались большим спросом, в то время как Филипа Рота, Сола Беллоу и Салмана Рушди в основном не замечали. Это был лучший способ строить бизнес в долгосрочной перспективе, потому что он был ориентирован на книги из бэк-листа: продажи были ниже, но они были более долгими и, следовательно, приносили более стабильный и менее рискованный доход в долгосрочной перспективе. «Лучше всего – иметь в своем списке сотню авторов, которых будут читать сто лет, а не двух авторов, которых прочтут через сто дней. Поэтому простите, но мы будем требовать более выгодных условий, более точной оценки вклада, вносимого в финансовые показатели издательства автором вроде Рота».
Уайли решил создать большую клиентскую базу авторов, которые писали качественную, с его точки зрения, литературу, как художественную, так и нехудожественную. У некоторых не было представителей, но у многих они были, и он начал прибегать к своей неоднозначной практике переманивания авторов: он звонил тем из них, кого, как он знал, уже представляли другие агенты, и рассказывал о недостатках их нынешних договоренностей, например обращая их внимание на то, что некоторые из их ранних книг больше не числятся в продаже и что, если бы агент приложил необходимые усилия, все они могли бы быть возвращены в продажу, или что их книги недоступны на языках и в странах, где могли бы хорошо продаваться. Многие агенты считали эту практику недопустимой: она нарушала нормы, которых, по их мнению, должно придерживаться сообщество агентов. «Это отвратительно, – сказал один из агентов, явно раздраженный подобной практикой. – Это как увести у кого-то девушку». Но у Уайли подобных моральных терзаний не было:
Думаю, было бы глупо или странно – или и то и другое – полагать, что никто не будет переманивать. Это значило бы притворяться, что книгоизданием занимаются представители социальной элиты, ведущие какую-то джентльменскую игру, и эта джентльменская игра разыгрывается в ущерб автору. Если автор, как независимый заказчик, платит гонорар агенту, чтобы тот должным образом следил за его делами, а за делами не следят должным образом, автор, мне кажется, имеет право знать об этом. Они имеют право знать о разнице между агентством, которое не знает о том, что в Нидерландах права автора не используются, и агентством, которое это знает. Они должны платить агенту, который знает, что эти права доступны в Нидерландах, и может продать их с помощью одного телефонного звонка, а не агенту, у которого нет системы, чтобы выяснить, что их книги недоступны в этой стране. Так что, если честно, пусть катятся к черту.
Уайли занимался бизнесом не для того, чтобы сделать комфортной жизнь других агентов, а чтобы улучшить положение авторов, которые писали качественные тексты и которых он хотел представлять, и если в процессе ему приходилось трепать перья других агентов – что он и делал, – то так тому и быть.
Второй аспект стратегии Уайли состоял в том, чтобы чрезвычайно внимательно и агрессивно отстаивать интересы клиента. Необходимо было тщательно разобраться в потребностях и желаниях каждого клиента, поскольку у каждого их них свои запросы, и затем выполнять пожелания клиентов максимально эффективно, добиваясь их удовлетворения. И чем сильнее его клиентская база в целом, тем больше он способен достичь того, чего хочет каждый отдельный клиент. «Если новый автор скажет: „Я хочу перепрыгнуть через стену“, я отвечу: „Это можно устроить“. Он скажет: „Но я маленький человек, как вы можете перенести меня через стену?“ Я отвечу: „Знаете, мы представляем пятьсот авторов, вы просто заберетесь им на плечи“». Уайли также не стесняется агрессивно отстаивать интересы своих клиентов, особенно при обсуждении авансов. «Нас, как агентство, критикуют за то, что мы агрессивно добиваемся того, чтобы Филипу Роту, Салману Рушди и Сьюзан Зонтаг платили большие деньги. Но им платят совсем не большие деньги. Большие деньги платят Даниэле Стил и Тому Клэнси. Том Клэнси получает 35 миллионов долларов за книгу. Майкл Крайтон получает 22 миллиона долларов за книгу. Филип Рот получает 22 миллиона долларов за всю свою жизнь. Но через 20 лет продаваться будет только Филип Рот».
Почему же Уайли столь решительно добивается больших авансов для своих авторов? Как и многие агенты, он полагает, что единственное, что обеспечит поддержку книги издательством и ее активное продвижение, – размер выплаченного аванса: чем больше они платят, тем больше они вкладываются в книгу, уделяют ей первоочередное внимание, привлекают к ней ресурсы и стараются сделать ее успешной – «это железный закон».
Единственное давление, на которое реагирует издательство, – это давление расчета прибыли и убытков, который они делают, когда приобретают книгу. Поэтому, если ты продаешь книгу, нужно добиваться большого аванса. Тираж напрямую зависит от аванса, выплаченного автору, не от впечатления от книги вроде: «Ах, это „Волшебная гора“, а вот это – нет», а скорее от: «Ах, я заплатил Томасу Манну миллион долларов, а тому – 100 000 долларов». Если я заплатил Томасу Манну миллион долларов, я напечатаю 200 000 экземпляров. Если я заплатил тому 100 000 долларов, я напечатаю 30 000 экземпляров. Все решает расчет прибыли и убытков, в основе которого лежит цена.
Многие издатели не согласятся с такой приземленной оценкой того, как они устанавливают приоритеты и распределяют ресурсы, и редакторы и директора по продажам привели бы множество примеров, опровергающих железный закон Уайли. Но то, что некоторые агенты исходят из допущения действенности этого закона, – и некоторые аспекты работы крупных издательств, несомненно, как мы увидим, подтверждают это допущение, – означает, что выбивание больших авансов стало базовым принципом в некоторых секторах агентского мира.
Третьим элементом стратегии Уайли было расширение деятельности агентства на международном уровне. Это было важно, потому что «качественная литература продается долго и в международном масштабе», и если у вас есть системы, позволяющие эффективно распоряжаться правами на международной арене, вы можете обеспечивать существенный дополнительный поток доходов как для автора, так и для агентства. Но у большинства агентов не было хороших систем для управления международными правами. Они либо делали это плохо и неэффективно, либо полагались на субагентов, действовавших от их имени на иностранных рынках, либо уступали права на перевод издательству, которое приобретало права на издание на английском языке. По мнению Уайли, обычно ни субагенты, ни англоязычные издательства не мотивированы так, как агент, который тесно сотрудничает с автором. «Если вы понимаете цели автора, вы можете вести дела по всему миру с таким же энтузиазмом, как и здесь, в США». Например, когда Филип Рот выпускает новую книгу, знающий свое дело агент может заключить сделку о правах на перевод в Испании или Италии не на одну, а на 27 книг. Тщательно управляя авторскими правами, он может сделать так, что после истечения срока действия договоров на существующие испанские или итальянские издания его книг права могут быть переданы новому издательству. «Теперь у нового издательства есть 27 книг Рота, и я не могу сказать, насколько они мотивированы. Они заплатили много денег за новую книгу и много денег за все старые книги. Внезапно появляется достаточная масса, чтобы Филип Рот приблизился – с точки зрения поддержки Рота издательством – к уровню Тома Клэнси или Даниэлы Стил. Внезапно поле для игры выравнивается, а если поле ровное, то Шекспир побеждает». Агент, будучи распорядителем авторских прав своих клиентов, обычно может определять, какие права отдать каким издательствам. Издательство может хотеть приобрести всемирные права на издание на всех языках и может намекать на желание принять участие в торгах за них, но именно агент вправе, посоветовавшись с автором, принять решение об уступке всемирных прав или об их фрагментации для разных языков и регионов. Не приводит ли это к конфликтам с издательствами? «Стычки бывают, – говорит Уайли, – но не настолько серьезные, чтобы их можно было назвать драками». Как мы увидим, крупные издательства превратились в глобальные корпорации с филиалами, работающими во многих странах и на разных языках, но на этой новой глобальной арене печатного слова ключи находятся в руках у агента, а не у издательства.
Эндрю Уайли остается в чем-то посторонним, даже парией в мире литературных агентов, и его готовность переманивать авторов от других агентов воспринимается многими его коллегами с презрением. Но даже те из них, кто с неприязнью относится к его методам, как правило, признают, что он изменил правила игры. «Эндрю совершенно не вписывается в истеблишмент, – заметил один влиятельный агент. – Он блестящий человек, и он невероятно успешен. Он работает вне системы, и я думаю, что он оказал большое влияние, особенно на деятельность некоторых молодых агентов. Вероятно, он изменил облик агентств больше, чем кто-либо другой за последние 15 лет».
Распространение агентов
Мортон Джанклоу и Эндрю Уайли олицетворяли собой новую породу литературных агентов, которые пришли в поле в 1970‐х и 1980‐х годах со стороны и предложили гораздо более напористый и агрессивный подход к защите интересов своих клиентов, чем подход многих агентов в прошлом. Не все агенты последовали примеру Джанклоу и Уайли или одобрили их методы, но, поскольку размеры и влияние их агентств росли, другим агентам было трудно это игнорировать. Они были образцами – хоть и спорными – нового типа литературного агента и нового стиля деятельности, многие черты которого получали все большее распространение в 1980‐е и 1990‐е годы.
В эти десятилетия в столичных центрах англоязычной книготорговли – в Нью-Йорке и Лондоне – наблюдался взрывной рост числа агентов. Удивительно, но точных статистических данных о росте числа агентов за последние пару десятилетий не существует. Ассоциация представителей авторов – профессиональная ассоциация литературных агентов – в 2008 году насчитывала 424 члена, но это почти ни о чем не говорит, поскольку многие агенты и агентства, в том числе ряд самых крупных и влиятельных, не входят в Ассоциацию. Один нью-йоркский агент насчитал в Америке 1500 агентов, «97 процентов из которых находятся в Нью-Йорке – сердце мейнстримного книгоиздания», но это лишь грубая прикидка. Отсутствие точной статистики отчасти отражает то, что деятельность литературных агентов всегда была и остается нерегулируемой профессией. Любой или любая может стать литературным агентом – нужно лишь назвать себя агентом, подключить телефон (а теперь и интернет) и продемонстрировать некоторое, пусть даже незначительное, знание того, как работает индустрия.
Несмотря на отсутствие точных данных о количестве агентов, работающих сегодня в США и Великобритании, и о том, как эти цифры менялись с течением времени, мы можем получить некоторое представление о росте их численности, изучив имена агентов и названия агентств, упоминаемых в книжных сделках последних лет. Publishersmarketplace.com – онлайн-сервис, на котором размещается Publisher’s Lunch, популярный информационный бюллетень для издателей и агентов, – отслеживает имена агентов и названия агентств, появляющиеся в сделках в США, Канаде и Великобритании с 2004 года. Их данные не являются исчерпывающими: они охватывают только сделки, о которых им сообщила одна из сторон, плюс небольшое количество сделок, информация о которых получена из публикаций третьих сторон, поэтому агенты, заключающие небольшие сделки на периферии поля, почти не попадают в их статистику, но их данные представляют собой единственную крупномасштабную подборку информации о книжных сделках в англоязычном мире. В таблице 5 показано количество агентов и агентств, участвовавших в книжных сделках, по данным publishersmarketplace.com за период между 2004 и 2008 годами. В 2004 году в сделках фигурировало 811 имен агентов; к 2008 году это число возросло до 1018, увеличившись на 25%. В 2004 году фигурировало 471 название агентств; четыре года спустя это число возросло до 569 – рост на 20%. Несмотря на то что эти данные не являются исчерпывающими и касаются только короткого периода между 2004 и 2008 годами, они свидетельствуют о значительном росте числа агентов и агентств в поле.
Источник: Publishersmarketplace.com, 2009.
Почему же за последние годы и десятилетия число агентов значительно выросло? Отчасти это объясняется увеличением количества высококвалифицированных специалистов в области книгоиздания, которые либо оказались без работы, либо были недовольны направлением своей карьеры. Увеличение предложения было обусловлено главным образом изменениями, которые происходили в это время в самих издательствах (эти изменения будут более подробно рассмотрены в следующей главе): по сути, в результате усиливающейся консолидации издательств за бортом оказались многие издатели и менеджеры, в том числе известные и опытные издатели, прекрасно знающие отрасль. Другие не оказались за бортом, но были вынуждены работать на крупные корпорации, которые заставляли их вести себя по-новому, и некоторые предпочли уйти и открыть агентства, а не приспосабливаться к новым практикам, которые им не нравились. «В 90‐е многие издатели, как и я, стали агентами», – рассказал один лондонский агент.
Мы пошли в агенты отчасти потому, что стали жертвами консолидации отрасли и для людей вроде нас не оказалось рабочих мест, а отчасти потому, что нам хотелось попробовать. Я хотел посмотреть, каково быть агентом, – это было 15 лет назад, и я могу сказать, что это довольно неплохо. Ты совершенно свободен. Тебе не нужно заручаться поддержкой коллег, чтобы делать то, что ты хочешь. Мы, агенты, не консультируем друг друга по поводу авторов, с которыми работаем. В издательстве редакция должна принимать коллективные решения. Здесь – при условии, что ты оплачиваешь счета, платишь за себя, – полная свобода действий. Здесь почти нет бюрократии, которая сегодня стала бичом книгоиздания. И еще одно – ты близок к источнику. Я работаю в книгоиздательском бизнесе, потому что мне нравится работать с авторами, а будучи агентом, ты обычно первый контактируешь с автором.
Но рост предложения со стороны высококвалифицированных специалистов – только часть объяснения; другая сторона этой истории – увеличение спроса на агентов. У него были разные причины, но особенно важны две. Во-первых, по мере консолидации издательств редакторы становились все более мобильными. Одних заставили уйти, другие ушли сами; некоторых переманили новые корпорации, открывающие свои издательские программы, другие перешли в новые компании в поисках лучшей зарплаты и более интересной работы. Это было время турбулентности и перемен; традиционные связи между авторами и редакторами разрушались. «Авторы видели, что их интересы не защищаются, – рассказал один агент. – Им приходилось либо оставаться с издательством и терять своего редактора, либо уходить с редактором и терять позицию в бэк-листе. Поэтому им нужен был кто-то, кто действительно на их стороне». Агент все чаще становился главной точкой контакта писателя с издательским миром. У большинства авторов не было ни времени, ни желания пытаться идти в ногу с изменениями, происходящими в отрасли, – большинство, как объяснил тот же агент, «абсолютно ничего не понимали в этом бизнесе, в который они были косвенно вовлечены». Им нужен был агент, который бы отстаивал их интересы и взаимодействовал с миром, с каждым днем становящимся все менее личным и все более корпоративным, сложным и коммерческим.
Авторы все больше нуждались в агентах и еще по одной причине: в 1980‐е и 1990‐е агент фактически стал обязательной точкой входа в поле книгоиздания. В 1970‐х и раньше агент был для автора дополнительной опцией; многие авторы издавались в крупных издательствах и работали с редакторами напрямую, без посредничества агента. Однако к концу 1990‐х агент стал необходимостью: автор, который хотел опубликоваться в крупном издательстве, теперь нуждался в агенте. Конечно, были исключения. Даже в крупных корпоративных издательствах в начале 2000‐х годов авторы иногда подписывали договор непосредственно с издательством и не имели агента, хотя подобные случаи были редкостью (и становились все более редкими). «Я могу вспомнить только одного или двух авторов, у которых нет агентов, и оба сейчас ищут их себе, – сказал один старший редактор из крупного нью-йоркского издательства. – Если бы у меня были договоры на сотню книг, то где-то 3–5 процентов авторов были бы без агента или адвоката». Фактически большинство крупных издательств в Нью-Йорке и Лондоне больше не принимают предложения от авторов, у которых нет агентов, и если они получают такое предложение – возможно, по чьей-то рекомендации, – они обычно предлагают потенциальному автору нанять агента.
На первый взгляд это может показаться неожиданным: почему редакторы и издатели должны поощрять авторов привлекать агентов, если они знают, что агенты, скорее всего, захотят повысить ставки и заключить более выгодную для автора сделку, чем сделали бы большинство авторов, если бы они были предоставлены сами себе? Отчасти ответ заключается в том, что большинство редакторов и издателей не хотят обсуждать с авторами финансовые аспекты и детали договора. Они предпочитают разделять творческий процесс сочинения и редактирования и деловые аспекты согласования авансов и договоров и считают, что проще и удобнее, если деловыми аспектами будут заниматься агенты, которые, как и они, являются профессионалами в издательском деле. Агент может сидеть по другую сторону стола, но, по крайней мере, они сидят за одним столом и знают правила игры. Работа с агентами упрощает процесс переговоров, даже если это поднимает ставки, потому что агенты уже много раз вели переговоры и «знают, что просить», как сказал один старший редактор. Это позволяет не тратить впустую время и усилия, которых требует обсуждение тонкостей договора, не имеющих большого значения. Это также избавляет редактора от необходимости слишком плотно общаться с авторами изо дня в день. «Сегодня у них нет времени, – объяснил один агент, – поэтому они не хотят, чтобы кто-то звонил им ночью, они не хотят, чтобы кто-то звонил им утром, они не хотят выслушивать подробности чьего-то развода. Агент отбирает то, что можно ретранслировать, объясняет какие-то вещи, которые нужно объяснить, и редактор получает краткую версию, а не еще один 45-минутный разговор. Я веду с авторами длинные разговоры, которые не приходится вести редакторам». Многие редакторы и издатели также знают, что хороший агент может помочь автору развить свои идеи и улучшить качество произведения, что добавляет реальную ценность. Это особенно важно для начинающих авторов, которые все еще ищут свой путь. «Три головы часто лучше двух», – сказал тот же редактор. Но есть и другие причины, более глубокие, которые позволяют объяснить, почему издатели и редакторы в крупных издательствах предпочитают, чтобы их авторы имели агентов.
По мере консолидации издательств рабочая нагрузка отдельных редакторов увеличивается, и они все больше полагаются на агентов в отношении первичного отсева проектов: редакторы, по сути, отдают агентам первоначальный процесс отбора. «Издательства воспринимают нас в качестве первых читателей, – сказал один старший агент. – Они предполагают, что, если что-то приходит от агентства, на это стоит взглянуть, независимо от того, делают ли они потом предложение или нет». Это в определенной степени упрощает работу редакторов, поскольку они могут рассчитывать на то, что агенты будут искать новые таланты, просматривая литературные журналы, посещая писательские конференции и литературные фестивали, заглядывая в университеты и т. д. Не менее важно и то, что на агентов можно переложить обязанность копаться в приходящих самотеком письмах, электронных сообщениях и рукописях в поисках случайной жемчужины среди немыслимого количества поступающего мусора. Агенты – первый фильтр в системе отбора, через которую новые книжные проекты попадают в издательский бизнес. По большей части именно агенты, а не редакторы или издатели должны открывать новые таланты, находить новых многообещающих, по их мнению, авторов и работать с ними, превращая идею или черновик рукописи в то, что редактор или издатель сочтет привлекательным проектом и потенциально успешной книгой. Это может быть очень сложный и трудоемкий процесс. Зачастую он заканчивается ничем, хотя иногда может появиться рукопись, при определенном руководстве со стороны агента способная превратиться в проект, за который возьмется издательство и который окажется крайне успешным.
Однако передача процесса первоначального отбора агентам – не просто вопрос снижения нагрузки на редакторов и издателей, это также вопрос распределения рисков, связанных с оценкой. Как мы увидим позже, одна из ключевых характеристик массового книгоиздания заключается в том, что для значительной части новинок (не считая книг известных авторов) никто на самом деле не понимает, насколько хорошо будет продаваться новая книга. Это очень рискованный бизнес, в котором большую роль играет случайность. Поэтому редакторы и издатели постоянно ищут способы подтверждения рискованных суждений, которые они должны выносить всякий раз, когда решают взять книгу нового автора или книгу автора, у которого нет однозначной истории продаж и устоявшейся читательской аудитории. В этом контексте то, что агент взял автора и книжный проект, важно уже само по себе, и здесь огромное значение имеет личность агента, потому что редакторы и издатели начинают доверять определенным агентам как надежным поставщикам контента. В основе массового книгоиздания лежит то, что я буду называть паутиной коллективной веры: при отсутствии четких подтверждений определенного суждения поддержка доверенного агента создает уверенность в авторах и книгах. В бизнесе, в котором любое суждение изначально рискованно, а успех часто зависит от множества незаметных и непредсказуемых факторов, получение новых книг от агентов, с которыми у вас схожие вкусы и представления и которые доказали, что они умеют находить новые таланты, становится вполне понятным – хотя и подверженным многочисленным ошибкам – способом распределения рисков.
Таким образом, хотя на первый взгляд интересы издательств и агентов могут показаться диаметрально противоположными, на практике они объединены в систему взаимозависимости и взаимной выгоды, которая дает определенные преимущества обеим сторонам. Агентам нужны издательства, в идеале – множество издательств, чтобы размещать книги своих авторов, добиваться больших авансов и обеспечивать – или пытаться обеспечить – эффективное продвижение и продажу их книг. Но редакторы и издатели тоже теперь воспринимают агентов в качестве необходимых игроков в поле, на которых они могут перекладывать выполнение определенных задач, заниматься которыми у них больше нет времени или желания, и чьи суждения и послужные списки представляют собой ценный ресурс при принятии решений. Авторы, со своей стороны, сегодня чаще всего должны найти агента, если хотят опубликоваться в известном издательстве, поскольку у них мало шансов пристроить свою книгу в крупное издательство без помощи агента (хотя, как мы увидим, это не относится к авторам, согласным публиковаться в небольших независимых издательствах на периферии поля).
Агенты и агентства значительно различаются по размерам, возможностям и влиянию: как и издательский мир в целом, мир агентов имеет иерархическую структуру. Агентства различаются в диапазоне от зарекомендовавших себя мультимедийных агентств с многочисленными подразделениями, для которых книгоиздание – лишь одно из направлений деятельности (пример – ICM (International Creative Management) и Curtis Brown), до небольших бутиковых агентств, располагающихся в маленьких офисах или даже дома у агента, со множеством вариаций и градаций между этими полюсами. Однако даже крупнейшие агентства – относительно малочисленные организации. Лишь в немногих из них работает больше десяти агентов, занимающихся исключительно книгами, хотя сюда добавляется еще служба поддержки. (Общая численность сотрудников Curtis Brown, одного из самых больших и диверсифицированных агентств в Лондоне, составляет всего 65 человек, 33 из них – агенты, 10 из которых занимаются книгами[50].) Как и в случае издательств, положение любого агентства в этом иерархическом мире зависит от видов и объема капитала, которым они обладают, – от их экономического капитала (в большинстве случаев весьма небольшого), человеческого капитала (сотрудников и особенно агентов), социального капитала (сетей и контактов), интеллектуального капитала (контролируемых ими прав, в том числе авторских) и символического капитала (престижа и уважения, которым они пользуются у других игроков в поле). Любой индивидуальный агент может распоряжаться частью капитала, накопленного агентством, на которое он работает, – не только финансовыми ресурсами агентства, но и сетями и контактами, а также репутацией, которую агентство приобрело в поле, – и это, несомненно, облегчает его работу. Но все агенты, независимо от статуса, должны приносить доход, налаживая собственные контакты, формируя собственный список клиентов и зарабатывая собственную репутацию в поле. Как они это делают?
Формирование списка клиентов
Мир агентских практик очень разнообразен – единого согласованного набора процедур нет. Способы работы варьируются от агента к агенту и от агентства к агентству, и проблемы, с которыми они сталкиваются, зависят от того, кто они, какое у них образование и опыт и какие книги они продают. В некоторых случаях владелец агентства или партнеры приглашают к себе на работу людей, имеющих определенный статус в отрасли, – так часто было с успешными редакторами, которые оказались за бортом в результате консолидации индустрии или которым перестала нравиться их работа и они захотели что-то поменять в жизни. Эти люди приносили с собой большой социальный капитал, так как долго были в бизнесе и имели множество связей с редакторами и авторами. Они также обладали глубоким инсайдерским знанием книгоиздательского бизнеса и хорошим чутьем в отношении того, что нужно редакторам и издателям. Когда такой человек приходит в агентство, он может унаследовать некоторых клиентов от агента, который слишком загружен либо вышел или готовится выйти в отставку, но им также нужно заниматься активным поиском новых клиентов. Один агент, который ранее был редактором, описал этот процесс следующим образом:
Когда я пришел сюда, мне по наследству перешло около десятка авторов, которые уже были клиентами, от агента, вышедшего в отставку. Для меня это было действительно хорошо, потому что у меня было с чего начать, но этого было недостаточно. Поэтому я начал искать дальше. Я начал ходить в школы творческого письма. Я воспользовался знакомством с директором одной из таких школ и сказал ему: «Могу я прийти поговорить со студентами?», а потом мы пошли обедать, и он рассказал мне, кто хорош, и т. д. Все играют в эту игру. Я писал письма многообещающим авторам, которые, на мой взгляд, писали интересные вещи. Одному из своих любимых клиентов, когда у него вышла статья в журнале, я написал: «Мне кажется, вам следует написать книгу», в результате получилась очень успешная книга, и автор теперь признанный романист. И так далее и тому подобное.
Помимо такого активного поиска клиентов, многие агенты находят новых клиентов среди авторов, которых им рекомендуют другие их клиенты, выступающие для агентов скаутами, или другие агенты, слишком занятые, чтобы брать новых клиентов, или даже издатели, иногда направляющие к ним авторов. «Издатели, которые считают, что у авторов должны быть агенты, говорят: „Знаете, такой-то уже несколько лет в таком-то агентстве, он формирует свой список – почему бы вам не поговорить с ним?“ – сказал агент, процитированный выше. – Думаю, они считают, что у этих авторов неизбежно будут агенты, и они хотят, чтобы у них были агенты, которых они хотят, а не те, которых не хотят».
Редактору или издателю, становящемуся агентом, обычно гораздо проще сформировать свой список клиентов, чем молодому агенту, который начинает с позиции ассистента, а затем медленно продвигается вверх, хотя многие агенты начинают именно так. В основе издательской индустрии – как в литературных агентствах, так и в издательствах – по-прежнему лежит модель ремесленного обучения. «Чтобы расти, нужно работать под руководством наставника, – сказала одна молодая женщина, которая начинала как ассистент и работала агентом около года. – Очень многое построено на связях. Нельзя пройти курс о том, как стать литературным агентом. Чтобы этому научиться, нужно поработать в агентстве». Становясь после прихода в агентство ассистентом действующего агента, вы узнаёте, как устроен бизнес, и постигаете тонкости ремесла. Вы также проникаетесь духом агентства, в котором работаете, или агента, на которого работаете, овладевая их особыми способами ведения дел. У каждого агентства свои характер и культура, часто обусловленные личными взглядами и ценностями основателя или основателей, которые остаются активными во многих агентствах, и молодые сотрудники, стремящиеся стать агентами, обычно ориентируются на агента или агентство, на которое работают. Хотя большую часть времени они разбирают корреспонденцию и выполняют поручения начальника, многообещающим ассистентам часто предоставляется возможность начать формировать собственный список клиентов. Помимо основной зарплаты, они могут получать небольшую комиссию за заключенные сделки. Некоторых клиентов начинающему агенту может передавать начальник, перегруженный работой, других он находит в потоке самотека или они сами пишут ему, а кого-то из клиентов молодой агент обнаруживает на какой-нибудь писательской конференции либо ему попадается его статья или рассказ в журнале или газете. Такого рода амбициозные агенты особенно сильно хотят найти новый талант, потому что это единственный способ продвинуться по карьерной лестнице в агентском бизнесе.
Некоторые ассистенты в конечном счете получают возможность продвинуться и стать агентом в агентстве, в котором они работают, хотя обучение может занимать длительное время. «Если честно, с того момента, как вы войдете в дверь и займете место ассистента, пройдет где-то пять лет, прежде чем вы сможете полностью и уверенно называть себя агентом, – сказала старший агент, прошедшая всю служебную лестницу и обучившая множество молодых агентов. – Неважно, продали вы к тому моменту пять книг или пятьдесят. Чтобы разобраться в нюансах, нужно пять лет». Одни ассистенты продолжают усердно трудиться и постепенно получают больше свободы для формирования своего списка клиентов, другие же приходят к выводу, что им стоит сменить агентство, чтобы получить достаточно времени и пространства для развития карьеры. «Я зарабатывала очень мало и не могла придумать, как завести свой собственный список, – рассказала одна девушка-агент. – Если звонил кто-то из крупных клиентов моей начальницы, а ее не было, все настолько привыкли, что я была их ассистенткой, что даже просили переключить на меня, хотя я больше не была ассистенткой, и спрашивали: „А можешь прочитать мой роман за ночь?“, и, конечно, я делала это, потому что все еще работала на агентство, а это был наш крупнейший клиент. Но это реально выматывало». Поэтому девушка перешла в другое агентство, которое искало человека на должность младшего агента, где у нее появилось больше свободы для собственной работы и формирования списка клиентов и она не была ограничена ожиданиями, связанными с ее предыдущей работой в качестве ассистентки.
Некоторым таким младшим агентам платят полную зарплату, другим – низкую базовую плюс комиссионные, а третьи зарабатывают только на комиссионных. В тех случаях, когда агент получает только комиссионное вознаграждение, оно делится по договоренности с агентством, то есть полученная агентством комиссия в размере 10–15% распределяется по договоренности между агентом и агентством в той или иной пропорции, начиная со скромной доли в 20–30%, чтобы стимулировать младшего агента, который занимается в основном административной работой, и заканчивая пропорцией 50 : 50 (50% агенту и 50% агентству), 60 : 40 или даже, в случае наиболее опытных агентов или агентов, работающих из дома, 80 : 20. Агенты, работающие только за комиссионные, получают комиссию либо по факту продажи книги, либо в результате «лотереи». «Лотерея – это когда твое агентство предполагает, что ты заработаешь X тысяч долларов в год на комиссионных, и платит тебе так, как если бы ты их заработала, – объяснила одна девушка-агент. – Если к концу года ты заработаешь больше, это почти как бонус, и они выплачивают тебе дополнительные деньги. Если ты заработала меньше, то, в зависимости от агентства, они либо проигнорируют это, либо попросят вернуть деньги». Тем молодым агентам, которые работают на комиссионной основе, зачастую очень трудно сводить концы с концами. «Я работаю здесь год, – сказала далее та же девушка, – и моих комиссионных еще не вполне хватает на жизнь. Это бизнес, в котором нужно расти». Чтобы свести концы с концами, она использовала свои сбережения, доходы мужа и внештатную редакторскую работу. Год спустя она перешла в другое агентство, где ей предложили более выгодные условия.
Для молодых агентов формирование списка клиентов, как правило, – более сложная задача, чем для агентов, которые приходят в бизнес с некоторым предыдущим опытом и репутацией в книгоиздательском мире; им не хватает социального и символического капитала более статусных коллег, и им приходится накапливать его более или менее с нуля. Сара работает в одном нью-йоркском агентстве на комиссионной основе около года. По ее словам, на данном этапе карьеры она стремится сформировать свой список клиентов и старается каждый месяц подписывать договор с одним, возможно, с двумя клиентами. Обычно она получает более сотни спонтанных предложений в неделю от потенциальных авторов и все их прочитывает, хотя на подавляющее большинство не отвечает – контакт продолжается менее чем с 1%. Сара подписывает договоры с одним-двумя клиентами в месяц, и лишь очень немногих из них она находит среди четырехсот с лишним предложений, пришедших «самотеком». Это означает, что для данного молодого агента, желающего отыскать новых клиентов и уделяющего спонтанным запросам больше времени, чем требуется более опытному агенту, вероятность того, что потенциальный автор будет найден именно среди спонтанных обращений, составляет менее четверти процента. Большинство новых клиентов появляются у Сары в результате ее собственных поисков, но даже этот метод работает нестабильно и обычно не оправдывает ожиданий. Ее основной источник информации – это глянцевые и литературные журналы. Она регулярно читает множество женских журналов вроде Mary Claire и все литературные журналы – New Yorker, Mississippi Review, Missouri Review, Paris Review, Tin House и т. д. Она находила авторов, работы которых ей нравятся, но шансы подписать с ними договор были небольшие:
Я трачу примерно 50 долларов в год на подписку на Tin House и во всех номерах нахожу не больше трех авторов, которые мне интересны: на этом этапе своей жизни они уже хорошие, публикующиеся, но еще неоткрытые писатели, готовые к тому, чтобы стать известными. Я связываюсь с ними. Обычно бывает так: из трех потенциальных клиентов у одного уже есть агент, у одного нет материала на книгу, который можно показать, а у третьего такой материал есть. Я прошу прислать его, читаю, и он мне не нравится, или он сырой, или его нельзя продать. Так что все очень сложно. Это как искать иголку в стоге сена. Это гонка. Агент, особенно такой, как я, у которой нет обоймы клиентов, приносящих регулярный доход, сочиняя по книге в год, постоянно находится в поиске, беспрерывно ищет следующего большого клиента и пытается заполучить его раньше, чем другие.
Молодой агент, формирующий свой список клиентов, будет постоянно сталкиваться с проблемой переманивания, поскольку многие хорошие писатели, которые публикуются в литературных журналах, уже привлекли внимание других агентов, которые тоже хотят расширить свою клиентскую базу. В большинстве агентств молодые сотрудники будут стараться избегать прямого переманивания, и не только потому, что более авторитетные люди в агентстве могут счесть подобные действия предосудительными, но и из‐за опасений, что такое поведение нанесет вред единственному ресурсу, в котором они больше всего нуждаются на данном этапе своей карьеры, – их репутации. «Это очень маленький бизнес, – объяснила Сара, – и, если ты заработаешь репутацию человека, переманивающего клиентов, никто не захочет с тобой работать. Об этом станет известно в писательской среде, клиенты не захотят подписывать с тобой договоры, авторы не захотят обращаться к тебе, редакторы не захотят работать с тобой, другие агенты не будут направлять к тебе клиентов. Это вредно для твоей репутации, а единственное, чего ты не хочешь, – это дурной репутации».
Хотя табу на переманивание четко осознается большинством агентов, особенно молодых, которые пытаются утвердить себя, это табу достаточно размыто, чтобы каждый мог найти свой способ приспособиться к нему. Сара изобрела собственный способ проведения черты между допустимым и недопустимым, на ее взгляд, поведением. «Вообще-то я сейчас думаю о двух писателях, которых я бы с радостью переманила, – призналась она сразу после искреннего объяснения того, почему она считает это плохим поведением, – и есть некоторые тонкие способы выяснить, довольны ли они своей ситуацией». Затем продолжила:
Я прочла один рассказ в любимом литературном журнале и сказала себе: «Этот писатель должен быть моим, я хочу этого писателя». Я погуглила его, нашла его контактную информацию и где-то на третьей странице поисковой выдачи выяснила, что у него есть агент. У меня остановилось сердце. Я увидела, что агент молодой, поэтому я написала черновик электронного письма этому писателю, в котором говорилось: «Уважаемый такой-то, мне понравился ваш рассказ, он очень тронул меня. Я бы с удовольствием встретилась с вами за ланчем. Пожалуйста, скажите, что у вас нет агента и я могу встретиться с вами». Это оставляет дверь приоткрытой, потому что человек может написать в ответ: «Извините, но у меня есть агент и я доволен тем, как он представляет меня». В этом случае я бы написала: «Я так рада за вас, я очень рада, что вы в хороших руках, и с нетерпением жду вашего следующего произведения». Или он может написать в ответ: «Мне не нравится, как меня представляют, я разрываю контракт и хотел бы встретиться с вами». В таком случае я с радостью встречусь с ним, хотя это опасно. Другими словами, я собираюсь притвориться, что так и не открыла третью страницу Гугла и просмотрела только первые две. Вот один из тонких способов, как это можно делать.
Сара объяснила, что даже в этом случае она подождет, пока писатель разорвет отношения со своим агентством и свяжется с ней, прежде чем она официально предложит ему представлять его. «Я бы хотела, чтобы они принимали решение независимо и самостоятельно».
У некоторых агентов, формирующих клиентскую базу, бывает поворотный момент – часто возникающий по чистой случайности, – который дает внезапный толчок их карьере и делает их заметными на карте агентов. Это может быть неожиданный телефонный звонок, писатель, которого к ним направил друг, или рукопись, которая пришла самотеком, – многие молодые агенты живут надеждой, что их карьера внезапно преобразится в результате такого случайного события. Одна дама, известный агент, проработавшая в этом бизнесе 20 лет, рассказала о случайности, с которой началась ее карьера:
В самом начале своей карьеры я была ассистенткой очень известного литературного агента и однажды летом работала в пятницу вечером – неслыханное дело для индустрии, – потому что было срочное дело. Зазвонил телефон, я взяла трубку, это был автор, который написал роман. В то время он был малоизвестен – он опубликовал пару сборников нехудожественной литературы в небольшом издательстве со Среднего Запада. Мы проговорили полтора часа, и в конце разговора он сказал: «Могу я прислать вам книгу?» Я сказала: «Конечно, но мне придется передать ее кому-то другому в агентстве». Он сказал: «Хорошо, но я действительно считаю, что это хорошая книга, и мне очень понравился наш разговор, поэтому я думаю, что ею должны заняться именно вы». Я только начала брать клиентов, поэтому прочитала книгу и показала старшим коллегам, и все они сказали: «Давай, вперед». Это был X [бестселлер, проданный в количестве более 4 миллионов экземпляров в США, экранизированный, переведенный на 25 языков и разошедшийся по всему миру тиражом 50 миллионов экземпляров], и с этого начался мой путь как агента.
Не всем агентам так везет. Некоторые стараются годами, но им так и не удается продать книгу более чем за 100 000 долларов, не говоря уже о том, чтобы наткнуться на бестселлер. «Я работаю агентом три года и до сих пор ни разу не заключал шестизначную сделку. Такие дела», – сказал один молодой агент. Но, в конце концов, позиция любого агента в поле неразрывно связана с успехом или провалом книг, которые они продали, и авторов, с которыми они заключили договор. Их список клиентов – это их резюме, и их репутация агентов и доверие, которым они могут пользоваться у редакторов и других лиц, определяются представляемыми ими клиентами, а также вознаграждениями и наградами – финансовыми и символическими, – которые приносят и получают продаваемые ими книги.
После формирования списка клиентов проблемы, с которыми сталкиваются агенты, начинают меняться. В определенный момент – у успешного агента это может произойти довольно быстро, через четыре-пять лет после начала формирования списка клиентов – у них появляется хорошая обойма авторов и становится гораздо меньше времени и сил, чтобы брать новых клиентов. Большинство агентов, в том числе заслуженные и авторитетные, скажут, что они всегда стараются оставаться открытыми для новых авторов, даже если признают, что это становится все труднее. «Я гораздо менее открыт, чем раньше, – сказал один известный нью-йоркский агент, – просто потому, что в сутках только двадцать четыре часа. Я стараюсь не отказываться от клиентов, я очень лоялен к клиентам, которых взял, и, к счастью, за все время лишь несколько клиентов ушли от меня, поэтому у меня не так много свободных мест, которые надо заполнить. Но я не хочу переставать искать новых авторов, потому что обнаружение неопубликованного автора волнует гораздо сильнее успеха автора, которого ты уже открыл». Известным агентам приходится больше заниматься примирением интересов существующих клиентов с естественным желанием обновлять свои списки, добавляя в них новых авторов. Списки большинства агентов легко делятся на активных и неактивных авторов, поскольку некоторые авторы надолго замолкают, работая над новой книгой или вообще прекращая писать. Это дает агенту возможность сконцентрировать время и внимание на продуктивных авторах, чьи произведения хорошо продаются, и позволять менее активным авторам просто пассивно числиться в списке. Большинство агентов не хотят отказываться от авторов, которых взяли, сколь бы малоактивными те ни были. Отчасти это обусловливается тем, что они воспринимают отношения со своими клиентами как отношения лояльности и взаимной привязанности: если агент готов отказаться от своих менее продуктивных клиентов, то что помешает его более успешным клиентам в свою очередь отказаться от него? Отчасти это также обусловливается тем, что даже самый неактивный автор может иногда удивить. «Авторы, которые, как тебе казалось, перестали работать, внезапно возвращаются с замечательной новой книгой, – сказал один агент. – Последний договор был пять лет назад, время заключать новый договор, и вдруг снова взлет. Удовольствие от неожиданности, конечно, – одна из самых замечательных вещей в этом бизнесе».
Хотя большинство агентов чрезвычайно лояльны к своим клиентам и надеются на их ответную лояльность, иногда агенты и авторы расстаются. Порой агент приходит к выводу, что представлять определенного клиента больше не стоит, обычно потому, что очень много времени и усилий уходит на чтение черновиков, из которых в конечном счете ничего не получается, хотя чаще всего прекращение отношений представляется как развод по взаимному согласию. Один агент рассказал, что в течение шести лет читал черновики второго романа, написанного клиентом. Роман все не складывался, и в конце концов агент решил разослать его по издательствам, потому что не знал, что еще с ним делать. Издательства одно за другим отказывали, «и в конце концов [автор] и я посмотрели друг другу в глаза и просто поняли, что я больше ничем ему не могу помочь. Сама мысль о том, чтобы посмотреть еще один его черновик, любой, вызывала у меня дрожь. И он ушел к другому агенту». Другая сторона этого уравнения заключается в том, что большинство агентов и агентств финансово зависят от относительно небольшой доли клиентов, чьи книги исключительно успешны, и агенты постоянно боятся потерять одного из этих ключевых клиентов. «Если посмотреть на любой бизнес в наших краях, то 70–80 процентов дохода приносят 20–30 процентов наших клиентов, – пояснил тот же агент. – Это пугающее уравнение, и иногда все обстоит даже хуже, бывают взлеты и падения. Иногда смотришь на все это из‐за своего стола и думаешь: „Господи, если бы у нас не было X и Y, у нас были бы настоящие проблемы“». Есть разные способы, которыми агентство может терять ключевых клиентов: они могут заболеть, умереть или просто решить отдохнуть от писательства. Но всегда есть риск ухода в другое агентство:
Никаких сомнений, что при определенных обстоятельствах в определенные моменты существования любого агентства определенные клиенты – я видел такие ситуации, хотя лично со мной этого, к счастью, никогда не происходило – будут уходить. «Сейчас я такой успешный автор, что должен продемонстрировать миру, что меня представляет очень успешное агентство. Так что каким бы привлекательным ни было ваше маленькое бутиковое агентство, знаете, если посмотреть отстраненно, то William Morris – вот мой калибр. Я хочу быть среди больших игроков». Что ж, остановить это почти невозможно, так что остается надеяться, что ты был достаточно умен и проницателен при выборе клиента, чтобы такое не случилось. И что, когда у него действительно лопнуло терпение, ты был тем, кто сказал: «Обычно мы этого не делаем, но как ты посмотришь, если я одолжу тебе пару штук до следующей книги?» Я не говорю, что это всегда взятка, но есть много способов стать тем, кто оказался рядом, когда все остальные, кажется, отвернулись.
Роль агента
Как именно агенты понимают свою роль в отношении клиентов? Большинство сказало бы, что в самом широком смысле их роль состоит в управлении долгосрочным направлением карьер авторов. «Мы занимаемся хореографией карьер», – сказал довольно торжественно один агент. Этот процесс включает несколько компонентов: подготовка предложений и рукописей для подачи, питчинг, продажа, управление правами, управление карьерами. Каждый из этих компонентов составляет отдельную сложную тему, и данный список не является исчерпывающим, но краткое описание этих видов деятельности поможет прояснить роль агента.
После того как агент решает взять клиента, он должен вместе с автором подготовить предложение или рукопись для подачи в издательства. Это особенно важно для первой книги, но в зависимости от автора и этапа его карьеры это также может происходить с последующими книгами. Данный процесс зачастую требует множества обсуждений и усилий. Нередко предложение книги переделывается шесть и более раз – или, в случае романа, рукопись несколько раз переписывается после комментариев агента, – прежде чем будет представлено издательствам. «У меня есть автор, уважаемый журналист, который не мог правильно составить предложение, – рассказала одна дама, старший агент. – Мы прорабатывали черновик за черновиком, и это заняло год. Я могла бы продать его на шесть месяцев раньше, но я хотела, чтобы автор понял, что от него требуется». Хороший агент знает или чувствует, что нужно редакторам и издателям, и хочет представить предложение своего клиента наилучшим образом. «Я исхожу из того, что у меня есть только один выстрел», – добавила эта дама, хотя она знает, что на практике это не совсем так. Она привела историю своего молодого коллеги, который за четыре или пять лет послал роман в 40 мест и в конечном счете продал его. Она восхищается его упорством, но у нее другой способ ведения дел. Она также заметила, что некоторые агенты не прилагают столько усилий и не заботятся столь сильно о подготовке предложений, как она. «У некоторых агентов есть теория дерьма на стене: они смотрят текст, а потом просто бросают его куда-нибудь, и если он продается, то они его продают, а если не продается, то не продают. Я не верю, что так можно вести дела, и не советую людям, с которыми работаю, так поступать. Я думаю, надо прилагать максимум усилий».
Подготовка предложения или рукописи к подаче – вопрос не только полировки текста, но и «причесывания» автора. Представление автора может быть столь же важным, как и представление текста: что говорит автор такого, чего до него никто не говорил? Каковы уникальные особенности его произведения, которых нет у других авторов? Разумеется, в мире, насыщенном медиа, где реклама может существенно влиять на продажи книги, внешний вид авторов или их телегеничность могут становиться важным фактором, особенно в случае тематической нехудожественной литературы, и агенты нередко устраивают для своих авторов парады по издательствам, как для того, чтобы авторы познакомились с редакторами и другими сотрудниками, а сами агенты оценили их энтузиазм по поводу книги, так и для того, чтобы сотрудники издательств познакомились с автором, а агенты могли оценить его потенциал для продвижения книги. Но подготовка автора к процессу подачи предложения или рукописи предполагает нечто гораздо большее, чем приведение в порядок внешности; важно также то, что в индустрии называют «платформой».
«Платформа» – термин, который в последние годы стал особенно популярен среди нью-йоркских книготорговцев, хотя теми же соображениями руководствуются в Лондоне, даже если сам термин используется реже. По сути, платформа – это позиция, с которой говорит автор, комбинация его заслуг, заметности и потенциала продвижения, особенно через медиа. Это те особенности и достижения авторов, которые находят готовую аудиторию для их произведений и которые издательство может использовать при поиске рынка для их книг. Как сказал один агент, «платформа указывает, какой аудитории подходит этот автор и какая аудитория может обеспечить определенный объем продаж книги». Платформа важна для всех видов книг, но особенно для нехудожественной литературы и прежде всего – для определенных типов книг о фитнесе и диетах, где «сегодня у автора обязательно должна быть общенациональная платформа для продажи книги». Если автор регулярно появляется на национальном телевидении или ведет колонку в газетах или журналах, выпускаемых определенным агентством печати, у него есть отличная платформа, которая создает потенциальный рынок для его книг. Поскольку книжный рынок становится все более тесным, платформа автора оказывается все более важной как для агентов, так и для издательств, поскольку они рассматривают ее как фундамент для создания рынка для книги, ее информационной поддержки и придания ей заметности среди всех остальных книг, которые конкурируют за время и внимание читателей, закупщиков, рецензентов и т. п.
Некоторые авторы приходят с готовой платформой; другим нужно обрести ее. Как автор получает платформу? С этим ему и помогает хороший агент. Агент может посоветовать автору, как построить свою платформу – где публиковать статьи, как улучшить веб-сайт и т. д. Но агенты с хорошими связями – с большим объемом социального капитала, накопленного за годы стратегического заведения знакомств, – могут также обращаться к своим друзьям и контактам в медиа, чтобы сделать своих клиентов более известными. Как объяснил один агент из крупного агентства:
Иногда я делаю звонки ради клиентов. Одна из моих авторов – редактор в крупной газете, она пишет для них заметки на общие темы. Она искала новый проект, и я сказал: «Вот этот парень великолепен, напиши о нем, и издательства начнут выстраиваться к нему в очередь». Так и произошло. Я называю это полюбовной сделкой. Это помогает. И то, что ты работаешь в таком большом агентстве, как это, тоже помогает. Иногда я иду к другому агенту и говорю: «У тебя есть кто-нибудь в New York Times, кто может написать об этом?» Существует система патронажа.
Связывая своих клиентов с людьми в медиа, которые могут помочь стать более известными и заметными, агенты с хорошими связями помогают им создавать или расширять платформу, что укрепляет их позиции при питчинге предложения в издательстве.
То, как агент представляет книгу, во многом зависит от того, что это за книга: новая книга признанного автора, который уже опубликовал одну или несколько книг, или новая книга нового автора, который пока темная лошадка. Питчинг новой книги признанного автора часто не требует особых ухищрений, особенно если у автора хорошие отношения с конкретным издательством и редактором, все идет хорошо и автор хочет остаться в этом издательстве. В подобных случаях, которые составляют значительную долю сделок, заключаемых агентами со сложившимся списком клиентов, агент просто сообщает редактору или издателю о новой книге, объясняя, как она соотносится с предыдущим произведением автора, рассказывая, как ее нужно позиционировать на рынке, и обсуждая денежные и прочие условия. Однако нередко эти, казалось бы, простые переговоры могут осложняться. Автор и агент могут захотеть больше денег или более выгодные условия, издательство может захотеть сократить аванс исходя из продаж предыдущей книги или книг, автор может «осиротеть» в издательстве и т. д. Автор «сиротеет», когда редактор, которому первоначально была продана книга, покидает издательство и книга переходит по наследству кому-то другому – что происходит все чаще из‐за усиления процесса слияний и поглощений одних издательств другими. В таких случаях автор часто чувствует себя брошенным, потерянным. «Чаще всего все разваливается, и приходится переводить автора в другое издательство, – объяснил один агент. – Это очень личный бизнес. Нужно оставаться с редактором, который захотел твою книгу и захотел тебя как автора, твой стиль письма и т. д., а тот, кто приходит после него, хоть и любит тебя, но у него есть другие авторы, которые нравятся ему больше. Так что чаще всего ты обращаешься в издательство, думая: „Если не сработает, нужно будет попробовать другие издательства“».
С первой книгой нового автора или книгой автора, который впервые публикует книгу для массового читателя либо активно ищет новое издательство, проблемы несколько иные. Первым делом агент должен прояснить следующий вопрос: кому эта книга понравится? Он должен составить план, с какими редакторами или издателями надо связаться по поводу этой конкретной книги или предложения. План обусловливается множеством разных соображений: отчасти он основывается на мнении агента о том, что это будет за книга и какое издательство подойдет для нее, отчасти – на знании того, кто есть кто в различных издательствах и каковы их вкусы и предпочтения, отчасти – на представлении о том, сколько обычно платят различные издательства и сколько, по их мнению, они могут получить за эту книгу, наконец, на опыте работы с конкретными редакторами и издательствами и на оценке того, насколько конкретный редактор или издатель в данный момент нуждается в новой книге и какую поддержку агент и автор могут получить в издательстве. Часто это сложная оценка, при вынесении которой агент использует свой опыт и неявные знания, полученные из бесчисленных разговоров за ланчем и в других местах, для разработки подходящей стратегии для конкретной книги.
Знание вкусов разных редакторов и издателей играет важную роль и составляет часть практических знаний, которые агент приобретает, работая с редакторами и беседуя с ними о том, какие книги им нравятся, а какие нет. «В этом бизнесе вы все время говорите о книгах и постепенно узнаете вкусы людей», – сказал один агент. Поэтому, обдумывая, каким редакторам отправить новую книгу, агент всегда пытается сопоставить содержание этой конкретной книги, ее стиль и характер с тем, что он знает о вкусах отдельных редакторов. Это упражнение в балансировании вкусами. Но также нужно знать, кто что ищет в определенный момент и какой властью и поддержкой они располагают в организации. Один старший лондонский агент описал это так:
Нужно знать, что происходит, нужно знать, кто идет в гору, а кто под гору, нужно знать, у кого портфель полон, а у кого нет, нужно знать, кто какую книгу ищет, нужно знать, какие редакторы могут успешно проводить свои книги через систему, а какие нет, и узнать все это можно, только постоянно общаясь с ними. Для этого нужно приглашать их на ланчи, посещать вечеринки, читать отраслевую прессу, то есть пытаться выяснить, что происходит в издательствах. В некотором смысле это шпионская работа – ты шпион в издательстве. Но на самом деле это не шпионаж, потому что шпионаж предполагает, что ты пытаешься получить информацию от людей, которые не хотят делиться ею с тобой, тогда как, когда ты сидишь за ланчем с издателем, он хочет поделиться с тобой информацией не меньше, чем ты хочешь ее заполучить.
Поскольку многие агенты работали в издательствах на ранних этапах своей карьеры, они хорошо представляют, как работают издательства. Но они должны отслеживать изменения внутри издательств и перемещения между ними, стараясь выяснить, какие редакторы в фаворе, а какие нет, и единственный способ сделать это – говорить с людьми, работающими в издательствах, и собирать любую информацию, которую можно достать.
У всех агентов есть когнитивная карта поля книгоиздания, делящаяся на игроков разного размера и силы, которые далее делятся на импринты, входящие в то или иное издательство; на эту карту нанесены имена редакторов и издателей, которых агент знает лично либо о которых слышал. Это всегда иерархическая карта, в том смысле, что крупные издательские корпорации всегда находятся вверху, затем идут – обычно в порядке размера и важности – принадлежащие им импринты, за которыми следуют серьезные, но менее крупные издательства, за ними, в свою очередь, следует горстка небольших издательств. «Конечно есть списки А, Б и В, – сказал один из старших нью-йоркских агентов. – Ненавижу это признавать, но так и есть. Я честен с вами. Определенно есть иерархия. Отчасти она основывается на том, кто платит больше. Отчасти – кто выпустил больше всего бестселлеров. И отчасти – и для меня это вопрос номер один – кто в конечном счете наиболее подходящий редактор для этой конкретной книги». Когда агент решает, к какому редактору или издателю пойти с определенной книгой, он обычно имеет на примете несколько имен – часто это редакторы, с которыми они работали раньше и вкусы которых они хорошо знают. Но они также обычно обращаются к своей когнитивной карте – своему основному списку издательств – и пытаются найти другие имена. Одна дама, нью-йоркский агент, объяснила, как она это делает:
У меня есть основной список, на который я смотрю и говорю: «Эта книга отлично подошла бы для такого‐го и такого‐го места, так кому мне ее отправить?» Я смотрю на основной список и говорю: «Окей, эта книга идеально подойдет для Penguin». В агентстве такого размера мы много раз обсуждаем это между собой: «У меня есть книга, она вот о чем», а потом мы сидим в офисах друг друга и говорим о ней какое-то время. И еще у нас каждую неделю проходит собрание агентов, на котором, если мы зашли в тупик или еще только в начале, мы поговорим о разных проектах и набрасываем идеи.
С автором при этом чаще всего не советуются – если, конечно, у автора нет сложившихся отношений с конкретным редактором и издательством и он не хотел бы сохранить их. В последнем случае процесс подачи нового книжного проекта определяется этими предпочтениями. Но для подавляющего большинства новых книг, написанных авторами без связей в мире книгоиздания, процесс выбора редакторов и издательств полностью находится в руках агента. «Автор ничего не знает, – прокомментировал один старший нью-йоркский агент. – Я имею в виду, если автор скажет: „Кстати, знаете, мой дядя – Джейсон Эпштейн“, я прислушаюсь, но в остальных случаях автор платит мне, чтобы я знал редакторов гораздо лучше, чем он».
После того как агент определит редакторов, которым будет отправлена книга, он должен связаться с ними и рассказать о проекте – другими словами, книгу нужно пропитчить. Часто первый контакт происходит по телефону; некоторые агенты всегда сначала звонят редактору и пытаются выяснить степень интереса. «Я должен знать, где они, я должен знать, чем они заняты, я должен знать, каков их график чтения, – объяснил один нью-йоркский агент. – И моя работа как агента заключается в том, чтобы после моего звонка их кровяное давление стало чуть выше». За разговором следует письмо с предложением, отправляемое по электронной почте. Некоторые агенты питчат книгу в основном по телефону, а в последующем письме пишут очень коротко и по делу, тогда как другие отправляют пространные питч-письма. В питч-письме сообщается различная информация о книге: описывается краткая предыстория автора и книги, часто указываются другие книги, с которыми ее можно сравнивать или которым ее можно противопоставить, дается общее представление о книге и, возможно, излагаются причины, по которым редактор должен отнестись к предложению всерьез. «Я пытаюсь сделать так, чтобы они могли описать книгу своим коллегам, – сказал этот агент. – Я рассказываю им, как позиционировать книгу».
Иногда в своем питч-письме агент прямо указывает на недостатки книги с целью снять возможные сомнения и сосредоточить внимание редактора на сильных, с точки зрения агента, сторонах книги. «Есть несколько вещей, которые я не могу вам предложить, – начинается одно такое письмо. – Я не могу предложить вам автора, которого будет легко продвигать. X – не сексуальный 28-летний красавец, отлично смотрящийся на черно-белых снимках. Он застенчивый человек, который немного удивлен моим восторгом от его книги. Что еще хуже, я не могу предложить вам великолепно продуманный сюжет, который легко изложить». Далее в письме автора сравнивают с рядом очень успешных писателей, после чего говорится: «Я прочла четыре черновика этого первого романа за несколько месяцев, и мое убеждение в том, что это чрезвычайно свежо, ничуть не поколебалось. Там есть сцены, которые я никогда не читала прежде, и метафоры, которые использует только Х». В новом романе, говорит этот агент, важнее всего сюжет, характер и голос. Она знает, что автор – застенчивый, сдержанный человек и что в его книге нет сильного сюжета. Но персонажи хорошо прописаны, и у автора свежий и оригинальный голос, поэтому именно эти особенности она решила подчеркнуть в своем питче.
Способ питчинга книги агентом важен, но не менее важно, кто агент. Редакторы слушают опытных агентов с хорошим послужным списком, как правило, более внимательно, чем молодых агентов, которые пытаются сделать себе имя. «Некоторые агенты имеют больше рычагов влияния, имеют больше авторитета и пользуются большим доверием, чем другие», – пояснил один старший нью-йоркский агент, карьера которого началась на противоположной стороне – в крупном издательстве. Их авторитет определяется послужным списком, умением выявлять таланты и заключать договоры с авторами, чьи книги оказываются успешными – становятся бестселлерами, либо получают признание критиков, либо и то и другое. Успешный послужной список вызывает доверие к агенту и обеспечивает его объемом символического капитала, который гарантирует серьезное отношение редакторов и издателей к предлагаемым им книгам. Это не значит, что редакторы и издатели обязательно захотят купить следующую книгу, предложенную уважаемым агентом, но они с большей вероятностью примут ее всерьез, более быстро посмотрят ее и будут более позитивно настроены к ней. «Я доверяю его вкусу, поэтому я отнесусь к нему серьезно, когда он скажет, что ему нравится что-то, чего я не читал» – так один старший агент описал то, как, на его взгляд, редакторы обычно реагируют на его предложения.
Молодым агентам, у которых нет такого послужного списка, как у более авторитетных коллег, может быть гораздо сложнее обратить внимание редакторов и издателей на свои предложения. «Некоторые редакторы будут читать твою книгу дольше, потому что они тебя не знают», – пояснил один молодой агент, хотя если вы работаете в известном и уважаемом агентстве, это помогает. Молодые агенты часто налаживают горизонтальные связи – основанные на равенстве возраста и малого опыта в поле – с молодыми редакторами в издательствах, потому что у них много общего во вкусах, а также потому, что привлечь их внимание легче. Эта стратегия выгодна обеим сторонам, поскольку молодым редакторам получить предложение от известных агентов столь же сложно, как молодым агентам заставить известных редакторов отнестись к ним всерьез. Отсутствие у них символического капитала в соответствующих областях поля сближает их интересы. Они завязывают с противоположной стороной отношения, которые будут с течением времени развиваться, и успех одной стороны может способствовать успеху другой, тем самым цементируя взаимовыгодную систему, связывающую агентов и редакторов.
После питчинга книги агент должен продать. По сути, есть три способа продать книгу: отправить ее в одно издательство, в несколько издательств и устроить аукцион. Если у агента есть книга, которая, как он знает, требует значительной доработки, и он имеет на примете редактора и издательство, которые, по его мнению, будут для нее хорошим домом, агент может отправить книгу только конкретному редактору в обмен на обещание быстро ее посмотреть и уделить ей необходимое внимание: «Ты проявляешь к ним уважение, отправляя книгу только им». Чаще всего агент посылает предложение или рукопись тщательно отобранной группе редакторов из разных издательств. В некоторых случаях лишь один редактор выражает интерес и откликается на предложение, и тогда агент делает все возможное, чтобы добиться выгодных условий, хотя у него слабая позиция в переговорах. Если интерес проявляют несколько редакторов, агент может принять решение о проведении аукциона. Есть два основных способа проведения аукциона – традиционный аукцион, когда агент запрашивает первую ставку к определенному времени, после чего возвращается к тем, кто сделал ставку ниже самого высокого предложения, и спрашивает, хотят ли они поднять свое предложение, продолжая этот процесс до тех пор, пока заявители не отсеются, и аукцион с лучшей ставкой, на котором агент просит каждого сделать свое лучшее предложение к определенному времени. Какой бы метод ни использовался, «ты также всегда оставляешь за собой право принять решение исходя из мнения автора обо всех предложенных условиях, – пояснила одна дама-агент. – Поэтому, если издательство, которое не нравится автору, предлагает на 30 000 больше, вы можете пойти в другое издательство. Ты знаешь, что оскорбишь и обидишь издательство, которое предложило больше денег, но это право автора». Конечное решение, по словам этого агента, принимает автор. «Но, – добавила она, – они очень сильно ориентируются на мое мнение».
Всегда ли агенты советуют автору принимать самую высокую ставку? Некоторые – да, некоторые – нет. Некоторые агенты согласны с мнением Эндрю Уайли, что аванс – единственный механизм, который агент может использовать, чтобы заставить издательство серьезно отнестись к книге и агрессивно ее продавать и продвигать, поэтому принятие самой высокой ставки – единственный рациональный вариант. Но многие агенты занимают менее жесткую позицию. Размер аванса важен, ни один агент не будет это отрицать, но есть и другие соображения, которые следует учитывать, например какой редактор и издатель будут лучшими для этой конкретной книги, как они предлагают «позиционировать» книгу в портфеле издательства, каковы их маркетинговые и рекламные планы насчет книги, насколько их воодушевляет книга и т. д. Когда я спросил одного старшего нью-йоркского агента, являются ли финансовые условия самым важным фактором при решении о том, какому издательству отдать книгу, он ответил:
Точно нет. Если я смог заключить сделку, которая позволит вам делать то, что вы хотите, и у вас будет еда на столе, вы сможете оплачивать квартиру и оставаться относительно счастливым и здоровым, тогда я сделал свою работу. Если это сделка на 100 000 долларов, и вы любите своего редактора, и вам нравятся люди, которые помогают вам добиться в вашей карьере того, чего вы хотели, тогда это идеальная сделка. Всякий раз, когда я устраиваю аукцион, одно из моих правил – а у меня простейший набор правил, их всего пять – состоит в том, что в конце концов решение о том, какая сделка лучшая, принимают агент и автор. Так что для меня это не только вопрос аванса и пространства, которое открывает аванс, это еще и вопрос конкретного редактора, который может уйти из издательства к моменту публикации книги, как показывает опыт; это вопрос того, что называют мускулами рекламы и маркетинга, и в целом энтузиазма. Я сталкивался с людьми, которые платили намного больше за книги и затем бросали их по той или иной причине, так что сейчас я очень осторожен с этим.
Был бы этот агент рад взять значительно меньший аванс, если бы другие обстоятельства оправдывали это решение? «Рад? Нет, я совершено не был бы рад». Но да, время от времени так приходится поступать. Большинство агентов придерживаются подобного более холистического взгляда на «лучшее предложение», полагая, что цель – найти «лучший дом» для книги, и размер аванса является лишь одним из факторов в общем ряду, хотя и очень важным. В то же время большинство из них признают, что, хотя самый крупный аванс не всегда приводит к заключению сделки, на практике это обычно так, и другие факторы чаще всего вступают в игру, когда различия между окончательными ставками невелики.
Когда у агента есть три или четыре заинтересованных издательства, которые сделали близкие ставки, агент может вместе с автором встретиться с редакторами, а также, возможно, с директорами по продажам, маркетингу и рекламе, – в издательском бизнесе это обычно называют «конкурсом красоты». С точки зрения агента, конкурс красоты – это возможность для агента и автора встретиться с людьми, с которыми они будут работать, получить представление о том, насколько они заинтересованы и что они думают о книге, и оценить их маркетинговые и рекламные планы. Конечно, это также возможность для издателей встретиться с автором и оценить, насколько он будет помогать им в продвижении книги, но на данном этапе процесса приобретения оценивается красота издательства. «Если вы достигли уровня, когда предлагаете, скажем, 500 000 долларов, вы, как издательство, решили, что хотите иметь этого человека у себя в портфеле, – пояснил один менеджер по маркетингу из крупного издательства. – „Конкурс красоты“ – не совсем удачный термин, потому что он предполагает, что ты просто прихорашиваешься, хотя на самом деле ты говоришь: „Мы – лучшее издательство для этой книги, и вот почему мы так думаем. Вот как мы опубликуем вашу книгу, это будет главная книга в нашем каталоге, на Bookseller Expo мы уделим ей основное внимание, мы проведем вот такую онлайн-кампанию, у нас будет вот такой рекламный компонент, мы бы хотели, чтобы вы отправились в дорогу и сделали тур по восьми городам“. Вы пытаетесь дать им некоторое представление о том, как вы будете продвигать их книгу».
После того как агент и автор решили, какое предложение принять, агент должен обсудить детали контракта и договориться о том, какие права не будут передаваться издательству. Агенты относятся к правам по-разному: одни готовы при заключении сделки с издательством передать права на продажу книги в других странах и на других языках, в то время как другие всегда оставляют эти права за собой и, когда отправляют книгу издательствам, сообщают, что права на продажу в других странах и на других языках недоступны. Агенты, готовые передать эти права, могут в случае востребованной книги попросить издательства сделать два предложения – одно для ограниченных прав (в Северной Америке или в Великобритании, в зависимости от места проведения аукциона) и одно для всемирных прав или всемирных англоязычных прав. Затем агенты взвешивают все за и против двух предложений и принимают решение о том, не лучше ли для них и их клиента оставить иностранные права за собой и распоряжаться ими самостоятельно. В тех случаях, когда агент сохраняет за собой иностранные права, будь то права для Северной Америки (в случае британского агента), Великобритании и остального мира (в случае американского агента) и/или иностранных языков, агент должен придумать стратегию управления сохраненными правами, чем агенты занимаются с различной степенью эффективности и энергичности. Одни агенты нанимают субагентов, чтобы те продавали права для различных территорий и языков, в то время как другие сами управляют этими правами и прилагают значительные усилия для их продажи.
Важную роль в продаже прав играют крупные книжные ярмарки вроде Франкфуртской и Лондонской. По сути, это ярмарки прав, и у каждого агента и агентства своя стратегия поведения во Франкфурте и Лондоне, но продажа прав – это непрерывный процесс, который выходит далеко за пределы планов в отношении определенных ярмарок. Агент часто использует размер аванса, который ему удалось получить на внутреннем рынке, в качестве рычага давления для максимизации авансов на других рынках и может пытаться «стимулировать» процесс продажи, сначала продавая некоторые иностранные права. «Вообще, сначала ты продаешь британские права, – объяснил один из старших лондонских агентов, – но это не всегда так. Некоторые агенты известны тем, что сначала продают права в Германии, прежде чем продать британские права, потому что они знают конкретного редактора в немецком издательстве, с которым им приходилось иметь дело раньше, и считают, что тот откликнется охотнее и ажиотаж начнется сначала в Германии или, возможно, в Италии или Америке». Тщательно организуя продажу прав, агент может создать эффект снежного кома, когда каждая новая продажа становится рычагом, используемым в последующих продажах. Агенты также могут привлекать к этому процессу скаутов, поскольку знают, что скауты разыскивают информацию о готовящихся книгах; агенты могут рассчитывать на то, что, если скауты в определенное время получат фрагменты информации или даже полный текст книги, вокруг нее может возникнуть ажиотаж на зарубежных рынках еще до того, как она появится на внутреннем рынке. «Прежде чем продать рукопись здесь, агент довольно часто думает: „Если я солью эту рукопись скауту и скаут воодушевится и расскажет издательствам за границей, я получу толчок, я получу ажиотаж“». Эффект снежного кома может возникнуть независимо от того, прилагает агент усилия для его создания или нет, просто потому, что мир потенциальных покупателей мал и они постоянно общаются друг с другом. «В этом бизнесе постоянно происходят утечки, – продолжил тот же агент. – Мы все время мотаемся туда-сюда между Лондоном и Нью-Йорком, мы все отлично друг друга знаем, мы постоянно звоним друг другу. Американский редактор звонит британскому редактору и говорит: „Такой-то только что прислал мне такую-то книгу, я вижу, ты купил ее. Сколько ты за нее заплатил, что собираешься с ней делать, когда она выйдет в свет?“ и т. д., и это влияет на их ответ». Успех порождает успех. Ажиотаж вызывает еще больший ажиотаж. Конечно, заключение крупной сделки с британским издательством не гарантирует того же в США, а заключение крупной сделки в США не гарантирует того же в Великобритании – рынки различаются, и многое зависит от автора, его платформы на разных рынках и содержания книги. Но если вы заключаете крупную сделку в Великобритании, «ваши шансы на крупную сделку в США – в зависимости от того, что это за книга, – значительно увеличиваются», и наоборот.
Большинство агентов полагают, что, помимо помощи авторам в подготовке предложений и рукописей, питчинга и продажи книг, обсуждения контрактов и управления правами, их роль состоит в управлении долгосрочными карьерами своих клиентов. Одним из элементов этого является стремление обеспечить автора достаточными деньгами, чтобы он стал профессиональным писателем и начал зарабатывать на жизнь литературным трудом. «Ты берешь клиентов, потому что считаешь, что у них будет карьера, – объяснила одна дама-агент. – И если ты зарабатываешь только X денег в год, а я не помогаю тебе стать профессиональным писателем, потому что ты не зарабатываешь достаточно денег, я недостаточно хорошо делаю свою работу». Она считает, что ее работа заключается в том числе в том, чтобы обеспечить клиентов достаточным доходом, чтобы они могли писать полный рабочий день, «и большинство это делают». Это не обязательно означает, что они пишут только те романы или нехудожественные книги, которые хотят писать, – им приходится писать и другие тексты, например статьи для газет и журналов, или даже, возможно, работать «литературным негром». «Я рада, если мои писатели просто регулярно пишут, – продолжила моя собеседница. – Я думаю, что письмо – великое утраченное искусство или оно станет великим утраченным искусством, и единственный способ поддержать его – продолжать писать».
В рамках управления карьерой своих авторов большинство агентов много обсуждают с клиентами их следующую книгу и иногда читают черновики отдельных глав и дают им советы. Некоторые романисты начинают работать над новым произведением, отправляют своим агентам черновики пары глав и спрашивают: «Мне продолжать или лучше отказаться от этого сейчас и не тратить следующие два года, превращая это в роман?» У других авторов есть четкое представление о том, чего они хотят, и они просто отправляют агенту окончательный вариант рукописи. В случае нехудожественной литературы агенты могут предлагать клиентам идеи для книг и работать с ними над предложением перед его отправкой. Как в случае авторов художественной литературы, так и в случае авторов нехудожественной литературы агенты иногда активно побуждают писателя к смене направления, если им кажется, что его карьера оказалась в застое. Чаще всего это лишь вопрос ориентации энергии писателя в определенном направлении, использования своего опыта и знания рынка для сдерживания наклонностей писателя и побуждения его пойти более многообещающим путем. Но иногда это может предполагать более радикальные изменения, в некоторых случаях – вплоть до смены писателем имени.
Один старший лондонский агент рассказал, что одна из клиенток его агентства – назовем ее Сара Джонс – много лет писала романы, каждый из которых расходился тиражом 40 000–45 000 экземпляров в твердом переплете. «Поэтому все думали, что знают, сколько она стоит. Вот так она продается, и все было на это завязано. Несмотря на энтузиазм издательства, несмотря на их неустанные попытки убедить продавцов в том, что они ошибаются, на нее наклеили ярлык». Затем однажды писательница решила, что хочет сменить темп. Она сделала пару предложений своему агенту относительного того, чем хочет заниматься дальше, и агент ответил без особого энтузиазма: «Я не думаю, что это сработает, но, самое главное, я не думаю, что именно к этому лежит твое сердце». Агент призвал ее двигаться в ином направлении, написать что-то менее глубокое и нацеленное на немного более молодую аудиторию и, самое главное, выпустить это под другим именем. Почему?
Потому что оно воспринимается по-другому, но в основном потому, что, если мы вернемся на рынок с еще одним романом Сары Джонс, они скажут: «40 000 экземпляров». Я даже не скажу твоему теперешнему издателю – который будет в приоритете, – кто это написал. Иными словами, я хочу создать для тебя абсолютно «волшебный момент». Это словно первое свидание, прежде чем ты поймешь, что девушка, в которую ты только что влюбился, будет раздражать тебя до конца твоих дней, потому что никогда не закрывает тюбик зубной пасты. Это тот блаженный момент, когда все возможно, нас не сковывает никакая предыдущая история и впереди только чистое небо.
Выступив под новым именем – «специально придуманным авторским именем», как выразился агент, – эта писательница получила новую жизнь, и ее стали по-другому воспринимать в издательском мире, поскольку к ней не применялись сложившиеся на рынке ожидания, которые были неразрывно связаны с Сарой Джонс. Новый роман стал громким международным бестселлером и породил серию чрезвычайно успешных продолжений. Агент настаивал, что это не агент заново изобрел автора, а сама писательница заново изобрела себя при содействии и активной моральной поддержке агента. «Один момент, о котором нам всем нужно напоминать себе в этом бизнесе, сформулирован в замечательной фразе нашего покойного коллеги, которого нам всем очень не хватает: „Мы должны публиковать блеск в глазах автора“. Думаю, мы, на свою беду, забываем об этом. Но это не значит, что нужно просто позволять этому блеску отражаться во всех возможных зеркалах, – его нужно направлять».
Хотя агент, который берет себе клиента, в принципе вкладывается в развитие его долгосрочной карьеры, найти правильный баланс между долгосрочными интересами и краткосрочными выгодами не всегда просто. Как агенту, так и автору может быть очень трудно сопротивляться очень крупному авансу за первый роман – особенно когда сумма аванса, по выражению одного агента, «меняет всю твою жизнь», – даже если они знают, что, если книга не оправдает ожиданий издательства и не принесет планируемой прибыли, это может осложнить продажу следующей книги автора. Это проблема, насчет которой в сообществе агентов существует широкий спектр мнений и взглядов. «Есть агенты, которые говорят: „Всегда хочется, чтобы издательства дико переплачивали, чтобы они переплачивали столько, что ты едва можешь справиться с этой суммой“, – объяснил один агент. – Но нужно помнить, что в долгосрочной перспективе об авторе судят не по книгам, а по продажам. Мне хочется, чтобы авторам платили столько, сколько ты можешь выбить, но не столько, чтобы, когда появится следующая книга, кто-нибудь посмотрел на показатели продаж и сказал: „Это был провал“. После такого автор или идет дальше, или плюет на вторую книгу. Нужно стремиться к своего рода золотой середине, когда ты пытаешься заставить авторов хорошенько постараться, но не настолько, чтобы это оказалось непрактично и книга не смогла оправдать их надежды». Подобная осторожность может показаться осмысленной и разумной, но в разгар аукциона остановить торги непросто. Некоторые агенты способны на это, но это нелегко. В поле, динамика которого обусловливается конкуренцией различных игроков, преследующих интересы, совпадающие в одних отношениях и расходящиеся в других, где ценность предлагаемой книги определяется как страстью и верой, так и точными расчетами или твердым знанием вероятных продаж, воображение не знает границ и энтузиазм может возносить цены так высоко, что ретроспективно они будут казаться чрезмерными и в некоторых случаях наносящими несомненный ущерб долгосрочной карьере авторов.
Хотя большинство агентов усердно культивируют карьеру своих авторов и добиваются для них максимально выгодных сделок, всегда есть случаи, когда авторы недовольны агентами, либо потому, что считают, что агентам не удалось заключить сделку, которой ожидали авторы (или которую им обещали), либо потому, что полагают, будто агенты дают им плохие советы (или не дают их вовсе), либо по какой-то другой причине. Мир писателей полон страшных историй о некомпетентных и двуличных агентах, которые обращают внимание на молодых и многообещающих писателей, а затем бросают их, как только дела начинают идти хуже, которые не отвечают на звонки или электронные письма, которые вводят писателей в заблуждение, лгут им или обирают их, взимая комиссию за чтение рукописей и другие вещи. Один бруклинский писатель рассказал, что за 15 лет прошел через шестерых агентов. Одна дама – его первый агент – работала в большом агентстве, прочла его первую книгу, восприняла ее с энтузиазмом, подписала с ним контракт, разослала книгу лучшим редакторам в крупные издательства, а затем, когда книга не пошла, быстро бросила его:
Дошло до того, что она сказала: «Знаешь, думаю, я отправила книгу всем, кому могла», на что я сказал: «А как насчет менее крупных издательств?» Тогда она прямо сказала: «Я не собираюсь этого делать, потому что я, как работник большого агентства, не смогу заработать на этом достаточно денег». И она этого не сделала. А затем ее отношение сменилось на совершенно противоположное. Она больше не была невероятно милой, доброй и воодушевленной и внезапно перестала отвечать на звонки. Я позвонил другому человеку в агентстве, и мне сказали: «О, вы больше не ее клиент». Я спросил: «Что вы имеете в виду?» Она не сказала мне, что отказалась от меня как клиента. Я узнал об этом чисто случайно. Вот такой у меня был первый опыт работы с агентом.
Его дальнейший опыт был ненамного лучше. Следующий агент, с которым он подписал договор, солгал ему насчет проданных иностранных прав на книгу, а еще один, когда автор отчаянно нуждался в совете относительно карьеры, ответил, что не может помочь, потому что понятия не имеет, как устроен бизнес. Возможно, этому автору просто не повезло. Конечно, писатели редко проходят через шесть агентов за 15 лет, и на каждую подобную историю найдется история писателя, который счастливо сотрудничал с одним и тем же агентом на протяжении всей своей карьеры. Но опыт этого автора указывает на то, что в поле, в котором агентом может стать любой и нет никаких общих стандартов и правил, поиск хорошего агента – непростая задача, решение которой часто зависит от неуловимой смеси хороших связей, правильной химии и удачи.
3. Появление издательских корпораций
Третьим фактором, который повлиял на эволюцию англоязычного массового книгоиздания в последние десятилетия, стало появление крупных издательских корпораций. Для многих наблюдателей это самое заметное изменение, которое произошло в книгоиздательском мире, поэтому может показаться странным, что мы обращаемся к нему только сейчас, но я отложил анализ этого явления по веским причинам. Принципиально важно понимать, что поле массового книгоиздания состоит не только из издательств: есть другие игроки, которые составляют часть этого поля и обладают в нем значительной властью, и мы никогда не поймем, что происходит в издательских фирмах, пока не осознаем, что их действия в некоторой степени являются реакцией на силы и события, которые находятся за пределами их прямого контроля. Может показаться, что крупные издательства являются основными игроками и обладают большой властью (и это действительно так), но в цепочке поставок книг издательство во многих отношениях – лишь один из посредников, игрок середины поля, и власть издательства, какой бы она ни была, всегда ограничивается и сдерживается властью двух других ключевых игроков в поле: речь идет, с одной стороны, о розничных продавцах, в значительной степени контролирующих доступ к покупателям, то есть читателям, и, с другой стороны, об агентах, в значительной степени контролирующих доступ к контенту и его создателям, то есть авторам. Сами издательства благодаря событиям, изменившим поле, являются посредниками, находящимися в положении игроков, которым приходится конкурировать с другими игроками за доступ к наиболее ценному контенту и за внимание потребителей, а также решать, какие книги должны быть представлены вниманию потребителей на все более переполненном рынке.
Расцвет современных издательских корпораций следует понимать именно в этом контексте. Конечно, усиление роли крупных корпораций наблюдается не только в издательском мире: они становятся все более важными игроками в индустрии медиа, информации и коммуникаций, а также в экономике в целом, и многие корпорации, занявшие центральное положение в издательском бизнесе, – это диверсифицированные медиаконгломераты с активами во многих секторах медиа и развлечений[51]. Однако способ консолидации в сфере массового книгоиздания, ее причины и последствия в некоторых отношениях уникальны и тесно связаны с двумя другими тенденциями, повлиявшими на эволюцию этого поля.
Нет никаких сомнений, что появление крупных корпораций столь глубоко изменило ландшафт массового книгоиздания, что сегодня оно мало похоже на издательский мир, существовавший полвека назад. В 1950‐х и ранее в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне действовали десятки независимых издательств. Наиболее известными американскими издательствами были Random House, Simon & Schuster, Scribner, Doubleday, Harcourt, Harper, Boni and Liveright, Henry Holt, Dutton, Putnam, Viking, Alfred Knopf, Farrar, Straus & Giroux, William Morrow, W. W. Norton, Houghton Mifflin, Little, Brown, если перечислить лишь некоторые. В Лондоне тоже было множество независимых издательств массовой литературы, включая Macmillan, Longman, John Murray, Routledge and Kegan Paul, Heinemann, Allen & Unwin, J. M. Dent, Chapman & Hall, Gollancz, Jonathan Cape, Faber, Secker & Warburg, Michael Joseph, The Bodley Head и Penguin. Многими из этих издательств управляли люди, которые либо непосредственно владели компанией, либо имели существенную долю в ней, и обычно в бизнесе также участвовали другие члены их семьи. Издатели-владельцы часто были людьми с сильным характером и собственным мнением – и почти всегда это были мужчины. Они знали, что хотели публиковать, и формировали свой портфель в соответствии со своими оценками и вкусами и – по мере того как они становились крупнее и делегировали больше ответственности редакторам – в соответствии с оценками и вкусами своих редакторов. Редакторы, как правило, работали в одном и том же издательстве много лет, часто на протяжении всей своей карьеры, а авторы обычно хранили верность публиковавшему их издательству. В некоторых издательствах совещания были редкостью и решения принимались издателями-владельцами, редакторами или совместно теми и другими. «У нас в Random House есть правило, – писал в мемуарах Беннетт Серф, – наши старшие редакторы полностью вольны брать в работу любую книгу, которую хотят, если только за нее не нужно платить большой аванс. В последнем случае мы обсуждаем вопрос. В Random House есть две формы обсуждения. Первая – регулярные встречи, общие совещания, которые я ненавижу и на которые не хожу. Другой метод – когда я, если хочу встретиться, собираю людей, которые мне нужны, и мы разговариваем, – именно так, на мой взгляд, и следует вести издательские дела»[52]. Эти фирмы управлялись с различной степенью эффективности и финансовой дисциплины. Некоторые, вроде Random House, процветали и превращались в крупные и успешные издательские компании, в то время как другие чувствовали себя хуже. Гораций Лайврайт, бывший работодатель Беннетта Серфа и издатель многих знаменитых авторов – от Эзры Паунда до Уильяма Фолкнера, известен тем, что тратил свои ресурсы на все – от щедрых вечеринок и огромных авансов до бродвейских мюзиклов и спекуляций на Уолл-стрит. В конце концов его выгнали и он умер без гроша в 1933 году – в том же году, когда его фирма была объявлена банкротом[53].
В начале 1960‐х годов ландшафт массового книгоиздания в США и Великобритании, состоявший из множества независимых издательских фирм, начал меняться. Крупные корпорации стали интересоваться издательской индустрией, а многие владельцы издательств проявили интерес к продажам. По отрасли покатилась волна слияний и поглощений, начавшаяся в первой половине 1960‐х годов и продолжающаяся до сих пор. К 1990‐м годам отрасль радикально преобразилась: в поле, где когда-то существовали десятки независимых издательств, каждое из которых отражало индивидуальные вкусы и стили владельцев и редакторов, теперь было пять или шесть крупных корпораций, служивших зонтичными организациями для многочисленных импринтов, многие из которых носили имена ранее независимых издательств, ставших теперь частью более крупной организации и имевших различную степень автономии в зависимости от стратегии и политики корпоративных владельцев. Как можно объяснить эту резкую трансформацию поля?
