Шуньята под соусом демиглас
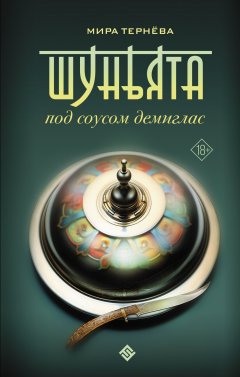
© Мира Тернёва, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Выпуск первый
Жить мёртвым
Дико извиняюсь, конечно, ребятки, но я не сдох. Вот так досада, правда?
Это, если хотите, краткий пересказ всех выпусков предыдущего сезона. Дальше можно не смотреть. Вы не потеряете ровным счётом ничего, так что давайте, переключайте канал и продолжайте заниматься своими делами. Набивать кишки, гонять лысого, спрашивать у детишек, как прошёл день в школе, – или чем вы там, ублюдки, обычно развлекаетесь, хрен вас знает. Возражать не буду.
Самым стойким и преданным фанатам, вытерпевшим миллиард выпусков нашей тягомотины и оставшимся в добром здравии, – привет.
Те, кто смотрел прошлые серии, в курсе, чем кончилась моя затея. Всем остальным с прискорбием сообщаю: ничего не вышло. Меня скрутили охранники, выбили из рук нож, дали пинка под зад и вышвырнули обратно в светлое будущее, в смысле, на улицу, куда ж ещё? Кстати, получилось странно: я думал, они вызовут полицию или бригаду санитаров. Был готов к тому, что меня затолкают в машину скорой помощи, врубят мигалки – потребуют объяснить, какого чёрта произошло, почему мне вдруг понадобилась смерть, да ещё и такая паршивая.
Тогда я сказал бы им:
– Рейтинги могли взлететь до небес. Каждый раз, когда кто‐то подыхает в прямом эфире, любое, даже самое унылое, реалити-шоу поднимается на первые места в топ-чарте.
И ещё:
– Ничто так не будоражит зрительский интерес, как чьи‐то кишки, намотанные на люстру. Или расколотый надвое череп, из которого на кухонную плиту вытекают мозги. Это гениально простое, первобытно примитивное искусство наглядно демонстрирует потаённую суть человека, его подлинную глубину, и оттого оно ценится так высоко.
И ещё:
– Передавайте привет Майе, fils de pute[1].
Я столько раз прокручивал эту эффектную речь в уме, что, думаю, вышло бы впечатляюще. Вы, ребята, оценили бы. Но вот незадача: никто не захотел меня слушать. Возможно, все попросту растерялись, чего уж там. Сценарий не предполагал, что я узнаю правду, пойму, что тут происходит на самом деле. Пока я жил в неведении, всё было зашибись. И мне хлеб, и вам зрелище – чётенько, как в методичке.
Ну ладно, с хлебом был напряг, но зрелище выходило каждый день, строго по расписанию, в двадцать один ноль-ноль. Тогда я ещё этого не знал, даже предположить не мог, что представляет собой моя нелепая жизнь.
Вам когда‐нибудь казалось, что само ваше существование подозрительно похоже на дерьмово срежиссированное реалити-шоу? Если да, знайте: вы недалеки от правды. Извиняйте, ребятки, но замалчивать её я не стану. Кто сказал, что на пути к просветлению должно быть хорошо? Хорошо будет потом, а сейчас будет плохо.
Начнём, пожалуй, с главного, чего ходить вокруг да около. Кто там отвечает за монтаж, пустите картинку. Да нет, кретины, не эту, бродяга пришёл позже. Кстати, ребятки, помните его? Ну да, забудешь такое, ха-ха.
А, ну, собственно, вот. Наслаждайтесь. Можете ещё попкорна сходить навалить – или что вы там любите, – только слушайте закадровый голос.
Внимательно слушайте, мать вашу! Второй раз повторять не буду. Вы меня знаете, я никогда не отличался терпением.
И в тот злополучный день тоже. Вообще‐то именно с этого места стоило начать рассказ, но вы же понимаете, если заведусь, потом хрен заткнёшь.
Так вот, день выдался крайне паршивым, из тех, про которые говорят: «Всё было ужасно, а потом стало ещё хуже». Или как‐то иначе? Ладно, не суть. Я сидел на асфальте у входа в забегаловку, голодный и злой, как побитая псина. А надо мной возвышалась старая вьетнамская сука и, размахивая руками, продолжала нести свою тарабарщину, не затыкаясь ни на секунду. Уверенная в том, что, если у меня разрез глаз точно такой же, как у неё, я обязан понимать каждое слово. Ага, разбежалась!
– Да ты, блядь, издеваешься, – пришлось перейти на французский, в прямом и переносном смысле. Исключительно для того, чтобы до неё быстрее дошло: мы разные, merde[2]! Я, конечно, ненавидел этот язык, но знал его очень хорошо – почти так же, как родной. Спасибо мамаше, грезившей о Париже. Всякий раз, когда я приходил домой, она неизменно спрашивала:
– Comment ça va, Rémy?[3]
Ну, вы понимаете, какое у неё было чувство юмора, да? Она настолько удачно двинулась башкой, что дала мне, единственному сыну, французское имя. Видимо, для того, чтобы в течение следующих двадцати с лишним лет каждая собака спрашивала, как там погодка в Ницце. Это ведь очень смешно, а главное – оригинально, обоссаться можно.
Словом, я продолжал материть старую вьетнамскую стерву на изысканном языке Флобера и Мопассана, а ей хоть бы хрен. Она визжала как резаная, ничуть не меняясь в лице. Мы даже не пытались сделать вид, что понимаем друг друга, хотя со стороны могли бы сойти за родственников, и я запоздало осознал смысл притчи про Вавилонскую башню. Прочувствовал печенью, что называется.
Мне стало очень плохо, к горлу подступила тошнота. Может, причиной тому был отвратительный запах прогорклого масла и специй, раздражавший ноздри и оседавший не в лёгких, а в желудке, но какая разница? Я с отчётливой ясностью ощутил, что люди похожи на молекулы, которые находятся в бесконечном хаотическом движении, бьются друг о друга и отскакивают, никогда не соприкасаясь по-настоящему. Не знаю, правильное ли это объяснение с точки зрения физики и всего такого, но тогда мне, измотанному и обессилевшему, пришло на ум именно оно. На пустой желудок я становлюсь крайне сентиментальным, вы меня знаете. А поскольку пуст он почти всегда, сентиментальности во мне столько, что ею можно осчастливить маленькую африканскую страну и пару индийских деревень в придачу.
Думаю, это хорошая вещь. С точки зрения гуманизма и всего такого. Нет, я не имею в виду, что люди должны голодать, дабы преисполниться благодати, блаженства и прочего бла-бла-бла. Но когда человек сыт – во всех, если угодно, смыслах, – он туп, глух и равнодушен, как последняя эгоистичная мразь.
О чём была речь, напомните? Ах да!
В общем, я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание – от духоты, отчаяния и голода. Упаду и ударюсь головой об асфальт. В конце концов, сколько я уже не ел? Неделю? Дней десять? Мне было тяжело ходить, думать, говорить. Напрасная болтовня наряду с жарой истощала силы. С каждым произнесённым словом из тела понемногу утекала жизнь. Я выдыхал её, ощущая, как она жжёт лёгкие и язык, горячая, словно кровь. Вместе с ней выходили злоба и раздражение, и в конце концов не осталось ничего – только отрешённое спокойствие мудреца в нирване. Или висельника в петле, что вероятнее.
– Мира тебе, пизда ты тупая, и гармонии с собой и со всем сущим, – из последних сил пробормотал я, не стараясь перекричать полоумную вьетнамку. Чего она хотела – понятия не имею. Может, пыталась меня прогнать, а может, поведать о бессмысленности жизни. Оба варианта казались одинаково правдоподобными.
Я знал, что на кухне у них полно объедков. И она могла бы по доброте душевной вынести мне лапшу или какой‐нибудь бульон – сошло бы что угодно, я был неприхотлив и смирен, будто дитя. Но слово «милосердие», видимо, на вьетнамском звучало как «иди на хуй, шмара», поэтому мы немножко недопоняли друг друга.
Собрав волосы в хвост, чтобы подставить ветру взмокшую от пота шею, я закрыл глаза. Плевать, подумалось мне, делайте что хотите: соскребайте меня с асфальта, тащите на задний двор, кидайте в мусорный бак, но сам я никуда не уйду. Если такова судьба, сдохну прямо здесь под аккомпанемент вьетнамского мата.
Именно в этот момент из глубин головы раздался голос. Он сказал…
Да неправда, не он, а она. Голос был женский, но не принадлежал ни хозяйке забегаловки, ни моей maman, ни одной из подружек. Я никогда не слышал его прежде, вернее будет сказать, что он мало походил на человеческий. У людей не бывает такого умиротворяющего спокойствия.
– Ты живёшь в иллюзиях, котик.
Я даже решил, что ослышался. Или, что вероятнее, меня настиг предсмертный диметилтриптаминовый бред. Ну, знаете, когда человек готовится отбросить копыта, его агонизирующий организм вырабатывает особое вещество, по действию чем‐то похожее на ЛСД. И отсюда глюки, свет в конце тоннеля, хор ангелов и тому подобная фигня. Так говорила психолог из соцобеспечения, а она баба умная, хоть и стерва, поэтому не было оснований ей не верить.
– Чего? – растерянно спросил я. – Ты вообще кто?
– Мудрость и здравый смысл, – отозвался голос. – Но ты, принц Рама, можешь обращаться ко мне как к Васиштхе.
Я даже не успел повторить это зубодробительное имя, возразить, что меня зовут чуточку иначе и никакой я не принц, как она продолжила:
– Всё здесь ненастоящее. Ничего этого нет.
Тут, будто в подтверждение её слов, откуда‐то сверху послышался отчаянный крик:
– Эй, дружище! Ты не видел моё золото?
– Да вы, мать вашу, сговорились, – страдальчески простонал я. И, разморённый солнцем, галлюцинациями и усталостью, с трудом разлепил глаза. – А?
Но, вопреки ожиданиям, увидел не вьетнамку, а странного мужика. С клочковатой бородой, весь в рванине, это был бродяга вроде меня, но такой, знаете, прожжённый, опустившийся на самое дно. От него несло как от выгребной ямы, руки по локоть были измазаны в грязи.
– Моё золото, – чуть не плача повторил он, шевеля пересохшими губами. – Не видел, нет?
Я отупело уставился вниз, повозил подошвами кед по асфальту, приподнимая сначала одну ногу, потом другую. Подумал, может, у него из кармана выпало кольцо или что‐то такое – мало ли, вдруг он грабанул кого, хотя это не моё, в конце концов, дело.
И тут он сказал:
– Мешок, понимаешь? Мешок с золотом! Его нигде нет!
– Мешок? – эхом повторил я, обалдев от такого поворота событий. И ещё раз оглядел мужика с ног до головы. – Извини, конечно, но ты не очень похож на арабского шейха.
Вы бы, ребята, решили, что чувак слегка не в себе. Признаться, сперва я тоже подумал именно об этом. Но от него не пахло спиртным, и было непохоже, что он под кайфом. Не чета красавчику, который еженощно шатался туда-сюда, с трудом держась на ногах, размахивал руками и душераздирающе орал. Наверное, сражался с космическими викингами. Что, не видели никаких викингов? Теперь вы знаете, кого благодарить за спасение мира.
Нет, наш дружок оказался поразительно трезв и не выглядел сумасшедшим. Из нас двоих психом можно было со всей справедливостью назвать только меня. Разве нормальный человек способен слышать голоса, а, ребятки? Вот то‐то и оно.
– Эй, Васиштха, – осторожно спросил я, не трудясь раскрывать рта. Смекнув, что, раз уж мне предоставили бесплатную квалифицированную помощь мудрейшей, грех не воспользоваться её услугами. – Кто это такой?
Она засмеялась – так громко, что голову пронзило болью.
– Этот человек приведёт тебя к истине.
С трудом балансируя на границе между явью и сном, я не испытал ничего похожего на удивление. Думаю, если бы в тот миг мне сказали, что случился апокалипсис, я бы тоже отрешённо покивал и согласился: ладно, допустим.
– Только что был здесь! – продолжал распаляться мужик, прижимая руки к груди. – Я на секунду отвернулся, а мешок пропал! Буквально растворился в воздухе, представляешь?
– Да уж, – другого ответа у меня не нашлось. В висках гулко застучала кровь, мне снова показалось, что я вот-вот отключусь.
Он обхватил себя руками, как девчонка, и задрожал. Жара стояла невыносимая, а мужика колотило, будто от озноба. Как бы там ни было, мне вдруг стало отчаянно его жаль. Кажется, он находился в положении куда более плачевном, чем я. Когда тебе есть что терять, ты превращаешься в самое несчастное существо на земле.
– Эй, а я тебя знаю! – Лицо его вдруг просияло. – Ты же Придурок.
Это незатейливое оскорбление задело меня до глубины души. Я, позабыв о человеколюбии, вскочил так быстро, что в глазах потемнело, схватил его за грудки и потянул на себя.
– Чё сказал‐то, а?
– Да ты не обижайся, дружище, – захихикал он, – просто тебя все так зовут. Продюсеры, ведущие, зрители – все. Это типа сценический псевдоним. Понимаешь?
Я не понял вообще ни хрена. И окончательно уверился в том, что либо упал в голодный обморок, либо телепортировался на тот свет. А какие ещё могли быть варианты, сами посудите?
– Ты что несёшь, идиот?
– Я смотрел каждую серию! – горячился мой новоиспечённый приятель. – Все двадцать четыре сезона! Помню, как ты впервые появился! Никто не верил, что ты продержишься, а я это знал! Знал, что ты надерёшь им задницы! – Он запрокинул голову и проорал куда‐то в небеса: – Эй, Майя, слышишь? Твоя матрица дала сбой! Можешь у нас отсосать!
Я резко разжал пальцы, и он пошатнулся, едва удержавшись на ногах.
– У тебя крыша, что ли, поехала? – Пришлось на него прикрикнуть в надежде прервать поток бессвязной болтовни. – А ну, заткнись! И давай с начала, чтоб я понял.
Мужик поглядел на меня со странной смесью удивления и сочувствия, как на увечного.
– Так ты тоже не знаешь, что ли? – Он издал визгливый смешок и вдруг панибратски похлопал меня по плечу. – Ой, дружи-ище… Извини, я думал, ты в курсе. Ладно, – крякнул бродяга, что‐то прикинув в уме, и кивком указал на дверь забегаловки, – пошли пожрём, что ли. На сытый желудок горевать как‐то проще.
Я раскрыл рот, чтобы поинтересоваться, есть ли у него вообще деньги на это недостижимое удовольствие, и мужик, будто предугадав мою мысль, вытащил из заднего кармана джинсов пригоршню золотых монет. Тут я окончательно обалдел.
Видимо, у меня слишком явно вытянулось лицо, потому что он улыбнулся, обнажив ряд гнилых зубов, и сказал:
– Подарочек от Майи. За неразглашение коммерческой тайны, – подумав, выдал он неожиданно умную фразу, смысла которой я, впрочем, тоже не понял. Но решил не уточнять и ввалился в забегаловку вслед за своим благодетелем. В конце концов, в моём положении отказ от обеда был бы равен самоубийству.
Внутри стояла страшная духота, ещё хуже, чем на улице. Единственный на весь зал вентилятор не работал, отчего казалось, что воздуха не было вовсе, только вакуум. Потерявшись в пространстве, я повалился на первый попавшийся по пути столик, снеся стоявшие на нём солонки и бутылочки с соусами. Раздался грохот, снова послышалась неразборчивая речь.
На границе сознания вдруг вспыхнула мысль: ого, да это ж страйк! Она показалась до того забавной, что меня скрутило хохотом. Я сполз на стул и закрыл руками лицо.
– Чего она хочет? – спросил мой приятель, усевшись напротив. И кивнул в сторону разъярённой старухи, которая, подойдя к нам, снова принялась визжать и размахивать руками.
Оглядев обоих, я скептически хмыкнул:
– А я похож на дипломированного переводчика с вьетнамского?
– Да откуда мне знать?! – поджал губы мужик. – Вы ж, узкоглазые, все на одно лицо! – с потрясающей простотой наглости взвизгнул он.
Я припечатал ладонью липкий от жира стол. Меня вдруг захлестнуло острое справедливое возмущение. Такой силы, что от недавней осоловелости не осталось и следа.
– Ты ёбаный расист! Да я, блядь, наполовину чистый ариец! Меня, в конце концов, зовут Реми, понимаешь ты или нет?! Реми, а не какой‐нибудь Хуй Мин! И я в душе не ебу, что она несёт, потому что не говорю ни по-вьетнамски, ни по-корейски, ни, блядь, по-камбоджийски! Tu vois ce que je veux dire?[4]
В зале повисла тишина. Замолчали все – даже неугомонная старая мымра, стоявшая возле нашего столика. Бродяга оторопело сморгнул, осмысливая услышанное, и протянул:
– Так, значит, ты француз?
– Да вы все издеваетесь, что ли?! – Накопленные за день потрясения были столь велики, что от этого давно ставшего привычным вопроса я едва не разрыдался. Вот она, обратная сторона голодной сентиментальности, ребятки.
Тут мужик, видимо, догадался, что разговор вывернул куда‐то не туда, и испуганно выпрямился. Лицо его приобрело несколько растерянное выражение. Он снова показался мне маленьким и несчастным, как бездомный щенок.
– Ладно, чувак, прости, – сказал я, мысленно коря себя за несдержанность. И поспешил сменить тему: – Так что с твоим золотом?
Он вздохнул и потёр бороду, но ничего не ответил. Вместо этого обернулся к вьетнамке и жестом показал на меню, ткнув грязным пальцем в первое попавшееся название.
– Смотри-ка, – и с этими словами опять просиял, – а вот и камера.
– Что? Где?
Мой приятель зачем‐то огляделся по сторонам, задрал голову, выпятив острый кадык, и со знанием дела сообщил:
– На стене.
Я присмотрелся, но не заметил ничего необычного. Надпись как надпись, полустёртая, со всеми этими закорючками, чем‐то отдалённо похожими на циркумфлексы[5] во французском.
– Да нет, – он растянул губы в чуть самодовольной улыбке, – не так. Старайся смотреть как бы насквозь, но не фокусируй внимание, понимаешь?
Хмыкнув, я последовал его наущению: всё равно заняться в ожидании обеда было нечем. И тут заметил кое-что странное. Дымку, знаете, такое лёгкое марево, в котором буквы смазывались, истончались и окончательно исчезали. За ним, как за полупрозрачной завесой, мигая красным светом, сверкал бдительный глаз камеры видеонаблюдения. Я на всякий случай даже проморгался.
– Видишь? – озарился радостью мужик. – Видишь, да?
Ситуацию это никак не прояснило, так что я задал встречный вопрос:
– Что за срань?
Он сцепил пальцы в замок и подался вперёд. После чего, вопреки условиям собственного контракта, сообщил коммерческую тайну, которую я сейчас милостиво перескажу вам, потому что мне один хрен терять нечего. Я-то в этом деле собаку сожрал и щенком закусил, а вы ещё молодые, зелёные. И не знаете, как проверить реальность на прочность, чтобы понять, не задурили ли вам голову. Но ничего, всё поправимо. Главное, слушайте внимательно. Не переключайте канал.
Aparté[6]: да, Майя, кстати, можешь у меня отсосать.
Итак, допустим, у вас одна за другой лопаются новые лампочки. Что следует сделать в таком случае? Отправить их в мусорное ведро? Сходить в магазин и засунуть осколки в глотку чувака, который продал вам бракованный товар? Не-не, ребятки. Сперва осмотрите плафоны, стараясь глядеть сквозь них, не задерживая внимание. О, вы узнаете много интересного. Например, то, что к стенкам изнутри прикреплены маленькие металлические щепки длиной с ноготь. Прослушивающие устройства.
Выбросьте их и забудьте о произошедшем. В конце концов, может, это всего лишь часть плафонной конструкции. Успокойтесь и ни о чём не волнуйтесь. Ни единой душе нет до вас дела, кому вы всрались‐то вообще, параноики хреновы? Думаете, все спецслужбы мира извращаются в попытках забраться вам в мозги? Ха-ха, потрясающее самомнение! Расслабьтесь, короче. Ложитесь спать.
Но сперва залезьте в холодильник – ну так, знаете, на всякий случай, чтобы убедиться, что вам показалось и для глупых мыслей нет никаких оснований, – проверьте бутылку с молоком. Видите осадок на донышке? Тогда будьте уверены: это валиум. Он никогда не растворяется до конца.
О, теперь‐то у вас затряслись поджилки. Но не волнуйтесь, такая реакция естественна для любого здравомыслящего человека. Вы не понимаете, как все эти штуки могли оказаться в вашем доме и кому понадобилось устраивать слежку. Вы ведь не посещали запрещённые сайты без VPN-расширений, не снимали детское порно (все девчонки, кажется, были совершеннолетними), а о навязчивых фантазиях о захвате самолёта не рассказывали никому, кроме своей собаки, которую сами же выдумали.
Ну ладно, ладно, может, вы где‐то и прокалывались. Забывали очистить кэш в браузере, стереть пятна крови с подошв кед. Но ведь этого недостаточно, правда? Маленькие, не заслуживающие внимания промахи.
Усвойте одну вещь: вы слишком никчёмны для того, чтобы за вами наблюдали иностранные агенты, но достаточно нелепы и смешны, чтобы, не подозревая того, участвовать в реалити-шоу. Зрители оборжутся, даю слово.
Вспомните, как неудачно вы поскальзывались на кухонном полу.
Вспомните, как хотели сказать продавцу «Дайте куриное филе», а вместо этого просили филиное куре.
Вспомните, как вдохновенно отвечали на вопросы сидящей рядом женщины, думая, что диалог завели именно с вами, а когда она обернулась, к уху её была прицеплена блютуз-гарнитура.
Не очень‐то приятно осознавать, что за всеми вашими позорными провалами кто‐то и вправду следил, да? Ха-ха, будьте уверены: народ по ту сторону экранов покатывался со смеху. Но даже если вам не заплатили за участие в шоу и не предупредили о вмешательстве в частную жизнь, не спешите носиться с пеной у рта и требовать моральной компенсации. Внимание – валюта куда более ценная, чем деньги. По крайней мере, теперь вы знамениты.
Но в тот миг, услышав всё это, я по-настоящему рассвирепел. Главным образом из-за того, что моему приятелю выплатили аванс, а я сидел в драных джинсах, голодный, не знающий, где сегодня ночевать. Представьте себя на моём месте. Вот на секундочку засуньте морализаторство в задницу и подумайте, как бы отреагировали вы. Не думаю, что сказали бы что‐то типа: «Я так рад за тебя, чувак, даже не представляешь». Кого вы пытаетесь обмануть, sales égoïstes[7]? Да вы бы рвали и метали, скрежетали зубами, захлёбывались желчью!
Я с трудом мог усидеть на стуле, мне хотелось вскочить и разнести весь зал, поколотить поваров и самого этого счастливчика – просто для того, чтобы выплеснуть негодование на несправедливость поганого мира.
– Целый мешок золота! – нервно засмеялся мужик. – А если дойду до конца… – Он воровато огляделся по сторонам и перешёл на заговорщический полушёпот: – Обещали дать ещё десять таких же.
– Да ебись ты конём! – взвыл я, добитый в самое сердце.
Действительно, а что ещё тут скажешь?
Впрочем, кое-что в этой истории не складывалось. Во-первых, если ты, чувак, дохера богатый, почему ходишь в обносках и воняешь, как навозная куча? Во-вторых, кто такая Майя? И, наконец, с какой стати тебя поставили в известность об участии в шоу, осыпав деньгами, а меня нет?
– А может, ты просто ограбил банк и выдумал всё это, чтобы я тебя не сдавал? – напрямик, не без затаённой злобы, бросил я.
Ответить он не успел: к нам снова подошла старая стерва. В руках у неё была не тарелка, а что бы вы думали? Ну давайте-давайте, напрягайте извилины, включайте фантазию. Швабра? Кактус? Или, может, вибратор? Не-а, не угадали.
Беретта, мать её.
Я завизжал, как монашка, впервые увидевшая член. Справедливости ради стоит сказать, что он действительно был хорош: большой, отполированный, отливающий холодным металлическим блеском. На миг я даже залюбовался. Но спросить, какого чёрта происходит, не успел: эта мразь нажала на спусковой крючок. А потом ещё раз. И ещё. Она продолжала изрешечивать бедолагу до тех пор, пока не опустошила магазин.
Охренеть, только и смог подумать я, вот и пообедали, называется.
Мир громыхнул, разорвался на части и хлынул кровью во все стороны, запачкав стены, столик, обагрив листы меню. Разлетелся брызгами и попал мне в лицо. Кровь стекала по подбородку, по шее, густая и тёплая, впитывалась в ворот футболки, а я орал, не помня себя, захлёбываясь криком. Не знаю, сколько это длилось. Я потерялся во времени, оглох и отупел, сознание моё окончательно спуталось.
– Супчик будешь? – поинтересовалась вьетнамка, когда из лёгких у меня вышел весь воздух и я безвольным тюком обмяк на стуле. На чистейшем, блядь, французском спросила, чтоб вы понимали. Ну, типа как la maman, приколитесь, да? Ласковая такая, заботливая, преисполненная любви и света, пиздануться можно.
Но я настолько осоловел, что и бровью не повёл. Пробормотал:
– Ага, давай.
Знаете, что может быть хуже смерти? Пустой желудок. Умираем мы один раз, а кушать хотим всегда.
На самом деле причина моего дурманного спокойствия крылась в том, что я резко, в один момент, разучился удивляться. Потерял саму эту способность. Куда она делась – непонятно. Растворилась в воздухе, видимо. Ну, или наш приятель забрал её с собой.
Хотя лицо у него было такое странное, безмятежное, почти красивое. На нём не застыло ничего похожего на изумление. Наверное, бедолага даже не успел сообразить, что помер. Не почувствовал. Но вообще, смерть добавила ему некоего шарма, не побоюсь этого слова, сделала образ очень цельным, правильным.
Пока я жадно глотал суп, не разбирая вкуса, мужик продолжал сидеть и смотреть на меня неподвижно мёртвыми глазами. Точнее, куда‐то сквозь, не фокусируя внимания. Я оглянулся, чтобы понять, куда он пялится, и увидел грёбаный мешок. Тот самый, ага. Он стоял у окна, слегка запачканный кровью – на него попала пара капель, ярко-красных, как детская гуашь.
Смысл рассказа, знаете, открылся мне во всей полноте.
– Люди должны жить как мёртвые, чтобы видеть суть, – сказала Васиштха, о существовании которой я успел позабыть. – Но надо понимать это не разумом, а сердцем.
– Ага, – безучастно отозвался я, дрожащими руками раскрывая мешок.
Но если вы, алчные ублюдки, думаете, что мне удалось стать царём и жить на широкую ногу, купить пентхаус, тачку с открытым верхом, падать мордой в крепкие загорелые сиськи первоклассных шлюх, а потом сразу, не отходя от кассы, в кокс, придётся вас слегка разочаровать.
Денег в мешке не оказалось. Я непонимающе вертел его и так и эдак, вытряхивал, колотил по нему кулаками, втирал ногами в пол, но внутри ничего не было. Ни единой монетки. Только воздух.
Меня захлестнуло веселье яростной безнадёжности. Я смеялся и смеялся, возя подошвами по липкому от крови полу, до тех пор, пока не почувствовал тесноту в груди.
Уж что-что, а золото наш приятель точно забрал с собой. Если вам будут доказывать обратное, шлите этих умников в пизду. Да, сами деньги, вероятно, трудновато унести на тот свет. Зато вместе с человеком запросто уходит кое-что другое. Уверенность в том, что он сказочно богат.
А разница, если разобраться, невелика.
Выпуск второй
Лицо без лица
Скажите, ребятки, вы будете скучать по Придурку, когда выпуски с его участием подойдут к концу? Это, конечно, очень эгоистично и по-детски наивно – думать, что вы смотрите шоу только ради меня. Я в этом цирке далеко не главный клоун. Нас, участников, сотни, тысячи, миллионы. Скорее всего, вы тоже из их числа. Да-да, именно вы, сидящие у экранов с тарелками попкорна, наблюдающие за моими нелепыми похождениями.
Кто‐то сейчас смотрит на вас. А за вашими зрителями, в свою очередь, следят другие, за теми – третьи, и так до бесконечности, пока вы не включаете телик и не попадаете на кого‐нибудь из них. Круг замыкается, змея кусает собственный хвост, все дела. Красивенько получается, если посудить. Настоящее искусство.
Ну-ка, признайтесь, параноики мои любимые, вы уже заклеили камеры на ноутбуках? Отодрали плинтусы, чтобы проверить, нет ли под ними микрофонов? Может, вытряхнули подушки, сожгли матрасы, осознав, что самые грязные свои секреты выбалтывали именно в постели – там, где всегда чувствовали себя в безопасности?
Тогда вот что я вам скажу: даже не надейтесь, что найдутся все жучки. Нет, серьёзно, вы и предположить не можете, где они прячутся. Оставьте в покое свои брюки, верните ножницы на место. Хватит сдирать обои и поливать бензином занавески. Не надо спешно бросать дома и уходить куда глаза глядят. И снимите уже, блядь, эти дурацкие шапочки из фольги, что вы как кретины последние, ей-богу! Думаете, Майя не найдёт способ запудрить вам мозги? О, вы слишком плохо знаете эту тварь, друзья мои…
Но, признаться, перспектива быть всенародным шутом мне тоже сразу не понравилась. Мутная какая‐то дичь, заключил я, снова покосившись на продырявленное тело бродяги. Мало того что грохнуть могут в любой момент, так ещё и денег, как выяснилось, не дают. Сплошное наебалово, словом.
Поэтому я решил вконец оборзеть. И прямо спросил:
– А можно не участвовать в этом вашем карнавале? – глядя, как вьетнамка елозит мокрой тряпкой по полу, размазывая кровь. В тусклом свете ламп потеки казались почти чёрными, и со стороны можно было подумать, что на самом деле кто‐то разлил соевый соус. Или разбил баночку с вишнёвым вареньем. Психологическая защита, ну, вы понимаете. Я подспудно решил для себя, что кровь бутафорская, и именно поэтому остался в здравом уме.
Кстати, забавно, что мы часто сравниваем её с кетчупом, вином или сиропом, да? Как будто в глубине души хотим попробовать на вкус.
Вьетнамка, отжав тряпку над ведром, выпрямилась и поглядела на меня с плохо скрываемой насмешкой.
– То есть все участвуют и не жалуются, а ты какой‐то особенный? Самый умный, что ли?
Я вскинул руки в знак капитуляции, поспешив уверить:
– Не-не, я просто спросил. – После чего, подумав, добавил: – А за что ты его… ну, – и замялся, кивком указав на труп мужика. Так, будто тот мог услышать известие о собственной смерти и оскорбиться. Вскочить, знаете, и возмутиться: «Ну вот обязательно напоминать, да?! У меня сейчас вьетнамские флешбэки начнутся!»
– Коммерческая тайна, – старуха со значением подняла палец, – это тебе не хер собачий. И ведь предупреждали же. Пункт сто тринадцать, подпункт три тысячи двести семь. Читать надо, прежде чем подписывать! – сварливо гаркнула она. Тряпка выпала из её рук и с влажным причмокиванием шлёпнулась на пол, как кусок сырого мяса. – Не читают, потом жалуются.
– Так он же это прям на камеру сказал, – осторожно напомнил я. – Толку‐то? Теперь все в курсе. Побежали уже, небось, лампочки проверять.
– Да это потом на монтаже вырежут, – уверила вьетнамка, не меняясь в лице. И со звериной серьёзностью принялась снова надраивать пол.
Я, титан мысли, конечно, не придумал ничего лучше, кроме как спросить:
– А меня тоже вырежут? – И, осознав, что сейчас сказал, расхохотался. Ведь подразумевались кадры с моим участием, вот этот наш с ней разговор, но прозвучало двусмысленно, согласитесь.
– Будешь трепать языком – и тебя вырежем, – с очаровательным простодушием подтвердила вьетнамка.
Тут я даже приуныл. Язык у меня был без костей, и я запросто мог ляпнуть какую‐нибудь глупость, искренне позабыв о существовании всяких коммерческих тайн. Не поймите меня неправильно, не то чтобы я очень боялся смерти. В конце концов, мы близко сталкиваемся с ней каждый день – когда засыпаем. Сон, как и оргазм, – это la petite mort[8]. Но что может быть позорнее, чем сдохнуть на глазах у миллионов гогочущих зрителей?
Забавно, да, ведь в итоге именно таким нехитрым образом я решил сохранить человеческое достоинство и право на свободу слова. Спросите, почему? Всё просто: кровь очищает от заблуждений и предрассудков. Можно презирать участников по ту сторону экрана, но нельзя не восхититься их выпростанными кишками. Зрелище чужих внутренностей пьянит и завораживает, но вместе с тем проясняет сознание. Когда смотришь на синюшно прелестный труп, вдруг понимаешь, насколько сильно любишь людей.
Что, поверили, да? Ах вы мои маленькие кровожадные ублюдки! Нет, на самом деле я ни о чём таком не думал, у меня просто случилась катарсическая истерика. Но об этом позже.
– И что, – поинтересовался я у вьетнамки, – мне теперь тоже скажут подписать этот… как его… договор о неразглашении?
Та окунула в воду липкие от крови руки и буркнула:
– С такими вопросами – к Майе. Она тут главная, вот с ней и разбирайся.
– А где её найти?
Вьетнамка снова что‐то рявкнула на своём неразборчивом торопливо-нервном языке, и из кухни вышел здоровенный детина с усталым лицом злого козла. В руках у него сверкал нож – красивый такой, знаете, чёрный, из рекламы, звучавшей из каждого утюга. Вы тоже её слышали. Бойкий женский голос уверял, что лезвие выточено из вулканического стекла и способно разрезать чуть ли не само время и пространство, хотя можно было справедливо полагать, что в основе чудо-материала лежал обыкновенный маркетинговый пиздёж.
Как бы там ни было, нож казался опасно острым, и я инстинктивно подался назад вместе со стулом. Перевёл взгляд вниз и с досадой заметил, что измазал недавно выстиранные кеды в крови. Теперь подошвы мерзко липли к полу, оставляли за собой тёмные следы. Вообще‐то я весь был в ней: кровь клейкой плёнкой покрывала руки, лицо, шею, тягучими каплями стекала с волос. Но именно запачканные кеды расстроили меня больше всего.
Знаете, что я думаю? Ты можешь выглядеть как последний чухан, ходить в грязных рубашках, с немытой головой, но обувь – обувь должна быть безупречной. Если человек не уделяет внимания чистке ботинок, о чём с ним вообще можно говорить?
– Ван тебя проведёт, – сказала старуха, не замечая моих душевных терзаний.
Я снова глянул на кеды, рассмотрел их со всех сторон и окончательно уверился в том, что в таком виде никуда не пойду.
– А можно умыться хоть? – покосившись на нож в руках Вана, осторожно поинтересовался я.
Хозяйка перевела вопрос, и амбал поглядел на меня с такой свирепостью, что сразу стало ясно: лучше его не злить. Он стиснул рукоять ещё крепче. Чёрное лезвие бескомпромиссно взблеснуло в свете ламп, и мне снова поплохело.
– Слушайте, ребята, – пришлось улыбнуться, дабы изобразить дружелюбие, – а вам не кажется, что вы слегка, ну, са-амую малость… – Я замолчал, подбирая подходящее слово. – М-м… переигрываете? Я ж вообще не при делах. Чего вы взъелись‐то?
Нетрудно догадаться, что моя пламенная речь не произвела на этих двоих никакого эффекта. Вьетнамец больно схватил меня за локоть и рывком сдёрнул со стула, потащив за собой, как мешок с говном.
– Это нарушение неприкосновенности! – завизжал я, возя ногами по полу, пытаясь разжать чужие пальцы, цепкие, будто зубья капкана. – Я свободный человек! И у меня есть гражданские права! Я буду жаловаться! Васиштха, сделай что‐нибудь!
Громила, не внимая воплям, вытащил меня на раскалённый воздух. В глаза ударил мучительно яркий, душевынимающий солнечный свет. И я обречённо подумал: дело дрянь. Кем бы ни была эта Майя, встреча с ней не обещала ничего хорошего.
Пока мы шли (а путь оказался довольно долгим, растянувшимся на целую вечность, как блуждание по бескрайней пустыне), я всё фантазировал, пытался представить её образ. Думал, какая она – сука, создавшая это сраное шоу.
Может, девчонка лет двенадцати, у которой на плече висит винтовка?
Может, бритоголовая шлюха, напичканная силиконом?
Может, беременная старуха?
Позже я понял, что одновременно и ошибся, и оказался чертовски прав. Эта тварь могла носить какие угодно лица, потому что своего собственного у неё не было.
Когда вьетнамец протащил меня по лестнице одного из неприметных зданий и втянул в белый, как операционная, кабинет, Майя, одетая в идеально отглаженный брючный костюм, сидела в кресле, забросив ногу на ногу, и курила сигару. Короткие, блестящие от лака волосы были зачёсаны назад. Но я, как ни силился, не мог её рассмотреть: черты смазывались, казались настолько блёклыми, что пропадали совсем. Нечто похожее, знаете, бывает во снах: лица наслаиваются друг на друга, размываются и в конце концов не остаются в памяти. Вроде понимаешь, что видел какого‐то человека, но, хоть убей, не можешь вспомнить, как он выглядел. Потом этот мутный образ долго зудит в подсознании, вызывает острое чувство дискомфорта, и ты ходишь из угла в угол, испытывая желание расчесать голову до крови, чтобы избавиться от наваждения.
Понимаете, о чём я? Майя была неописуема, безлика, не поддавалась какому‐либо определению, а потому сразу мне не понравилась.
– О, – сказал я, – выходит, это ты тут главная мразь.
Она подняла голову, и сквозь поволоку дыма я увидел её глаза – бесцветные, почти прозрачные, они казались сделанными из стекла или эпоксидной смолы и смотрели прямо на меня, фиксировали каждое движение. Как камеры видеонаблюдения.
В следующий миг воздух в кабинете взорвался от смеха. Дым поднялся к потолку и рассеялся.
– Ладно, французик, ты меня раскусил.
В самую, сука, ахиллесову пяту попала.
– Да вы заебали уже! – раненым медведем взревел я, патетически воздевая руки к потолку. – Никакой я не француз! Сколько можно повторять?!
Майя перевела взгляд на моего проводника, который молчаливой тенью стоял в углу, у стеллажей с книгами, и растянула губы в улыбке. Такой, знаете, корпоративной, способной продать всё: начиная от инсектицидов, заканчивая набором самых острых ножей из вулканического стекла. Она была очень убедительная, эта улыбка, хотя и неискренняя, неживая. Будто гиперреалистичная картина, которую в первый момент принимаешь за фотографию, то есть за запечатлённый миг чего‐то действительно существующего. И, только приглядевшись, осознаёшь, что это просто мазки красок, воображение художника. Вы можете возразить, что разница невелика, ведь подход один и тот же, а вот хрен бы там: объектив камеры объективен, простите за невольный каламбур, а человек всегда что‐нибудь да перевирает, потому что пропускает увиденное через себя.
Путано выражаюсь, но, думаю, вы уловили суть.
– Очаровательный придурок, да? – Майя снова зашлась хохотом. – Каждый раз бесится как в первый. – После чего небрежным взмахом руки указала на кресло с другой стороны стола: – Садись давай, французик.
Скрипя зубами, я опустился на самый край.
– Тебе открыли коммерческую тайну, – без лишних предисловий начала она, быстрым перебором пальцев пригладив волосы. Нервничала, тварь. Ну ещё бы! Как тут не заволноваться? Я ведь мог разболтать тайну кому угодно – причём уже из принципа, поглядев на всю эту поебень со стороны. Что бы тогда стала делать наша красотка, потеряв власть над ничего не подозревающими идиотами?
В общем, суть её слов была предельно проста: никто не должен знать о своём участии в шоу. Главная его идея заключалась в том, чтобы создать подлинную имитацию жизни. Но, как можно догадаться, случалось всякое, попадались кретины, которые додумывались отодрать половицы – обнаружить прослушивающие устройства. Отыскать подозрительные пилюли, едва заметно отличающиеся от привычных, всегда хранящихся в таблетнице. Наутро к таким альтернативно одарённым обычно приходили мужики с дубинками. И, сверкая улыбками, выдавали контракты. Мол, теперь ты, дружище, на особом положении. Что значит, не хочешь подписывать? Какое такое нарушение неприкосновенности? А лишних зубов у тебя, случаем, не имеется? Так это не беда, наши квалифицированные стоматологи быстро разберутся.
– Ага, – сказал я, потирая подбородок, оставляя на пальцах кровавый порошок. – Примерно понял. Всё ненастоящее, но я должен делать вид, что это не так. Ясненько.
Закончив речь, Майя протянула мне пугающе толстенный талмуд. Я искоса оглядел его, пощупал со всех сторон, пытаясь убедиться в том, что не сплю, перелистнул последнюю страницу. И вскинулся:
– Ты издеваешься?! Тут семь тысяч пунктов!
Чтоб вы понимали всю безнадёжность ситуации, текст выглядел примерно вот эдак: «Участник обязывается исполнять обязанности, обязывающие его к исполнению данных обязательств, что гарантирует его исполнительность в соответствии с условиями данного соглашения о неразглашении, соблюдение которых является обязательным для обеих сторон условием, о чём подробно сказано в п. 6810».
– Да иди ты в пизду, – возмутился я. – Не буду я это читать!
– Значит, просто подпиши, – с той же неизменной улыбкой сказала Майя.
Но вы же понимаете, мне не хотелось надевать себе на шею рабский хомут. У каждого человека должна быть какая-никакая свобода выбора. И моя выражалась в том, чтобы покончить с этим безумием прямо сейчас.
Я взял ручку и написал на листе размашистыми, крупными буквами: «Suce ma bite»[9]. После чего вскочил и опрометью кинулся к двери. Проскальзывая по плиточному полу, вылетел в коридор и, не оглядываясь, бросился к лестнице.
Не знаю, гнался ли за мной вьетнамец или кто‐нибудь ещё, в тот миг я об этом не думал. В голове пульсировала единственная мысль: пиздец вам, гниды. Я заставлю людей узнать правду. Расскажу им всё, что успел вынюхать. Пусть моё выступление потом вырежут на монтаже, а мне самому выпустят кишки, но я донесу истину до других участников. И хрен меня кто остановит!
О, ребятки, что вы знаете об отчаянии? Оно мгновенно гасит страх, позволяет без опаски ринуться в самую бездну, pardonnez-moi за пафос. Делает человека неуязвимым. И главное – очищает сознание. Освобождает, если угодно. А разве не этого мне хотелось?
Я влетел в первый попавшийся на пути торговый центр, обезумевший, перемазанный кровью, со всклокоченными волосами, и заорал что было мочи:
– Вы все живёте в реалити-шоу! Ваша жизнь – иллюзия! Ничего этого нет! Очнитесь!
Народ в ужасе отшатнулся от меня, будто от прокажённого. То ещё зрелище, наверное, было, ха-ха. Представьте, да, гуляете вы такие, кеды новые покупаете, сковородку – мамаше на день рождения, в руках – пакеты всякие с брендовыми логотипами, а тут я залетаю: опа, bonjour, а не хотите истину в ебальце?
Ну ладно, ладно, я и не спрашивал вообще‐то. Мне не приходила в голову мысль о том, что разрушать чьи‐то привычные устои может быть бестактно, невежливо и всё такое. В тот миг я ощущал себя пророком. И готов был умереть за свою правду.
– Что вы мне сделаете, мрази?! Хотите угандошить – давайте, блядь! Вперёд!
Я отпихнул каких‐то тёток и вбежал в магазинчик, где торговали посудой: кастрюлями, там, ковшиками, турками кофейными – они блестели и сияли в свете софитов, будто экспонаты в музее. Но вершиной композиции было знаете что? Правильно, ножи. Те самые, из рекламы, чёрные, один из которых таскал с собой Ван.
Нож – это высокое искусство, облачённое в простую форму. Крепкое, надёжное оружие, разрубающее узлы противоречий. И способное быстро и красиво вспороть человеческое брюхо, обнажить вязь блестящих кишок.
Я схватил один из ножей и выскочил обратно в вестибюль. Руки тряслись, словно у пьяного.
– Васиштха? – воззвал я к голосу разума. – Ты тут?
Мне хотелось, чтобы она ответила. Сказала что‐то типа: «Да, котик, c’est la vie[10]». Или в крайнем случае: «Тупой осёл, какого хера ты творишь?» – я бы обрадовался чему угодно. Уверился бы в том, что не один, почувствовав твёрдую почву под ногами.
– Васиштха! Ну скажи хоть что‐нибудь!
Но она молчала. В голове не отдавалось ни единого звука, кроме бешеного биения сердца.
В целом мире не осталось никого, кто мог бы отстоять правду вместе со мной. Я был одинок, беспомощен, как ребёнок, забытый родителями в отделе детских товаров. Который поначалу вдохновенно рассматривает игрушки, бегает туда-сюда с пластиковым мечом, представляя себя рыцарем, а потом вдруг замирает посреди магазина. Становится холодно, тревожно и темно, ведь никто за ним не приходит, некому забрать его домой.
Меня охватил приступ экзистенциальной тоски, о которой пишут в книгах.
– Жизнь бессмысленна! – взвыл я, придавленный этим осознанием, как бетонной плитой. – Ничто не имеет смысла! Вот же срань!
Всё было напрасно: никто не собирался воспринимать мои слова всерьёз. Видимо, люди ещё не дозрели до понимания того, с чем столкнулись. Не верили. Или не хотели верить, что, в общем‐то, одно и то же. Ведь лучшее шоу получается лишь в том случае, когда его участники на время забывают об искусственности всего происходящего и полностью отдаются своим ролям. Только тогда оно становится по-настоящему увлекательным и захватывающим. Или же абсурдным, как сейчас. Без этого зрелища человек не в состоянии выжить. И готов пойти на любые уловки в надежде его сохранить.
В общем, неудивительно, да, что в ебало получил именно я?
Выпуск третий
Гори, горюй
Как вы знаете, ребята, именно на этом моменте повествование оборвалось. Прекрасный клиффхэнгер, не правда ли? Герой оказывается в безвыходной ситуации. Что же он будет делать? Удастся ли ему преодолеть внутренний кризис? Сохранить рассудок и жизнь? Столько вопросов и ни одного ответа!
О да, рейтинги были запредельные. Даже несмотря на то, что мои слова про реалити-шоу эти ублюдки вырезали на монтаже, как и визит к Майе. Со стороны всё выглядело так, будто я, потрясённый внезапной смертью нового знакомого, залетел в торговый центр и стал орать о тщетности бытия. Эк расчувствовался, да?
Вы вытирали скупые слёзы умиления.
Вы спрашивали: «А что же будет дальше?»
Вы обсуждали выпуск с приятелями, наперебой споря о том, поедет ли Придурок крышей или останется в добром здравии.
А я в это время сидел на асфальте, разглядывая запачканные в крови кеды, и не понимал, зачем вообще живу. Досада и отчаяние сменились растерянностью. Весь мой маленький мирок вдруг рассыпался, как карточный домик.
– Знаешь, в чём твоя проблема, котик? – спросила Васиштха, чей голос я уже и не надеялся услышать. Настолько спокойно, обыденно, будто никуда и не уходила. Хотя, наверное, так и было: она решила понаблюдать со стороны. Посмотреть, как я буду себя вести, к каким выводам приду. И, поняв, что мозгов у меня не прибавилось ни на грамм, сказала: – У тебя слишком беспокойный ум. Суетливый человек хуже осла.
– Ну спасибо, – огрызнулся я. Делать комплименты Васиштха, конечно, умела, этого таланта у неё было не отнять. Ей недоставало только отзывчивости и пунктуальности.
Я по-прежнему злился из-за того, что она бросила меня в одиночестве. Не мог простить ей внезапного исчезновения. Разве я многого просил? Мне хотелось только поговорить. Болтовня всегда была единственной вещью, которая успокаивала мои нервы, помогала структурировать мысли. В молчании я чувствовал себя крайне неуютно.
Васиштха сказала:
– Человеку спокойному нечего терять и нечего искать. Его не печалят лишения, не затрагивают страдания. Он не цепляется за прошлое и ничего не ждёт от будущего. Его ум подобен ровной глади воды.
Васиштха сказала:
– Так что угомонись, блядь, уже.
Я вздохнул и заново завязал шнурки, чтобы получились ровные красивые петельки, одинаковые с двух сторон. Не знаете, как контролировать собственную жизнь, – начните с малого, ребятки. Приведите в порядок кеды. Гарантирую: вам ненадолго полегчает.
Хотя вот мне что‐то не помогло. Состояние было крайне паршивое.
– Слушай, Васиштха, – подумал я, озарённый гениальной идеей, – может, сходить утопиться? Хоть помоюсь заодно.
Знаете, в чём заключается главное достоинство мёртвых? Они не умеют паршиво шутить. А в том, что надолго в рядах живых задержаться не получится, я не сомневался. С бородатым бедолагой дружки Майи расправились быстро и без сожалений, логично было бы предположить, что меня ждёт та же участь. Коммерческая тайна – это вам не хер собачий. С другой стороны, формально я так и не подписал договор, а значит, никаких условий сделки не нарушил. Ай да молодец, пацанчик!
Слушайте мудрость веков, вы не просили, а я всё равно скажу: не знаете, как поступить, – действуйте непредсказуемо. Все обалдеют от вашей бесстрашной наглости, и, может, вам повезёт. Удача любит безбашенных дураков.
Пекло стояло адское, и виски снова взмокли от пота. Кровь спёкшейся коркой покрывала лицо. Я чувствовал себя тёлочкой в солярии, намазавшейся новомодной маской – такой, знаете, с биодобавками, которая очищает поры, делает кожу мягкой и бархатистой.
– Мне кажется, – протянула Васиштха, – в твоём случае самосожжение было бы лучше.
Шутка могла бы показаться очень остроумной, учитывая, что в сорокаградусную жару у меня нещадно плавилась жопа, готовясь вспыхнуть прекрасным всеочищающим огнём. Но вместо того чтобы расхохотаться, я, поражённый в самое сердце, вскочил и ударил ногой по ни в чём не повинному фонарному столбу. Очень зря: он‐то ничего не почувствовал, а я взвыл от боли.
– Ты думаешь, это смешно?!
– А разве нет? – с прежней невозмутимостью отозвалась Васиштха.
– Пиздец, ну ты и тварь! – во весь голос взревел я, отчего мимо проходящие женщины с пакетами покосились на меня как на умалишённого. – Вот же мразь, а! Да как у тебя вообще хватает совести напоминать?!
Вы знаете, ребята, это была болезненная тема, и я избегал её всеми силами. Ни с кем не говорил после случившегося, кроме полиции и психолога из соцобеспечения. Но, как часто бывает, против собственной воли продолжал возвращаться мыслями в тот злосчастный день. Думать, мог бы я что‐нибудь изменить. Поступить иначе, например, проигнорировать мамашу и остаться дома. Возможно, тогда она была бы ещё жива, а я не слонялся бы по улицам, пытаясь понять, куда приткнуть свою задницу и чем набить кишки, чтобы не скопытиться от голода.
Вы помните тот выпуск? Конечно, блядь, помните, на хера я спрашиваю‐то вообще? Это была одна из самых высокорейтинговых серий. Вам, ублюдкам, понравилось увиденное. Что вы почувствовали? Сожаление? Ужас? Восторг? Давайте, признавайтесь, обещаю, бить не буду. Ну, если только слегка.
А знаете, что тогда испытал я? Совсем ничего. Вам кажется это странным? Нет, серьёзно, именно так всё и было, но не спешите вешать мне на шею табличку «бессердечная тварь». Заткнитесь, раз уж ни хрена не разбираетесь, ладненько?
Вы же понимаете, когда я в последний раз выходил из дома, ничто не предвещало беды. Мамаша сидела на диване в гостиной и смотрела телик. Там было что‐то про фараонов и их разграбленные гробницы, я не вслушивался, и она, судя по всему, тоже. Её куда больше интересовало другое занятие: красить ногти перламутровым лаком. Это, как сейчас помню, был такой пошлый розовый цвет, который обычно любят девочки и тётки лет пятидесяти, ностальгирующие по ушедшей красоте. Но моя maman была ещё молода, ей едва исполнилось сорок, и лицо её, белое, как у призрака, в свете телеэкрана казалось почти юным.
– Rémy, mon chér, – сладким голосом невинного ангела сказала она, когда я сделал шаг к окну, чтобы взять рюкзак.
Французский у неё был чуть грязноват, что, в общем‐то, неудивительно: с носителями языка мамаша никогда не общалась, впитывала познания через учебники, фильмы и песни. Зато меня, мелкого, запихнула на курсы, не дав насладиться беззаботным невежеством детства. Помню, я дико обиделся: денег на комиксы у неё, оказывается, не было, а на эту придурь вдруг нашлись. Как несправедлив наш странный мир!
– Не захватишь вишнёвого эля? – как бы между делом спросила она. – Только смотри, чтоб был холодный. И не вздумай брать ту ослиную мочу, которую принёс в прошлый раз.
– Да? – усмехнулся я, оборачиваясь. И не упустил случая съехидничать: – Ну, раз ты настаиваешь, возьму козлиную. Чтоб не обижать твоё тотемное животное.
Она сложила губы в трубочку и подула на пальцы.
– Опять начинаешь.
– А ты и не заканчиваешь. Неделю уже не просыхаешь.
Мамаша вздохнула и страдальчески закатила глаза.
– Да не пила я, Реми, ну хватит уже! – И с этими словами снова окунула кисточку во флакон, принявшись покрывать ногти очередным слоем лака. На самом деле это было что‐то вроде медитации: она не умела сидеть с пустыми руками. Вечно крутила в пальцах то пульт, то резинку для волос. Лопала воздушные пузыри на плёнке – это её успокаивало. Впрочем, гораздо хуже, чем стаканчик виски.
Моя maman терпеть не могла, когда я напоминал о том, что она слегка – самую малость – перебарщивает с выпивкой. Хотя нет, ха-ха, я её не щадил. И обычно говорил что‐то вроде:
– Опять нажралась как свинья.
Или:
– Я, блядь, тебя в рехаб сдам, сука ты тупая.
Ну, вы понимаете, мои чувства к ней были исключительно нежными. Но мамаша почему‐то обижалась, как несправедливо обруганный ребёнок. Странно, да?
– Tu t’entetes a tout tenter[11], – начал я, скрестив руки на груди. – Давай, продолжай.
Это было моё любимое развлечение. Верный способ проверить, до какой степени она окосела: если сумеет без ошибок произнести одну из французских скороговорок, значит, ещё не успела налакаться. Запнётся раз – можно с уверенностью сказать, что в ней пара бокалов мартини. Два – целая бутылка. Три – маме больше не наливать, пора тушить свечи и тащить тазик.
– Tu t’uses et tu te tues a tant t’enteter[12], – отчеканила она. И, довольная собой, бросила на меня торжествующий взгляд.
– Смотри-ка, – удивлённо хмыкнул я, – и правда трезвая.
На губах её заиграла победная улыбка.
– Две бутылочки, je vous prie[13].
– Обойдёшься. Тебе и одной хватит, – с непоколебимостью отрезал я и забросил на плечо рюкзак.
В общем‐то, это был наш последний разговор, так что запомнился он очень хорошо. Потом я долго прокручивал его в голове, думая, какие бы слова подобрал, если бы знал, чем всё кончится. Но что можно сказать человеку, которого больше не увидишь? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Вероятно, потому что я тупой.
Но мы опять отвлеклись. Короче говоря, найти нужное пойло оказалось не так‐то просто. Квест был тот ещё. Пришлось обойти несколько магазинов, поругаться с продавцами, пытавшимися всучить мне ту самую ослиную мочу, которая не удостоилась одобрения моей маменьки. В одном месте у кассира не было сдачи, в другом распалялся какой‐то доходяга, пьяный в стельку.
– Я те говорю, – он едва держался на ногах, и язык у него заплетался, – в натуре, за нами следят! Бляди сатанинские… думают, я их не вижу. Ага, щас!
Тогда я не придал значения его словам. Решил, что у чувака белая горячка, и мимоходом заметил:
– Бухать надо меньше.
Теперь мне кажется, что люди в торговом центре подумали то же самое, когда я носился туда-сюда с ножом в руках. В принципе, неудивительно. Представьте себя на их месте. К вам влетает какой‐то идиот, перемазанный кровью, и начинает нести конспирологическую хрень. Ха-ха, да любой нормальный человек решил бы, что перед ним обдолбанный психопат-шизофреник!
Ну да ладно, это лирическое отступление. Я намеренно растягиваю рассказ, чтобы не подходить к его главной части. Могу ещё до кучи небо описать. Оно было такое чёрное-чёрное, знаете, будто выкопченное. Поиски эля заняли у меня часа два (он, кстати, назывался Buddha’s Grave, не знаю, зачем вам эта информация, просто живите с ней). И к тому времени, когда я закончил, уже стемнело.
Я шёл с бутылкой, злой как чёрт, и думал, что неплохо было бы расколотить её об асфальт. А ещё лучше – о мамашину голову, чтобы выбить из неё дурь. О, ребята, какой скандал я готовился закатить, вы и представить себе не можете! А какую проникновенную речь сочинил! Древние ораторы могли бы у меня прикурить. Правда, теперь уже ни слова не вспомню, вот незадача.
Aparté: кажется, именно так люди и получают гордое звание «пиздабол».
Кстати, по поводу курева. Я завёлся до такой степени, что затряслись руки, поэтому захотелось подымить – снять напряжение. Вытащив зубами сигарету из упаковки, я принялся шарить по карманам в поисках зажигалки, не замедляя шага. Но её, как назло, нигде не было. Фильтр размокал у меня во рту, а я, чертыхаясь, с досадой вспомнил, что переложил зажигалку в куртку, которая осталась дома.
Поэтому, когда невдалеке показалось зарево, первым делом подумал: о, ну хоть будет от чего прикурить. Не сразу сообразив, что горит именно наш дом.
Мне потом объявили, что, скорее всего, коротнула проводка. Но это наглый пиздёж. Дом полыхал так, словно его утопили в бензине. Пламя охватывало всё: дверь, стены, крышу – и поднималось вверх, к небу, будто хотело достать до самых звёзд.
– Ну ни хера ж себе, – сказал я.
Но не испытал ни страха, ни боли. Я стоял как загипнотизированный и, раскрыв рот, смотрел на огонь. Он слепил глаза, обволакивал меня туманной пеленой, выжигал из головы мысли. Все чувства словно отключились, остались только нечёткие отголоски внешнего мира. Знаете, что это было? Шоу. Потрясающее отупляющее зрелище, от которого не получалось оторваться. Такое странное состояние длилось лишь несколько секунд, но крепко врезалось в память на всю жизнь.
А потом рухнула крыша, и я очнулся. Пришёл в себя и заорал на зевак, собравшихся на улице:
– Bande de cons![14] Хули вы стоите?! Вызывайте пожарных!
Как будто это могло хоть чем‐нибудь помочь. Я понимал, что было уже слишком поздно, но не мог смириться с неизбежным: дома остались мои вещи, деньги, коллекция комиксов, включённый ноутбук. И мать со своим дурацким лаком и документалкой про фараонов.
Меня вдруг охватила такая острая паника, что сердце едва не разорвалось на части. Жуткий, чудовищный страх промчался по венам, как электрический разряд, и перед глазами всё поплыло. Не помня себя, я метнулся к крыльцу, завопив:
– Мама!!!
Кто‐то успел меня перехватить и оттащить назад. Я отбивался, колотил кулаками по воздуху, ревел как раненый зверь, но не разбирал собственных слов. Всё вокруг заволоклось туманом, и я потерялся в нём, утонул, ослеплённый, оглушённый ужасом.
А что произошло потом, не спрашивайте. Вы должны были увидеть титры и крупную надпись: «Продолжение следует». Охуенный сюжетный поворот, да? Шекспировская, блядь, трагедия: герой теряет всё и остаётся один. Ублюдки постарались на славу, устроили настоящий спектакль. Чисто из любви к искусству и аудитории.
Но им было мало. Они потом ещё и организовали мне встречу с психологом из соцобеспечения. Мол, расскажи о своей боли, дружочек, тебе полегчает.
Та баба долго допытывалась, любил ли я свою мать, сожалею ли о её смерти. Когда я сказал, что не знаю, она спросила:
– Значит, ты её ненавидел?
Ей нужен был конкретный ответ: «да» или «нет». Но разве всегда мы испытываем однозначные чувства, которые вот так запросто можно поделить на категории, чтобы дать им названия? Обычно всё гораздо запутаннее, потому что такова наша природа. Люди обожают сложности. И это, поверьте, не от большого ума.
Я сказал честно: я ненавидел свою мать и именно поэтому продолжал её любить. После того как она умерла, мир опустел. Будто из него исчезло что‐то очень важное, без чего жизнь стала неполной, будто пропала сама моя история, я сам.
– А дом? – голосом психолога спросила Васиштха. – Ты туда возвращался?
– Зачем? Там больше ничего нет. Только пепелище.
Но, наверное, это была не совсем правда: дом продолжал жить в моих воспоминаниях – целый и невредимый. Вам знакомо то странное чувство, когда место, в котором вы провели всю жизнь, больше не существует, но оно то и дело всплывает в памяти? Перед глазами вспыхивают узоры на обоях, треснутые чашки, диванные подушки – всякая такая ничего не значащая фигня. И вы думаете: может, это никуда не делось? Может, дом стоит на том же самом месте и с ним ничего не случилось? Вот какие странные, глупые мысли крутились у меня в голове, пока я бесцельно шатался по городу.
– Покажи мне его, – попросила Васиштха. – Хочу посмотреть.
Торговый центр остался далеко позади, и теперь я шёл по широкой изогнутой улице, походившей на полумесяц. По обеим сторонам тянулись маленькие, почти игрушечные, цветные домики, слышался вой газонокосилки, доносилась музыка и трещали чьи‐то голоса. Жизнь тут как будто осталась прежней, и я даже удивился, что этот мир до сих пор существует, совсем не изменившись.
И мой дом тоже стоял на старом месте. Словно мертвец, которого вернули к жизни. Приодели, загримировали, облили духами, чтобы скрыть трупный запах, и выставили на сцену перед публикой.
Я несколько раз протёр глаза, решив, что схлопотал солнечный удар и галлюцинирую. Но дом не исчез. Он был точно таким же, каким я его запомнил в последний раз: не тронутый огнём, побелённый, с распахнутым окном. Даже уродские садовые гномы – и те никуда не делись. С ума сойти, да?
С нерешительностью я взобрался на крыльцо. Толкнул входную дверь, не доверяя увиденному, и замер на пороге.
За кухонным столом сидела Майя, одетая в тот же брючный костюм. В руках у неё была моя любимая чашка – большая такая, литровая, со сколом на ободке и надписью «У кого кружка, тот и босс».
Потрясающая наглость, правда? Я даже обиделся. И сквозь зубы бросил:
– А ты какого хера тут делаешь?
Майя беспечно пожала плечами.
– Да вот сижу жду, когда ты притащишь ко мне свою задницу. Слушай, французик, – губы её растянулись в неизменной безучастной улыбке, – кажется, в прошлый раз мы друг друга недопоняли.
– Это у тебя приколы такие? – не унимался я. – Почему здесь‐то?
– Потому что на самом деле ты всегда сюда возвращаешься, – запросто сказала она. – Разве нет? – И, не дожидаясь ответа, осведомилась: – Тут всё правильно? Я ничего не перепутала?
В мойке по-прежнему громоздилась грязная посуда, на холодильнике висели магниты: миниатюрная Эйфелева башня, Триумфальная арка, французский флаг в виде сердечка, – maman обожала такие штуки. Создала себе ложное воспоминание о Париже, в котором никогда не была. Но я давно смирился с её причудами. В конце концов, чьи‐то мамки коллекционируют фотки голых детей или отрезанные члены любовников, так что у моей старухи было ещё безобидное увлечение. К тому же иллюзия – это зачастую единственное, что мы можем себе позволить.
Я раскрыл было рот, чтобы признать талант Майи, восхититься её вниманием к деталям. Но тут взгляд мой упал на журнал комиксов, лежащий на столе.
– Терпеть не могу Капитана Америку, – усмехнулся я. – Мне всегда больше нравился Доктор Стрэндж.
– О, – не меняясь в лице, сказала она, – действительно. Прошу прощения.
Рисунок на обложке, подёрнувшись дымкой, стал едва уловимо искажаться, менять очертания. Медленно, плавно, как плывущее по небу облако. До тех пор, пока красно-белые полосы на костюме супергероя не исчезли и за спиной у него не появился плащ левитации.
– Ну так что, французик, – спросила Майя, отставив кружку, – как насчёт сотрудничества?
По тону было ясно, что отрицательного ответа она не ждала. Но вы же, ребятки, понимаете, какой я обнаглевший придурок. Любой другой человек на моём месте согласился бы не раздумывая, опасаясь за свою шкуру. А я сказал:
– Не, чё‐то неинтересно.
Она расхохоталась – так, будто услышала уморительно смешной анекдот. Видимо, моё простодушное нахальство было для неё в новинку.
– А если, допустим, – в прозрачных глазах-камерах взблеснул свет, – если я пообещаю, что выпущу тебя отсюда?
– Это переводится как «вышибу мозги»? – уточнил я, снова вспомнив несчастного бродягу.
Майя откинулась на спинку стула и развела руки в театральном жесте. Она явно наслаждалась ситуацией. Мне не нравилось, что разговор принимает такой оборот, но куда было деваться?
– А это уже зависит от тебя, – многозначительно сообщила она. И с плохо скрываемой досадой зачастила: – Слушай, я не собираюсь сидеть тут до ночи, у меня куча дел. Поэтому давай решим всё по-быстрому. Хочешь уйти из шоу – найди Брахмана.
Я бросил на неё непонимающий взгляд.
– Кого-кого?
Майя улыбнулась, не показывая зубов. На лице у неё, как маска, застыло неизменное выражение – отрешённая, чуть насмешливая снисходительность. Но по голосу слышалось: я начинал её раздражать. Казалось, ещё немного – и она пустит мне пулю в лоб.
– Моего отца. Хочу передать ему пару ласковых.
– Допустим, – скептически протянул я, – ну и где он?
– О нет, французик, – снова засмеялась Майя. – Не всё так просто. Тебе придётся искать его самому. Это главное условие сделки. – Она украдкой посмотрела на наручные часы, как бы намекая, что время не терпит. – Ты же понимаешь, зрителям должно быть интересно. У нас будет прекрасный сюжет для нового сезона. Люди обожают такие истории ещё со времён Гомера, это беспроигрышный вариант. Ты поднимешь мне рейтинги, найдёшь Брахмана, а взамен я отпущу тебя на все четыре стороны.
Я хмыкнул и скрестил руки на груди.
– Так, а в чём подвох? Меня между делом трахнут десять мужиков?
Конечно, её предложение звучало крайне заманчиво. Но даже мне, дураку, было ясно, что в подобных договорах главное условие всегда прячется где‐нибудь в середине, набранное мелким шрифтом. Глаза сломаешь, пока найдёшь.
– Я сделаю всё, чтобы убить тебя прежде, чем ты доберёшься до цели, – легко призналась Майя, не посчитав нужным напустить туману.
– Ну кто бы сомневался!
– Но я дам тебе фору, – поспешила добавить она. – Иначе будет скучно. Ты должен продержаться хотя бы пару серий.
Редкостная сука, скажите? Вы только вдумайтесь в суть этих дивных слов! Майя предлагала мне побыть не просто актёром, а зверьком, на которого открыли охоту. Беги, кабанчик, и, возможно, ты успеешь улизнуть. Добраться до норки раньше, чем мы пустим тебя на бекон.
Хотя именно в этом и заключался своеобразный азарт. Она бросала вызов. А вы же знаете, когда мне говорят «ты не сможешь», я берусь за дело – чисто из принципа. Чтобы доказать себе: нет ничего невыполнимого. А заодно утереть носы ублюдкам, которые в меня не верят.
– Ладно, – наконец сказал я. – Согласен.
– Вот и славно, – улыбнулась Майя. – Я знала, что мы договоримся.
И протянула мне контракт – к счастью, он был раз в пять меньше, чем предыдущий. Разумеется, я принялся очень внимательно, дотошно его читать. Главным образом для того, чтобы позлить эту тварь.
Пункт первый гласил: ты соглашаешься на участие в реалити-шоу.
Пункт тринадцатый гласил: ты ищешь Брахмана где хочешь, как хочешь и с кем хочешь, организаторам вообще до пизды.
Пункт сороковой гласил: сумеешь продержаться до конца сезона – добро пожаловать отсюда. Кстати, денег мы тебе не дадим, слишком жирно будет.
Не условия, а мечта, правда? Я даже начал подумывать, что идея поджечь себе жопу не самая плохая. Во всяком случае, это была бы прекрасная семейная традиция. Такая, знаете, с огоньком. Но, с другой стороны, у меня появился реальный шанс выбраться из этого цирка. Так что договор я, конечно, подписал. А вы надеялись больше не увидеть мою рожу? Увы, ребята, я тут с вами надолго застрял.
Выпуск четвёртый
Принцесса
После ухода Майи я первым делом залез в душ. Это было очень странно: вода не чувствовалась вовсе. Даже не знаю, как описать, чтобы вы поняли. Короче, представьте, что вместо воды у вас из душевой лейки струится воздух. Или, точнее, его призрак. Звучит дико – призрак воздуха, но более подходящего словосочетания я подобрать не могу. Мы ведь ощущаем ветер, понимаем, тёплый он или холодный, правда? Ну а здесь не было ничего. Я выкручивал то один смеситель, то другой, усиливал напор, потом ослаблял, но всё без толку. Вода стекала по лицу, по рукам, по животу, а я её не чувствовал. Впрочем, со своей задачей она справлялась неплохо: смывала кровь и пот, совсем как настоящая. А большего мне было и не нужно.
Разумеется, я с самого начала знал, что всё здесь фальшивое. Мой маленький домик сгорел, его было не вернуть. Я блуждал по безупречно сделанной иллюзорной копии. Мог поправить криво висящую картину, провести пальцами по стене, передвинуть стол и включить телевизор. Но сама фактура предметов не ощущалась. Было в них что‐то зыбкое, неуловимое. Казалось, будто дом ускользал. Смазывался, таял, терялся.
Я понял, что всё вот-вот исчезнет, и испугался. Включил свет и стал воскрешать в памяти всякие мелочи вроде плакатов в комнате или вещей в шкафу, чтобы продлить существование миража. Пока мы помним место, в котором выросли, оно продолжает жить. Даже если в реальности его больше нет.
Одно хорошо: Майя не стала радовать меня встречей с мамашей. Представьте, заходите вы домой, а на диване сидит труп, весь обгоревший, как забытый в тостере кусок хлеба. И говорит:
– Что‐то жарковато сегодня, да? Когда уже похолодает?
Не знаю, как вы, а я бы обосрался, честное слово.
Картинка была настолько яркой, что на мгновение мне показалось: ещё немного – и она оживёт. Сомнительное удовольствие, решил я, ну его на хер. И в надежде отвлечься опустился на край ванны, глядя, как в стиральной машинке бултыхаются кеды. Я насыпал так много порошка, что пена едва не лезла наружу. Она пузырилась, бурлила и плескалась, сползая по стеклу люка. Очень красивое зрелище, между прочим. Медитативное. В голове не возникало никаких мыслей, и это было замечательное состояние забытой, чистой, почти первозданной пустоты. Хотелось просто сидеть вот так и ни о чём не думать – целую вечность.
Тогда я вдруг осознал, для чего вы вообще смотрите этот спектакль. Раньше мне казалось, что это дикая скука: следить за похождениями незнакомого чувака, за тем, как он принимает душ, чистит зубы, протирает запотевшее зеркало. Я думал: на кой хер нужны реалити-шоу? В них ведь нет ни сюжета, ни каких‐либо увлекательных сценарных ходов. А тут мне стало всё ясно.
Вас это успокаивает. Вы отключаете голову и отдаётесь моменту. Растворяетесь в нём, сливаетесь с ним в одно целое и перестаёте быть. Люди редко могут позволить себе расслабиться. Обычно им приходится тратить уйму сил, чтобы снять напряжение. И вот что забавно: чем упорнее они пытаются успокоиться, тем хуже у них это получается.
Знаете почему? Они ни на секунду не могут забыть о себе. Умение останавливать поток мыслей – это искусство для избранных. А здесь оно оказывается доступным каждому. Достаточно лишь пялиться на экран.
Смотрите, как я вытираю волосы полотенцем.
Смотрите, как я сушу кеды мамашиным феном.
Смотрите, как я роюсь в шкафу, вытаскивая красную клетчатую рубашку.
Бах! – и вас уже нет. Магия, не правда ли?
Я распахнул входную дверь, вышел на крыльцо. Небо было таким же чёрным, как тогда, в ночь пожара, и мне стало не по себе. Понятное дело, я не горел желанием идти в неизвестность, не зная маршрута. Не представлял, откуда следует начинать поиски Брахмана. Но торчать в доме и дальше было нельзя: до утра он всё равно не дожил бы. Рассеялся бы, как сон.
Я понятия не имел, сколько времени оставалось до начала нового сезона. В контракте об этом не говорилось ни слова. Может, мне предстояло умереть с первыми лучами рассветного солнца – что ж, прекрасная перспектива. Судьба, мать её.
Васиштха сказала:
– В этом мире достичь чего‐либо можно только собственным усердием, и когда что‐то не удаётся, искать причины надо в недостаточных усилиях. Это очевидно. И то, что называется судьбой, – выдумка.
– Да? – хмыкнул я. – Ну тогда просвети идиота. Что такое судьба?
– Мне кажется, это результаты собственных действий, хорошие или плохие, – отозвалась Васиштха. Голос её, ровный и безэмоциональный, окутывал меня спокойствием. Я хотел, чтобы она говорила вечно и не умолкала. – Но некоторые люди называют судьбой мировой порядок. Он гарантирует, что любое усилие приводит к соответствующим итогам, и основывается на некоем всемогущем всеведении.
Пораздумав, я вернулся в дом. Порылся в ящике стола и вытащил складной нож. Он был довольно крепким, острым и выглядел угрожающе. Хотя и не настолько красиво, как те, чёрные, из рекламы. Я повертел его в руке, провёл пальцем по лезвию и сказал вслух:
– Ну что ж. Значит, каковы усилия, таковы и результаты.
Вряд ли нож мог бы защитить меня от пули. Но с ним я чувствовал себя гораздо спокойнее. Куда проще остаться в живых, когда у тебя есть какое-никакое оружие. Я решил, что сделаю всё возможное, чтобы выбраться из шоу. Даже если для этого придётся всадить лезвие кому‐нибудь в брюхо.
И с этими мыслями захлопнул входную дверь, вышел на остывший ночной воздух. Прощай, старый милый дом. Привет, тёмная неизвестность.
Я огляделся и в недоумении почесал затылок. Ну и в какую сторону двигаться? Пойдёшь направо – получишь пизды. Пойдёшь налево – получишь пизды. Столько вариантов, закачаешься!
Но делать было нечего. Я решил попытать счастья в злачных местах – во всяких барах, клубах, там, где постоянно толкался народ. Может, получится узнать, кто такой Брахман и в какой стороне его искать, так я рассудил.
И пошёл по узким улочкам – в самую гущу темноты. Поначалу, правда, пришлось пробираться через баррикады из мусорных баков, бутылок и старых матрасов. Где‐то невдалеке раздавались пьяные крики и звон стекла, грохотала музыка и слышался вой автомобильной сигнализации. То ещё местечко, я вам скажу. Без трёх дробовиков сюда лучше не соваться. Но раз уж я выбрал эту дорогу, надо было держаться до конца.
В проулке меня перехватила какая‐то девица на каблуках. И, прежде чем я успел раскрыть рот, сунула яркий глянцевый флаер.
Не помню, что именно она говорила, поэтому за точность цитаты не поручусь. Но суть была примерно такова:
– Только сегодня! Фантастический рейв где‐то в ебенях! Распиздатый ди-джей Хер Знает Кто Вообще Такой! Элитное бухло, от которого тебе захочется блевать самой сущностью своего «я»! Лучшие спидозные тёлки, одна страшнее другой! Оторвись по полной!
Я оглядел её с головы до ног и скептически хмыкнул:
– Детка, боюсь, ты не по адресу. У меня нет денег на такие развлечения.
– А деньги и не нужны, – сказала она. – Вход свободный.
Это решительно меняло дело, правда? Ну и что бы вы думали? Конечно, я пошёл. Кто в здравом уме может отказаться от халявы, скажите на милость?
Нет, не поймите меня неправильно, я не любитель всяких там тусовок. Как по мне – скука смертная. Я никогда не понимал, в чём прикол напиваться и плясать до упаду, пока ноги не отвалятся и мозги не закипят. Какой‐то изощрённый способ бегства от себя. Но сейчас мне нужно было разузнать что‐нибудь о Брахмане. А откуда ещё начинать поиски – я не представлял.
Так что выбора не оставалось. Пришлось рискнуть и, стиснув зубы, отправиться на вечеринку года. Она, кстати, проводилась не в клубе, а на какой‐то вилле, которую реклама на флаере скромно представляла дворцом. Но место и вправду было шикарное, я вам скажу. Вообразите: три этажа, бассейн на крыше, мраморные колонны, обвитые гирляндами, как плющом, всё сверкает, переливается в свете прожекторов, утопает в живых цветах. Что ещё нужно человеку для счастья?
Бухло, понятное дело. И дизайнерские наркотики.
Но я заранее дал себе слово, что не буду ничего пить или принимать. Трезвая голова – вот главное оружие человека, настроенного на победу. Поэтому к делу я подошёл с большой ответственностью. Не стал задерживаться около столиков на террасе, ломившихся от бутылок с разноцветным пойлом, и распахнул дверь.
Но, едва переступив порог, понял, что дал маху. Спокойно смотреть на весь этот désordre total[15], предварительно не ужравшись в сракотень, мог только просветлённый или мёртвый.
Во вспышках софитов мелькали тела. Голые, разумеется. В яростном пульсирующем ритме музыки они двигались неровно и хаотично, будто сломанные механизмы. Слышались взрывы хохота, всхлипывания и влажные похотливые шлепки. Народ трахался так откровенно бесстыдно, что это казалось диким. При взгляде на бешено скачущих на красных диванах голых девиц мне сделалось дурно. По большей части из-за того, что они напоминали разукрашенных кукол, а не людей. Лица их были почти безжизненны и не выражали ничего: ни радости, ни страсти, ни скуки, и это создавало странный эффект нереальности происходящего, как в очень плохом кино.
Короче говоря, я тут же пожалел о том, что вообще сюда пришёл. Даже на сиськи смотреть не хотелось – только представьте, до какой степени надо обалдеть, чтобы вдруг потерять интерес к голым бабам! Но делать было нечего: приходилось пробираться сквозь трясину из человеческих тел. Идти мимо опрокинутых столиков, стараясь не наступать на осколки стекла и раскиданные по полу вещи, прикрывая нос рукой, чтобы искусственный сладкий дым не раздражал лёгкие.
У окна, к счастью, задышалось легче. Неподалёку, на придвинутом к стене кресле, сидели две девчонки и, о чём‐то переговариваясь, тянули один косяк на двоих.
– Мне нужен Брахман, – без лишних предисловий начал я. Пришлось повысить голос, чтобы перекричать музыку, бьющую по ушам. – Знаете такого, нет?
В мутных осоловелых глазах девиц не отразилось ничего похожего на удивление. Вероятно, они поняли, о чём шла речь, потому что одна из них сказала:
– Мы знаем только Майю. – И, обернувшись, заорала: – Принцесса! Принеси нам пива!
– Да, – промурлыкала вторая. Забросив ногу на ногу, она сложила ярко накрашенные губы в трубочку и выпустила полупрозрачное кольцо дыма. – Майя даёт всё, что мы захотим. Зачем нам какой‐то Брахман? – После чего широким гостеприимным жестом предложила мне косяк.
Я тут же поспешил отказаться от этой безусловной щедрости:
– Не-не, детка. Мне б что‐нибудь обычное, ну, простую сижку, знаешь? Сто лет уже не курил, страшно хочется.
Она кивком указала на раскрытую пачку, лежащую на столике, с ужасающей картинкой и надписью типа: «Ты умрёшь от рака, инсульта, инфаркта, у тебя выпадут все зубы, волосы и не будет стоять хуй». Я опустился на диван, подтянул упаковку к себе. Вытащил сигарету и чиркнул зажигалкой, с наслаждением затягиваясь дымом.
Мучительная смерть? О да, я скучал, дайте две.
Тут к нам подошла девчонка, совсем маленькая, худенькая, в безразмерной мужской футболке, доходящей едва не до колен, скрывающей дырки на джинсах. С короткими вьющимися волосами, в которых блестели заколочки, с тряпичными браслетами на обеих руках. Такой, знаете, божий одуванчик. Я ещё удивился, какого хрена здесь делает это прелестное невинное дитя, среди оргий, кучи бухла и наркоты, но спросить не успел. Девчонка опустила на столик две банки пива и, исподлобья глянув на сигарету, зажатую в моих пальцах, между делом заметила:
– На твоём месте я бы не курила. – Голос у неё был тоненький и писклявый, как у мышки, очень милый. – У них там то ли ЛСД, то ли ещё какая‐то херня, – с детской бесхитростной простотой добавила она. – Я пару раз затянулась, так вставило, думала, сдохну.
Я аж поперхнулся дымом. И снова оглядел её с головы до ног, зайдясь справедливым морализаторским возмущением:
– Тебе, блядь, сколько лет‐то вообще?! Десять? – Но сигарету на всякий случай потушил.
Судя по всему, я попал в больное место. Потому что девчонка обиженно поджала тонкие губы и с плохо скрываемой досадой бросила:
– Четырнадцать, придурок. Но спасибо за комплимент, – пораздумав, добавила она, опустившись рядом. – Значит, до самой старости буду молодой и красивой. Как Моника Беллуччи, только без ботокса.
Девчонка говорила с какой‐то странной недетской саркастичностью, которая ей совсем не шла. А ещё смотрела на меня пристально, не отрываясь, сверля взглядом немигающих тёмных глаз. Так, будто хотела понять, что я за человек, стоит ли мне доверять.
– У тебя красивые волосы, – вдруг сказала она. – Можно потрогать?
Я, удивившись этому контрасту, рассмеялся. Она отчаянно пыталась казаться старше своих лет, но по-прежнему оставалась восторженным ребёнком. Милая забавная малышка. Думаю, вы решили то же самое, когда увидели её в первый раз.
– У меня никогда таких не будет, – с грустью вздохнула она, несмело запуская пальцы в мои волосы. И добавила: – Хуёвая из меня всё‐таки Принцесса, да?
– Не ругайся.
Ума не приложу, зачем я это сказал. Как‐то машинально вырвалось. А вы же знаете, я‐то базар вообще не фильтрую, не обращаю внимания ни на свою, ни на чужую речь. Это всё херня, важны не сами слова, а их суть, вот что мне кажется. То есть я всегда думал, что буду последним человеком на земле, который полезет к кому‐нибудь с нравоучениями. Но мне физически было больно слышать, как матерится девчонка с милой кличкой Принцесса, понимаете? Хотя я её не знал, понятия не имел, что она за человек, и всё такое.
– Почему? – Принцесса насмешливо изогнула бровь. – Тебе можно, а мне нет? Это, между прочим, эйджизм. Ты думаешь, что право на использование ругательств выдаётся при достижении определённого возраста, а до этого момента человек живёт в блаженном незнании, в первозданной божественной чистоте?
Вот так она и сказала, клянусь. Именно эту фразу выпалила, на одном дыхании, не задумываясь над подбором слов. И у меня слегка вытянулось лицо.
– Тот, кто связан чувством собственной важности и ограничениями своего разума, может быть играючи побеждён даже ребёнком, – заметила Васиштха.
– Сдаюсь, – сказал я, подняв руки. – Ты выиграла.
– Тогда на правах победителя я заплету тебе косички, – Принцесса снова потянулась к моим волосам. – Хочу, чтобы ты был похож на эльфа.
Я чувствовал себя очень странно. На меня опустилась неясная безмятежность. Казалось, будто в волосах появились нервные окончания, и ощущалось каждое прикосновение пальцев Принцессы – тёплых, чуть влажных от пота. Она с ногами забралась на диван и с выражением глубокой сосредоточенности принялась перебирать мои пряди, как парикмахер-стилист.
– Так что ты тут делаешь? – наконец задал я давно терзавший меня вопрос. – Где твои родители?
– Об этом можешь не волноваться, – флегматично отозвалась Принцесса. – Они даже не заметят, что я ушла. Лет через двадцать, может, вспомнят, когда мой труп покажут по телику. А сюда, – и разделила прядь на несколько частей, – пускают всех подряд. Очень удобно.
Она на мгновение замолчала и, склонив голову набок, неожиданно спросила:
– А что означает твоя татуировка?
Я не сразу понял, о какой именно идёт речь. Закатал рукава рубашки, продемонстрировав забитые предплечья.
– На шее, – пояснила Принцесса. – Но про эти тоже расскажи.
В глазах её блестело такое искреннее любопытство исследователя, что мне стало неловко говорить правду. Но врать я всё‐таки не любил, поэтому признался начистоту:
– А… да ничего они не означают. Просто красивые картинки.
Хотя насчёт «красивых» я, конечно, погорячился. Татухи были дурацкими и кривыми, с рваными контурами, выцветшими на солнце. Но всё‐таки, несмотря ни на что, играли очень важную роль в моей жизни: напоминали о том, что в семнадцать лет я был малолетним долбоёбом.
– Мой отчим, – сказала Принцесса, переплетая пряди, – говорит, что татуировки делают только пидоры.
Я задохнулся от возмущения. А она искривила губы в ехидной усмешке:
– Кому, как не ему, знать. У него у самого три партака. – И снова посерьёзнела: – Это либо очень тонкая самоирония, либо двойные стандарты. Почему люди такие странные? – вздохнула Принцесса, обращаясь не ко мне, а к какому‐то невидимому собеседнику, от которого не ожидала ответа.
Но я сказал:
– Люди не странные. Просто иногда очень глупые.
– Именно это и кажется мне странным.
А я слушал её, позволяя возиться с моими волосами, и думал, что удивительно совсем другое. В иных обстоятельствах мы никогда не начали бы разговор, но сейчас сидели и болтали как ни в чём не бывало. Где‐то позади бесновалась пьяная толпа, ревела музыка, а мы – четырнадцатилетняя девчонка и бродяга – вели глупые разговоры, не имевшие никакого отношения к происходящему, и были отстранены от всего мира. Эта мысль выносила мне мозг.
– Кстати, а почему тебя называют Принцессой? – спросил я. – Что‐то не вижу твоей короны.
Она даже не улыбнулась. Лицо её по-прежнему было задумчивым и по-взрослому серьёзным.
– Всех девочек в детстве зовут Принцессами. Банальный социальный императив, – добавила она очередную заумную фразу, – никакой оригинальности. Но так меня называл брат, поэтому я, в общем‐то, не против.
Ещё она сказала:
– Я по нему скучаю. Шука был хорошим человеком.
Странно, да? Принцесса не сказала что‐то вроде: «Я его любила». Или: «Он меня любил». Она говорила о брате как о далёком знакомом, к которому не испытывала чувств. Но вместе с тем в её голосе слышалось столько печали, что я сразу понял: именно эта сухая фраза лучше всего передавала горечь потери.
И сказал:
– У меня умерла мать. Знаешь, она была той ещё сукой, но мне её не хватает.
Принцесса переплела между собой две косички, которые до этого держала в руках. И с задумчивостью протянула:
– Наверно, он ещё жив. Иначе по телику показали бы его тело. Когда человек умирает, они всегда завершают его сюжетную ветку. А Шука просто исчез, и всё. Как будто его никогда не было.
Я совсем не удивился тому, что Принцесса знала о существовании шоу. В конце концов, она казалась очень рассудительной для своих лет и понимала слишком многое. Но не выражала ни удивления, ни злобы – словно принимала эту фальшивую реальность как единственно существующую.
Детская психика всё‐таки потрясающе гибкая, да?
– То есть как исчез? – спросил я.
– А вот так. Он просто пропал с экранов. И самого его канала больше не было. Я сначала подумала, что они куда‐то его передвинули. Щёлкала пультом, даже оператору звонила. Но никто ничего не сказал.
– И что потом?
– Потом к нам приехала Майя, – ответила Принцесса. – Сказала, он больше не участвует. По всем законам капитализма дала кучу денег, чтобы мы не занимались дестабилизацией системы.
Речь у неё была странная, местами нарочито сложная, как в учебнике. Девчуле будто хотелось произвести на меня впечатление, показаться очень взрослой и мудрой. А может, она привыкла быть занудой-отличницей, не знаю. В любом случае я заслушался. Но не разобрал дальнейших слов, они потонули в грохоте музыки и диком вопле, раздавшемся откуда‐то сзади:
– Пацаны! Это самый крутой подгон, отвечаю! Свежак! Ща все улетим в стратосферу, нах!
Видимо, чуваки готовились к новому сражению с космическими викингами. Человечеству грозила опасность, нужно было срочно бросаться на его защиту. Вот они – бравые герои, самоотверженно рискующие жизнями ради спасения наших задниц! А вы, ребята, даже не знаете их имён.
В общем, я отвлёкся на торчков и не заметил, как Принцесса замолчала. Она больше ничего не говорила, лишь продолжала со скрупулёзной сосредоточенностью играть роль стилиста, обвивая сплетённые косички вокруг моей головы. Наверное, решила, что мне неинтересно слушать, и обиделась.
Чтобы возобновить диалог, я спросил:
– Может, твой брат заключил сделку с Майей? Знаешь, она сказала, что, если найти Брахмана, можно свалить из шоу. Там какой‐то особый контракт, и я его тоже подписал.
– Не знаю, – без тени удивления отозвалась Принцесса. – Контракт у него был обычный. Толще «Науки логики» и «Критики чистого разума», а то и обеих вместе. Если бы был другой, я бы запомнила. И я не слышала ни о каком Брахмане.
Тут на меня снизошло озарение. Я подался ближе к ней и заговорщически понизил голос:
– Зайка, ты бы не болтала так открыто. Это ж вроде как коммерческая тайна. А тут наверняка всё кишит прослушками.
Очень вовремя вспомнил, правда? Нет, ну я просто гений, блядь!
– Ну ладно, – пожала плечами она. – Значит, теперь убьют нас обоих. Я буду последним человеком, которого ты увидишь перед смертью. Вариант не очень, я понимаю, но другого нет, так что извини. Можем потрахаться, если это тебя хоть немного утешит.
Я не удержался и захохотал:
– Тебе четырнадцать, дура!
– И что? – невозмутимо отозвалась Принцесса. – Живи я где‐нибудь в Саудовской Аравии, у меня было бы уже двое детей. Ранние браки одобряются законами шариата и считаются нормой во многих ближневосточных культурах, – голосом лектора отчеканила она.
– Но мы не в Саудовской Аравии.
– Какая досада, правда?
У неё была очень интересная мимика: она то и дело насмешливо вскидывала брови, но в целом лицо оставалось почти безэмоциональным. Даже когда Принцесса улыбалась, глаза её выражали безразличие. Или, скорее, глубокую задумчивость.
– В любом случае, – помолчав, сказала она, – теперь мы не умрём в одиночестве. Может, даже успеем найти Брахмана или Шуку, или их обоих.
– Мы? – непонимающе уточнил я. И тут же, осознав смысл её слов, замахал руками: – Не-не-не! Даже не думай! Я не буду брать тебя с собой!
– Почему? – спросила она, хлопая ресницами. В её тоненьком писклявом голосе не было ни нотки возмущения, только неподдельное удивление. – Если ты говоришь, что Шука мог пойти искать Брахмана, значит, нам примерно в одну сторону. К тому же вдвоём веселее. Ты наверняка знаешь кучу смешных анекдотов.
– Я шучу только про смерть, насилие, секс и говно!
– Какое совпадение! А я обожаю шутки про смерть, насилие, секс и говно.
– Ты будешь капать мне на мозги! – не унимался я. – Девчонки только и делают, что ноют!
Принцесса поглядела на меня с нескрываемой язвительной насмешкой.
– Да? А мне кажется, ныть будешь именно ты.
Она отстранилась и, вытащив из кармана джинсов маленькое зеркальце, протянула его мне, но не дала в руки.
– Ну, в общем, всё. Смотри, какой ты милый.
На голове у меня красовался венок из косичек, усеянный блестящими детскими заколками в виде цветов. Без ложной скромности скажу, что я был чертовски хорош. Неотразимо обаятелен, как сказочный эльф.
Выпуск пятый
Нигилистический гуманизм
В общем, поколебавшись, я всё‐таки разрешил Принцессе отправиться со мной. А как иначе? Кто из вас в здравом уме сказал бы что‐то вроде: «Слушай, детка, давай-ка ты посидишь с обдолбанными торчками, посмотришь хоум-порно в 3D, а я пойду, prends soin de toi[16], кстати, спасибо за причесон»? Знаете, меня можно называть кем угодно: импульсивным придурком, распиздяем, психом. Но только не мудаком. Вот уж чего-чего, а ублюдочности во мне нет ни на грамм. Не подумайте, что это напыщенное бахвальство, отнюдь. Я искренне считаю: гордиться тут нечем. Это как ходить и хвастаться тем, что дышишь. Или тем, что у тебя две руки. Порядочность – абсолютно естественная, нормальная вещь, не заслуживающая удивления. Наоборот, я поражаюсь, когда люди ведут себя как конченые твари, вот что кажется мне диким.
Короче, вы поняли. Мыслей о том, чтобы бросить Принцессу и уйти в закат в гордом одиночестве, у меня не возникало. Хотя я по-прежнему думал, что это плохая идея даже в теории – повесить девчонку себе на шею. Ну, давайте называть вещи своими именами, раз уж мы адепты честности и прямолинейности: говно, а не идея.
Сами посудите. Во-первых, меня могли грохнуть в любой момент. Это означало, что Принцесса тоже становилась мишенью. Не очень оптимистичная мысль, правда? Во-вторых, чтобы заботиться о человеке, который меньше и слабее тебя, надо иметь кучу сил и ресурсов. А я понимал, что не потяну ответственность, особенно в нынешнем положении. Меня‐то сложно было напугать всякого рода лишениями: когда по несколько дней подряд обходишься без еды, шляешься по городу и ночуешь под открытым небом, учишься довольствоваться малым. Но что я мог предложить Принцессе? Увлекательное путешествие по недрам мусорных баков и уютные мягкие сны на скамейках в парках? А если она заболеет? Сломает ногу, например? Что тогда?
Когда мы вышли на улицу, я сказал:
– Детка, боюсь, ты не вывезешь.
Состояние было омерзительное. Казалось, будто меня трахнули в мозг, а потом высосали кровь. Голова кружилась, и в ушах до сих пор звенела музыка. Я жадно втягивал свежий ночной воздух, держал его во рту, но не мог избавиться от приторной вонючей сладости дыма, тяжестью осевшего на языке.
Давайте договоримся, ребята. Если когда‐нибудь я снова захочу пойти на ещё одно такое весёленькое мероприятие – втащите мне, ладно? Скажите: «Придурок, ты там сдохнешь». И дайте по морде, чтобы я одумался. Спасибо за понимание, вот теперь можем продолжать.
Короче, я прямо объявил Принцессе, что у меня нет ни плана, ни мозгов, ни денег. Жрать будет нечего, спать негде, и, вероятно, мы не продержимся даже неделю, потому что бегаю я плохо, ориентируюсь на местности ещё хуже, а из оружия у меня с собой только складной нож.
Она задержалась перед выставочным окном какого‐то обувного магазинчика. Склонила голову набок, пристально вглядевшись в своё полупрозрачное отражение в стекле, и протянула:
– Значит, у тебя, нищеброда, даже машины нет?
Я, хмыкнув, указал на блестящий чёрный кадиллак, припаркованный у тротуара, – такой, знаете, как из старых шпионских триллеров:
– Если хочешь, можешь думать, что этот – мой.
Не грех было и помечтать, правда?
Принцесса окинула кадиллак взглядом придирчивой покупательницы, забредшей на автовыставку. Как будто раздумывала, достоин ли он её необычайного доверия и кровно заработанных денежек.
– Каждый нищий в душе эпикуреец. Пафосно, конечно, но сойдёт, – вынесла вердикт она. – Забирай, и поехали уже из этой дыры, – добавила так, словно и вправду решила, что я сейчас выбью стекло, поколдую с проводами, как опытный угонщик, заведу тачку, и мы гордо укатим в ночь навстречу приключениям.
Нормальный расклад, да? Хорошо устроилась, девчуля, ничего не скажешь!
– Зайка, – сквозь смех признался я, – у меня даже прав нет!
– Ерунда, – флегматично отозвалась Принцесса. – Мой отчим их так и не получил. Но ездит же как‐то.
– Да я понятия не имею, где там газ, а где тормоз!
Она поморщилась. В её чуть сощуренных глазах мелькнуло разочарование.
– То есть ты предлагаешь идти пешком?
– Не предлагаю, – веско заметил я, – а ставлю в известность. Это ты напросилась ко мне на шею. Значит, будешь принимать мои условия. Уж извиняй, я тебе не нянька. Если что‐то не устраивает, иди домой к мамочке, мне лишние проблемы на хер не нужны.
Грубовато получилось, согласен. Но вообще‐то я не собирался её обижать. Лишь хотел, чтобы она поняла: путь предстоит тяжёлый, долгий, полный опасностей и страдать придётся всем. Хотя, наверное, я слишком многого требовал от мелкой неопытной девчонки, которая не знала жизни.
Я уже говорил, что идея взять её с собой была откровенно дерьмовая? На всякий случай повторю ещё раз.
– Ну ладно, – пожала плечами Принцесса. В голосе её не звучало ни намёка на обиду, он оставался прежним, таким же ровным и монотонным. – Пешком – значит пешком, я не против.
Она помолчала и сказала:
– Только сразу предупреждаю: у меня есть некоторые особенности, с которыми тебе придётся смириться. Думаю, стоит обговорить это заранее, чтобы потом не ссориться в самый неподходящий момент.
Сухо так сказала, спокойно, будто протокол зачитала. А я чертыхнулся, пнув попавшийся на дороге камешек, и закатил глаза.
– Просто замечательно!
Не, я, конечно, знал, что с ней будут проблемы. Только не думал, что они начнутся через полчаса после знакомства. Хотя, собственно, чего ещё можно было ожидать?
Принцесса сняла один из браслетов и принялась вертеть его в руках, растягивая эластичную ткань. Жест был настолько знакомым, что я аж передёрнулся. Вот эта нервозная привычка моей maman, помните её, да?
Мы всегда замечаем в других то, что видим в себе или в близких. Так уж устроен человек. То есть, понятное дело, многие люди крутят что‐то в пальцах, когда испытывают неловкость или беспокойство, у моей мамаши не было исключительного права на эту херню. Но от неожиданного чувства узнавания мне стало не по себе.
– Ну, говори уже, – рявкнул я, когда напряжённое молчание стало невыносимым.
– У меня апейрофобия.
– Апе… чё?
Слово было незнакомое. Ну, то есть я понял, что Принцесса чего‐то боится, только вот не врубился, чего именно. Насекомых? Дырок в пончиках? Открытых пространств? Всяких фобий – их же миллион, и названия ещё такие мудрёные, зубодробительные, охуеешь запоминать.
– Меня пугает бесконечность, – пояснила она. – Когда я думаю, насколько огромна вселенная, мне становится плохо. – Натянув браслет обратно на запястье, Принцесса подняла взгляд, посмотрела куда‐то вверх. Её карие глаза в темноте казались почти чёрными, как беззвёздное небо. – Поэтому не говори, что мы будем идти вечно. Или что шоу никогда не закончится. И надеюсь, ты не веришь в жизнь после смерти.
Необычный страх, не находите? Признаюсь, я слегка опешил. Чего обычно боятся дети? Темноты, собак? Привидений каких‐нибудь? Меня, например, всегда пугала тишина. Лет до шестнадцати я засыпал только под бормотание телика. Помню, однажды там крутили передачу, в которой рассказывали про специально созданные комнаты, вроде вакуумных, куда не проникает ни звука. Где настолько тихо, что человек слышит шум собственной крови. Вот честно скажу: в таком замечательном месте я рехнулся бы первым.
То есть я веду к тому, что тишина – это конкретная, определённая, физически ощутимая вещь. А бесконечность? Её нельзя почувствовать, увидеть, вообразить, в конце концов. Слишком размытая, абстрактная категория, которую невозможно понять ограниченным человеческим разумом. Это как пытаться представить смерть – само явление, имею в виду. Вот откуда она берётся, где заканчивается, а?
И тут меня осенило:
– Значит, ты боишься умереть?
– Нет, не совсем, – ответила Принцесса. – Сама идея смерти меня не пугает. Наоборот, при мысли о ней мне становится очень легко и спокойно. Когда человек умирает, он заканчивается. Это как раз нормально. Всё рано или поздно должно прекратиться. Я больше боюсь вечной жизни.
Милая такая беседа для первого дня знакомства, правда? Заметьте, мы не обсуждали маршрут, план действий, не пытались придумать, как сберечь наши задницы. Я не спрашивал Принцессу о брате, а она не интересовалась, почему я хочу уйти из шоу, зачем влез в эту дерьмовую авантюру.
Мы шли куда‐то вперёд, в темноту, не разбирая дороги, и небо над нами было кромешно чёрным. Казалось, будто там, наверху, разом выбило все пробки и свет погас. Город выглядел спящим, но я знал, что это не так: он кишел бдительными камерами, наблюдающими за каждым нашим шагом. И, помня о них, я то и дело нервно оглядывался. Всматривался в тени, прислушивался к редким шорохам и скрипам.
– Но это всё‐таки страх смерти, – сказал я, чтобы избавиться от назойливых мыслей. – Если подумать, несуществование – самая постоянная на свете вещь.
И тут же прикусил язык. Потому что всегда невозмутимое лицо Принцессы вдруг сделалось по-настоящему испуганным. Она остановилась и широко распахнула глаза.
– Тебе никогда не говорили, что ты гондон?
– Вообще‐то, нет, – нервно хохотнул я. – Обычно меня называли долбоёбом. Но гондоном – ни разу. Чувствуешь разницу?
Принцесса на мгновение озадачилась этой лингвистической проблемой. Что‐то прикинула в уме и кивнула:
– Приятно быть первой. Ты гондон, – не скрывая удовольствия, объявила она. Маленькая тварь, знала, куда бить.
– Да с хера ли?! – возмутился я. – Сама ж начала! – И, приосанившись, со значением поднял палец: – Я, между прочим, докопался до сути. Мозгоправы за такое кучу бабок берут. А тут всё бесплатно! Где твоя сраная благодарность, детка?
Принцесса вдруг сжала кулаки и подалась вперёд, намереваясь меня поколотить. Она едва доставала мне до груди, так что этот яростный порыв выглядел не угрожающе, а забавно. Я выразительно посмотрел на неё сверху вниз, не удержался и загоготал.
– Что ты ржёшь, придурок? – буркнула Принцесса, оскорбившись.
О да, я, сам того не подозревая, нанёс ответный удар – в самое уязвимое место. Больше всего она не любила, когда её считали беспомощным ребёнком. Четырнадцать лет – это, знаете ли, очень серьёзный возраст. Человек становится по-настоящему мудрым и зрелым, и никто не имеет права относиться к нему как к тринадцатилетнему сопляку.
– Давай-давай! – не унимался я, сгибаясь пополам от хохота. – Врежь мне как следует! Хочу на это посмотреть!
Подумав, Принцесса разжала пальцы и сделала шаг назад. Некоторое время она с плохо скрываемой злостью смотрела на меня, а затем выражение её лица изменилось. Оно снова стало флегматичным и отстранённым, как у просветлённого монаха. Но я сразу почувствовал, что Принцесса не собирается прощать мне этой короткой вспышки веселья и намерена отыграться – используя всю мощь интеллекта.
– Твоя очередь, – едва заметно ухмыльнулась она. – Говори.
Вероятно, в приступе смеха я растерял последние остатки мозгов. Потому что не понял, чего ей вообще надо. И тупо переспросил:
– А?
– Давай, расчехляйся, – потребовала Принцесса, не ожидая отказа. – Какие у тебя особенности? Может, ты любишь вынимать член и трясти им где попало, откуда я знаю. Хочу понимать, к чему готовиться.
Я снова расхохотался:
– Покажи мне мужика, который так не делает! – Но тут же взял себя в руки, чтобы не выглядеть совсем уж конченым дегенератом. И серьёзным тоном сказал: – Ну… если честно, странностей у меня мало.
Не подумайте, что я кокетничал, как сорокалетняя девственница. Просто мне и вправду было тяжело судить о себе со стороны, оценивать, какой из моих заёбов нормальный, а какой не очень. Все наши привычки, даже самые дикие, изнутри кажутся естественными. Думаю, если чуваку, расчленяющему трупы в ванной, сказать, что у него слегка странноватое хобби, он удивится и спросит: «А разве не все так делают?»
И всё же, положа руку на сердце, я признался в самом тяжком из своих многочисленных грехов:
– Иногда могу болтать по-французски. Это не специально, просто само как‐то получается. Особенно когда злюсь или нервничаю. – И, подумав, между делом сообщил: – А, ну ещё я слышу голоса. Но это так, фигня.
Принцесса посмотрела на меня со странной смесью удивления и брезгливости и подалась назад. Неудивительно. Человек, знающий французский, не может считаться адекватным.
Но её, судя по всему, поразили не мои языковые способности, а кое-что другое.
– Голоса? – с недоверием уточнила она. – Серьёзно, что ли?
– Да не, – поспешил отмахнуться я, поняв, что ляпнул лишнего, – вообще‐то он всего один. Ну, то есть она… – И зачем‐то добавил: – Её зовут Васиштха.
Принцесса крепко задумалась – так, словно принялась решать сложную математическую задачу.
– Ага. То есть ты не просто нищий, бестактный и тупой. Ты ещё и ёбнутый.
Что удивительно, она сказала это без намёка на осуждение. Как будто перечислила факты из энциклопедии. От такой изящной прямолинейности я несколько обалдел. Так‐то девчуля оказалась права, и оскорбляться повода не было. Но мне всё равно стало обидно.
– И это я‐то бестактный?!
– Мне показалось, ты относишься к себе не слишком серьёзно, – отозвалась ничуть не смущённая Принцесса. – Очень характерная черта мудрецов. И легкомысленных придурков. – Она помолчала и с неожиданным игривым любопытством спросила: – А что тебе говорит голос? Расфасовать меня по синим пакетам и закопать где‐нибудь в лесу?
Я изобразил глубокую сосредоточенность, делая вид, что к чему‐то прислушиваюсь. И с экспертным убеждением выдал:
– Не, ей больше нравятся белые. Кровь на них выглядит эффектнее.
В голове звенела тишина. Васиштха никак не отреагировала на попытку очернить её славное имя и решила не вмешиваться в диалог. Она была выше этой херни.
– Расчленять тебя будет неудобно, – тем же нарочито серьёзным тоном сказал я. – Складным ножом, знаешь ли, кости особо не попилишь.
– Надо было брать топор, – согласилась Принцесса. – Или циркулярную пилу. Каким местом ты думал, когда собирался?
– Я же легкомысленный придурок, не забыла?
Мы говорили так безмятежно, словно обсуждали ледники в мировом океане или французскую политику девятнадцатого века, которая не имела к нам никакого отношения. Самое забавное, что мы и впрямь были беззаботны, как дети. Ненадолго я забыл о слежке, о натыканных на каждом углу камерах и о Майе.
Но Принцесса со всей присущей ей нежной беспощадностью напомнила о неизбежном:
– Лучше бы ты взял пушку. От неё больше толку. Если нам придётся кого‐то убивать, надо делать это быстро и красиво. Откуда у тебя нож, да ещё и складной?
Я развёл руками и как на духу выложил ей свою историю. Рассказал о бродяге и его золоте, о мамаше, пославшей меня за элем, о сгоревшем доме, который милостиво восстановила Майя. Ночь располагала к задушевной болтовне, и я подумал, будет не лишним вылить на голову Принцессы ушат шекспировской трагедии. Исключительно в воспитательных целях, чтоб не расслаблялась.
Но её, судя по всему, не впечатлило. Она с той же скучливой миной выслушала рассказ, не удивившись ни единому слову. Лишь на мгновение в глазах у неё мелькнуло усталое разочарование.
– А ты не подумал, что нож ненастоящий? – Это была единственная деталь, за которую она зацепилась. – Нет? Слишком сложная для тебя мысль?
– Вода тоже была ненастоящей, – напомнил я, сделав вид, что не расслышал издёвки. – Но, как видишь, крови на мне больше нет.
Мы оба были по-своему правы: Принцесса считала, что ножа на самом деле нет. А я справедливо утверждал, что любой иллюзорный предмет может быть каким угодно, в том числе вполне реальным, всё зависит от точки зрения. Философский вопрос, не находите? Что, блядь, первично: материя или сознание?
Я выдвинул лезвие и провёл по нему пальцем. Но ничего не почувствовал: ни холода метала, ни его опасной остроты.
– Надави сильнее, – с невесть откуда взявшимся азартом предложила Принцесса. Она смотрела на нож как заворожённая, и мне стало не по себе. Я убрал клинок обратно в рукоять и сделал шаг назад.
Итак, ребятки, давайте подытожим. У меня, вероятнее всего, начиналась шизофрения, в руках был призрачный нож, с которого не сводила взгляда мелкая кровожадная тварь, и на нас со всех сторон смотрели камеры видеонаблюдения. Как вам расклад? Не очень, правда? C’est pas marrant[17].
На мгновение я подумал, что Принцессу прислала Майя – втереться ко мне в доверие, дождаться удобного момента и étriper une fois pour toutes[18], выпустить кишки. Не знаю, почему я так на них зациклился, в который раз уже повторяю: «кишки», «кишки», – заметили? Извиняйте, придётся принять этот странноватый фетиш как данность.
Сколькие из вас только что переключили канал? Ну и пошли на хуй. А я, пожалуй, повторю ещё разок. Итак, на счёт «три». Раз… Два…
Кишки. Les tripes, les entrailles, les boyaux – выбирайте что больше нравится, переводится плюс-минус одинаково.
Короче, вы поняли, меня начало пидорасить. Я смотрел на Принцессу в упор, но не мог пошевелиться. Не ощущал собственного тела. Всё ждал, когда она выхватит нож и погрузит лезвие мне в брюхо. Знаете, я даже почти смирился с этой пугающей параноидальной мыслью, взявшейся из ниоткуда.
И тут Принцесса сказала:
– Если он ненастоящий, мы никого не сможем им убить, – очень спокойно, без тени враждебности. Так, будто не замечала дрожи в моих пальцах и продолжала прерванный философский спор о ноже Шрёдингера.
– А меня? – упавшим голосом спросил я, не до конца веря в её дружелюбие.
– Тебя? Зачем? – удивилась она. Непонимающе сморгнула и протянула: – О господи, только не говори, что ты фанат Бессмертного Бу.
– Ну… мне как‐то никогда не нравился рэп.
Понимаете, да? Рэперы вечно дохнут как мухи, и я решил, что это подходящее погоняло для кого‐нибудь из них. Оберегающее, так сказать. Хотя, с другой стороны, очень провокационное. Уже хочется проверить бессмертие на прочность, правда?
– Это один приятель моего отчима. – Принцесса пропустила божественную шутку мимо ушей. – У вас много общего, он тоже потрясающий кретин.
Я почувствовал, как внутри разжалась невидимая пружина, и издал нервный смешок. Пиздец, ребята. Это ж надо было загнаться на ровном месте! Да с чего я вообще взял, что Принцесса – милое беззащитное дитя – хочет меня завалить?
Мы стояли посреди безлюдной улицы, глядя друг на друга, и молчали. Пауза была длинной и невыносимой. Кажется, в этот самый момент я понял, что тишина очень похожа на бесконечность. И на смерть.
– Кстати, хорошо, что ты напомнил, – Принцесса первой нарушила молчание, вернувшись к прежней теме. – Давай зайдём к Бу. Надо бы выяснить, что с твоим ножом.
Я недоверчиво оглядел её с головы до ног и с сомнением уточнил:
– Чё, серьёзно, что ли? Этот чувак – бессмертный?
– Надеюсь, нет. – Она жестом попросила у меня нож. Покрутила его в руках и, не раскрывая, убрала в карман джинсов. Я не понял зачем, но решил не спрашивать. – Просто он двадцать раз пытался покончить с собой, но ему всё время не везло.
– Во лошара!
– Да, – кивнула Принцесса. – Причём фантастический. Он говорит, что мечтает о смерти с пяти лет. И что человеческое сознание – ужасная ошибка эволюции. Думаю, асимметрия Дэвида Бенатара[19]не пошла ему на пользу.
Она снова выдержала эффектную паузу и заявила:
– В общем, предлагаю его грохнуть. Мечты должны сбываться.
От неожиданности я подавился воздухом. Офигенный план, да? Такой, знаете, совсем обычный, будничный. Каждый идиот понимает: чтобы проверить оружие на прочность, надо кого‐нибудь завалить. Например, неудачливого суицидника, которого называют Бессмертным Бу.
– Ты с ума сошла?! – обалдел я.
– А что? – пожала плечами Принцесса. – Мы в любом случае ничего не теряем. Он хочет умереть, а нам надо узнать, не бесполезный ли это кусок говна, – она похлопала по карману, где лежал нож. – Если Бу останется жив, перекантуемся у него, поужинаем. В любом случае мы будем в выигрыше.
Логическая цепочка была до того безупречна, что меня взяла оторопь.
– Ты психопатка.
– Нет, – едва заметно улыбнулась Принцесса. – Просто предпочитаю мыслить рационально. Должен же это делать хоть кто‐нибудь из нас двоих.
Очаровательное дитя, не правда ли? Очень милая малышка.
– Знаешь, – сказал я, помолчав, – я, конечно, не очень люблю людей. Думаю, без них мир был бы гораздо лучше. Но когда они убивают друг друга – это страшно, больно, грустно и всё такое. Я бы не хотел, чтобы кто‐то страдал.
– А он страдает, – напомнила Принцесса. – Ему очень плохо. В прошлом месяце Бу пытался утопиться в аквариуме с золотыми рыбками. Ты понимаешь, до какой степени отчаяния надо дойти, чтобы решиться на этот шаг?
Фраза была пафосная, почти киношная, и я снова захохотал. Поймав себя на мысли, что хочу предложить этому чуваку ещё пару идей. Записывайте, вдруг вам они тоже пригодятся. Делюсь, что называется, от души.
Можно сунуть водяной пистолет в рот и стрелять, пока не захлебнёшься.
Можно затянуть на шее поздравительную ленту с надписью «Выпускник такого‐то года».
Можно спрыгнуть с парашютом, только без парашюта.
Если честно, я подумал, что мы обмениваемся уморительными шутками. Кто вообще будет предлагать эту стреманину всерьёз? Но девчуля выглядела пугающе сосредоточенной, как снайпер перед выстрелом. И моё веселье разом улетучилось.
– Так, – протянул я, скрестив руки на груди, – а ну, колись. Чем он тебе насолил?
– Сказал, что страдания бесконечны, – не меняясь в лице, ответила Принцесса. – Но с чего ты взял, что это месть? – Она по привычке вскинула бровь. – Думаешь, я не могу действовать из чисто благородных побуждений? Недостаточно добрая?
Наклонившись к ней, я понизил голос, стараясь, чтобы он звучал ласково и томно:
– Зайка, не пизди. Я не верю, что ты захочешь убить кого‐нибудь просто так.
– Да? – Она не уставала изображать детскую наивность, хотя получалось, прямо скажем, неубедительно. – Значит, ты меня плохо знаешь.
Тут Принцесса, конечно, была права: я понятия не имел, что у неё в голове. Зато интуитивно чувствовал: если она чего‐то хочет, лучше не пытаться её остановить. У этой девчонки было безупречное тактическое мышление, она думала на несколько шагов вперёд. И знала, как можно выгодно использовать сложившуюся ситуацию, вынудить меня поддаться на провокацию.
Представьте, что воткнёте призрачный нож в горло незнакомого чувака.
Представьте, что с некоторой долей вероятности станете ангелами милосердия.
Представьте, что это позволит вам разрешить главный философский вопрос и выяснить, существует ли смерть на самом деле.
Думаю, не стоит больше объяснять, почему я в итоге согласился.
Выпуск шестой
Кларк Кент
Мне вот что интересно, ребятки: какого человека вы представили, когда услышали о Бессмертном Бу? Давайте сделаем вид, что вам не попадались выпуски с его участием. Забудьте об этом. Оставьте в голове два слова: Бессмертный Бу – и скажите их вслух много-много раз подряд. Когда повторяешь одно и то же по кругу, в какой‐то момент теряешь смысл. Появляется то, что по-умному зовут новизной восприятия, и примелькавшееся слово становится свежим и незнакомым.
Классная штука, да? Думаю, в вашем случае она должна сработать.
А в моём всё было куда проще. Я не знал этого чувака, понятия не имел, что он за птица, а потому мог представлять его образ каким угодно. Примерно то же самое я проделывал, когда вьетнамец тащил меня к Майе. Разница заключалась лишь в том, что тогда воображению не на что было опираться, то есть изначально мне не дали никаких деталей. А здесь Принцесса обрисовала картинку, и фантазировать стало проще и веселее.
Я сразу представил парнишку с печальными щами, бледного и худого, в траурном фраке, похожего на привидение, носящего удавку вместо галстука. Ну, знаете этот типаж готического страдальца, да? Всё как в кино: чувак живёт в древнем замке, убивается из-за неразделённой любви и спит в гробу. А в перерывах между стенаниями рассуждает о том, как было бы здорово умереть в чудесную лунную ночь и избавить душу от груза земных страстей.
Шаблонно, скажете вы, никакой оригинальности. Где свобода мышления, Придурок? Навесил тут готовый масскультовый ярлык, чтобы не напрягать мозги, и доволен. Это ведь очень удобно: не строить собственных представлений, брать чужие, созданные кем‐то другим. Всё равно что зайти в закусочную и попросить сэндвич из меню, вместо того чтобы купить ингредиенты по вкусу и собрать свой.
Любите ли вы тупые сравнения так, как люблю их я? А тавтологии? А отступления от темы? И что насчёт словоблудия?
Ха-ха, désolé, les gars[20], я опять несу какую‐то хуйню.
Но вы поняли. В голове у меня сложился определённый образ этого человека. Если подумать, он мог быть каким угодно: молодым, старым, богатым, рассудительным, непрошибаемо глупым. Но Принцесса дала ему конкретную, исчерпывающую характеристику: долбоёб. А потому я силился представить именно его.
Жил он, кстати, неподалёку от вокзала. И не в каком‐нибудь средневековом замке, а в старом доме с мрачными пожарными лестницами и проржавевшими водосточными трубами. Ни в одном из окон не горел свет, все они были черны, как само ночное небо.
Заходя в лифт, я спохватился:
– Слушай, а не поздновато ли мы прёмся?
– Да не волнуйся, – усталым апатичным голосом поспешила уверить Принцесса. – У него бессонница с одиннадцати лет. – Она нажала на подпалённую кнопку рядом с цифрой «8», и двери лифта с болезненным грохотом захлопнулись. Замкнув нас в душной вонючей коробке, стены которой были изуродованы граффити.
– Как интересно! – усмехнулся я, призадумавшись. – Мысли о смерти – с пяти, а бессонница – с одиннадцати. Это что же получается, он ещё шесть лет спокойно спал с осознанием бессмысленности жизни, а потом ему вдруг стало тревожненько?
Принцесса пожала плечами.
– Наверно, понял, что никогда не умрёт.
Она помолчала и добавила:
– Никто не должен быть бессмертным. Это неправильно.
– Когда жизненная сила не может течь беспрепятственно, человек умирает, – сказала Васиштха. Так, будто ждала подходящего момента, чтобы вступить в разговор. – Но это лишь воображение, котик. Разве способно бесконечное сознание перестать существовать?
– Бесконечное сознание? – переспросил я, не раскрывая рта. – Звучит жутковато. Хороший повод для того, чтобы обзавестись апейрофобией.
Васиштха продолжила:
– Когда сознание забывает себя и подвергается психологическим изменениям, возникает то, что называют разумом. Именно от него появляются рождение и смерть. Разум узок и ограничен. Он избегает истины о бесконечном сознании, всё глубже и глубже погружаясь в иллюзии, вовлекаясь в дела этого кажущегося мира.
– Что говорит?
– А? – вздрогнул я, оборачиваясь.
– Твоя шизофрения, – пояснила Принцесса. Милая девчуля, она, склонив голову набок, смотрела на меня пустыми глазами, холодными и тёмными, как пистолетные дула. – Ты же с ней разговариваешь?
Мне не нравился её взгляд, тяжёлый и отсутствующий, но вместе с тем очень проникновенный. Она словно видела меня насквозь. Знала, что именно со мной происходит. Но откуда? Не могла же она читать мысли, в конце концов.
– Я что‐то сказал вслух?
Принцесса слабо улыбнулась. Губы её быстро, едва приметно растянулись, а потом снова сжались в тонкую линию.
– Нет. Просто у тебя очень серьёзное лицо. Как будто ты много думаешь. – Поразмыслив, она с хлёсткой проницательностью добавила: – Обычно тебе это не свойственно. И мне показалось…
Тут я, не дожидаясь окончания реплики, не выдержал, вскинувшись:
– Да ёбаный в рот, что я сделал‐то?! – Голос мой прозвучал почти плаксиво, как у оскорблённого ребёнка. – Всю дорогу только и делаешь, что называешь меня дегенератом! Ты обалдела, morpionne[21], а?
Створки лифта распахнулись, и мой крик вылетел на этаж. Я всё никак не мог успокоиться, хотя понимал, что выгляжу как последний имбецил. Не, ну вы только представьте: какая‐то p’tite pétasse[22], оттопырив мизинчик, самоутверждается за ваш счёт и считает себя невъебенно умной. Что, неужели не будете беситься? Не захотите поставить её на место?
– Расслабься, – безразличным тоном отозвалась Принцесса, сделав шаг в длинный сумрачный коридор. – Я просто проверяю, насколько быстро ты заводишься, – снисходительно сообщила она. Так, будто была зоологом, сидящим с биноклем в кустах и наблюдающим за диким кабанчиком. Собирала очень важные научные данные, чтобы потом объявить их всему миру: «Представители этого вида отличаются беспокойным поведением и чрезвычайной возбудимостью, дающей им преимущество в борьбе за партнёра для спаривания и за пищу. Примерно каждые два-три часа они меняют место своего лежбища и устраивают внезапную атаку на окружающий мир. А в перерывах – беспричинно орут».
– Да неужели? – делано удивился я.
– Да, – кивнула Принцесса. Она шла по кишкообразному коридору, минуя двери квартир, не останавливаясь и не оборачиваясь. Её провожали настенные камеры, мигающие ярко-красным, как кровь, светом. – Ты не умеешь контролировать эмоции, – веско добавила она. И, вскинув руку над головой, принялась загибать пальцы: – Ты импульсивен, несдержан и впадаешь в истерику по каждому поводу. А ещё любишь попусту трепать языком. – Подумав, Принцесса подобрала слова поизящнее: – Тебе присуща страсть к пустой болтовне, которая не имеет никакого отношения к делу. Вообще‐то ты не такой уж дурак, – смилостивилась она. Чтобы тут же продолжить меня распекать, как строгая училка: – Но не умеешь мыслить последовательно и потому постоянно впадаешь в заблуждение. Любые решения ты принимаешь под влиянием настроения.
Впечатлившись, я присвистнул. Нихуёво девчуля загнула, да? Впрочем, я уже начинал привыкать к этой странной профессорской манере речи.
– Я тебе отчасти завидую, – помолчав, вздохнула Принцесса. – Ты умеешь расслабляться и отключать голову. – И вдруг поделилась почти интимным переживанием: – А у меня так не получается. Я всё время думаю. Даже когда сплю. Знаешь, каково это – жить в постоянном напряжении? – Она замерла у одной из дверей и обернулась. На лице её, совсем юном, с чуть припухлыми, как у всех детей, щёчками и вздёрнутым носиком, читалась болезненная усталость. – Иногда мне кажется, что голова вот-вот взорвётся. Наверно, я мечта радикальных исламистов, – с мрачной усмешкой добавила она и взялась за ручку.
Только подойдя ближе, я заметил, что дверь была приоткрыта. Чуть-чуть – на ладонь, не больше. Но этого оказалось достаточно, чтобы ощутить смутную тревогу и сделать шаг назад.
– Как‐то подозрительно, – нахмурился я.
Кто в здравом уме, скажите на милость, будет оставлять дверь открытой, да ещё и на ночь? Хотя, наверное, если ты спишь и видишь, как бы отдать концы, бояться в любом случае нечего. При самом худшем раскладе для тебя всё сложится очень удачно.
Ну, например, залетят какие‐нибудь вооружённые до зубов enfoirés[23] в масках, с автоматами наперевес. Схватят тебя в охапку, приставят стволы к вискам и скажут:
– Гони бабло, если хочешь жить.
А ты им:
– Пацаны, вы немножко не по адресу.
Очень удобно, можно даже не напрягаться, всё сделают за тебя. Возьмут под белы рученьки и доведут прямо до райских ворот. Мечта, а не сервис, правда?
Я так и сказал Принцессе, почти слово в слово. Она поглядела на меня чуть удивлённо, будто пытаясь понять, шучу я или нет. А потом улыбнулась, со знанием дела пояснив:
– Да это для кошки, – и указала на эластичный шнурок, привязанный к ручке. – Для Нихиль, – почти нараспев добавила она. И, помолчав, кивнула: – Но твоя теория мне нравится.
– «Ничто»? – уточнил я, покопавшись в памяти. – Эта кошка безначальна и беско… – и, не договорив, спохватился, прикусил язык. – Какая оригинальная кличка!
– Вообще‐то нет, – с желчной усмешкой отозвалась Принцесса. Она сделала вид, что не услышала ненавистного слова, и распахнула дверь. – Изначально идея принадлежала Сартру. Это его кота звали Ничто.
Тьма в квартире стояла хоть глаз выколи. Знаете, что мне вспомнилось? Серия комиксов про Карателя, нарисованных в нуарном стиле. Там тоже были плотные чёрные тени, резкие контуры и всё такое. Не подумайте, что я совсем башкой двинулся, просто берлога этого чувака в темноте выглядела почти трафаретной, плоской, как картинка. Кстати, судя по всему, здесь было два этажа: невдалеке виднелись лестничные ступени, уходящие вверх.
– Эй, Бу! – позвала Принцесса. Водя рукой по стене, она на ощупь отыскивала выключатель. – Бу, ты там ещё не сдох?
Откуда‐то сверху послышался шорох. И раздался крик – визгливый, режущий слух:
– Уходите! – Голос у этого мужика был высокий и резкий, как у петуха. – Убирайтесь отсюда! Или я прямо сейчас нажму на курок! Слышите?! – прогорланил он. – У меня пистолет! И я выстрелю!
Ничуть не смущённая Принцесса хмыкнула, щёлкнув выключателем. В глаза больно ударил свет, и с непривычки я сощурился. А когда осмотрелся, обнаружил, что стою посреди гостиной, соединённой с кухней. На столе валялись пустые коробки из-под пиццы, картонные ведёрки, забитые куриными костями, смятые салфетки.
А знаете, что было прекрасным дополнением картины? Кошка. Жирная, совершенно чёрная, она сидела на всей этой куче мусора, как дракон на золоте, и щурила жёлтые глазищи. Сразу видно: мудрое, познавшее жизнь существо. Ей было глубоко насрать на всё, в том числе и на нас. Скучливым взглядом Нихиль следила за тем, как Принцесса по-хозяйски открывает холодильник. И не выражала ни возмущения, ни интереса.
– Молочная кола? – скривился я, заметив ярко-розовую жестяную банку газировки. – Да ты извращенка!
Принцесса поддела язычок, с наслаждением сделала глоток и объявила:
– М-м-м, обожаю. – После чего протянула колу мне: – Будешь?
О, ребята, вы знаете, что это за адское пойло? Если ни разу не пробовали, лучше и не начинайте. Хотите чего‐то экзотичного – хлебните керосину, он гораздо вкуснее. И безопаснее.
Я в ужасе замахал руками:
– Не подходи ко мне! Забудь, что мы вообще знакомы!
Принцесса отпила ещё немного и, быстро облизнув губы, сказала:
– А я‐то думала, у азиатов нет кулинарных предрассудков.
– Я метис, детка, – пришлось пропустить расистскую шутку мимо ушей. – Моя maman была белой католичкой.
– А отец?
– Никогда его не видел, – я пожал плечами. – Да мамаша и сама не помнила, с кем потрахалась по пьяни.
– О, – отозвалась Принцесса, не меняясь в лице, – понимаю. Мой живёт где‐то в Испании, у него давно другая семья. Они с мамой развелись, когда мне было пять лет, так что, можно сказать, я его тоже не знаю. Понятия не имею, какой он человек.
– У тебя хотя бы есть отчим. Это, знаешь ли, неплохо, – с высоты жизненного опыта заметил я. – Мужская рука и всё такое.
– Но он мудак. И друзья у него кретины. – Принцесса кивком указала на лестницу, ведущую на второй этаж, где сидел чувак с заряженным пистолетом, о котором мы успели забыть. – Эй, Бу! – повысила голос она. – Чего ты там телишься? Давай стреляй уже! Давай-давай, зассал, что ли?
Я, обалдев, раскрыл было рот, чтобы возмутиться её неприкрытым цинизмом. Но Принцесса вскинула руку в предупредительном жесте и приставила ладонь к уху, делая вид, что напряжённо прислушивается. Пришлось последовать её примеру.
Тут же раздался глухой щелчок. А потом ещё один – тихий, едва различимый. Это заняло всего пару секунд, так что я не успел врубиться, какого хрена вообще произошло. Зато Принцесса сразу всё поняла, потому что страдальчески закатила глаза.
– О господи. Ничему жизнь не учит. – И запрокинула голову, прокричав: – Идиот, это зажигалка! Ты совсем тупой, что ли?
В квартире на миг повисла недоумённая тишина.
– Что? – послышалось в ответ.
– Ты взял зажигалку в виде пистолета, а не пистолет! Боже, ну и ебанько!
У меня начался приступ хохота. Не знаю, что было тому причиной: то ли горе-смертник, то ли забавные писклявые ругательства Принцессы. Она обернулась ко мне и картинно развела руками, как бы говоря: «Я ж не виновата, что так вышло». На лице у неё не было ни тени удивления. Наверное, она привыкла к нелепым выходкам этого придурка и знала, что ничего нового тот не выкинет. Не сможет убиться, даже если очень захочет.
Я подумал: какая трагическая комедия!
Я подумал: или комедийная трагедия.
Я подумал: кажется, именно это и называется жизнью.
Мы пошли наверх – полюбоваться на прекрасное воплощение кретинизма. Я, кстати, не оставлял надежд, что на втором этаже прячутся всякие самурайские катаны, острые бритвы, мини-копия гильотины, шкафчик с ядами и прочие интересные штуки. Ох уж это стереотипное мышление, скажете вы. Нет, ребятки, суть в другом. Мне хотелось увидеть размах, масштабность, музейную эстетику саморазрушения, декадентства и вот это всё. Человек должен делать свои идеи центром вселенной, носиться с ними, класть на них жизнь, а не хуй, иначе в чём вообще смысл? Если ты не позёр, а серьёзно настроенный чувак, то обязан это понимать. Будь максималистом: хочешь писать картины – преврати в холст весь мир. Собираешься сдохнуть – сделай его орудием для самоубийства.
Короче, я ожидал увидеть что угодно, только не угловой диванчик, не телик и не аквариум. На журнальном столике валялись какие‐то бумажки и стоял стакан с цветными карандашами. Смертельная тоска, да? Но нет, смертью тут и не пахло: ни свисающих с потолка верёвок, ни сюрикенов, развешанных по стенам, ни коллекции дробовиков. Даже гроба не было, можете себе представить? О, вообразите степень моего разочарования!
Merde alors[24], думал я, озираясь по сторонам, что за подстава, у меня ведь сложился такой идеальный концепт, а ты, дурак, взял и всё испортил. Хоть бы пираний в аквариум запустил – чисто для приличия, – так нет же, сука, у него там золотые рыбки плавали, блестящие, красивые. Три штуки, больше и не поместилось бы: аквариум был маленьким, размером с трёхлитровую банку, и рыбки ютились в нём, как гастарбайтеры в общежитии, явно недовольные соседством.
Я вспомнил слова Принцессы и озадаченно хмыкнул. Вот, пожалуйста, очередное немилосердное разрушение ожиданий. Мне‐то представлялся по меньшей мере бассейн – глубокий такой, с голубой водичкой. У рыбок был свой тихий медитативный мир, а тут к ним какой‐то дебил запрыгнул, весь ретрит похерил.
Не, ну а как иначе можно утопиться в аквариуме? На голову его надеть как шлем для космических прогулок, что ли? Хотя если ты, бравый ебанавт, хочешь выйти за пределы бытия – ещё и не так раскорячишься.
– Вся моя жизнь – повторение мифа о Сизифе, – раздался жалобный голос откуда‐то из угла. – Почему нельзя просто взять и умереть?
Я подошёл ближе и наконец увидел нашего неудачливого дружка. Им оказался не печальный готический плакса, не седой интеллигентный профессор в очках, а лысый толстячок лет пятидесяти с раскрасневшимся лицом. Как бы описать в двух словах, чтоб вы поняли… Короче, это был такой, знаете, человек-батя. Почти эталонный, в майке-алкоголичке и растянутых трениках. Он сидел на полу, вжавшись в стену, и вертел в руках злополучную зажигалку в виде пистолета, нажимая на фальшивый курок: щёлк-щёлк, щёлк-щёлк, вот так. Язычок пламени вспыхивал и тут же исчезал. А потом опять появлялся – ярко-рыжий, чуть синеватый у основания.
Это неприятно действовало мне на нервы, и я в конце концов не выдержал, сказал:
– Ну, ты не расстраивайся. Можно ещё жопу спалить. Да, не очень приятная смерть, зато мужественная.
Не подумайте, что это было злорадство. Ни один человек на земле, даже самый конченый, не заслуживает мучений, таково моё мнение. Но Бу выглядел настолько потерянным и грустным, что я захотел его развеселить. Подумал, ему станет легче. Смех всегда побеждает и страх, и боль, делает мир пригодным для жизни местом.
Но наш дружочек, кажется, не оценил искромётной шутки. Потому что подтянул колени к груди и завыл, как раненый зверёк:
– Это невыносимо, я больше не могу… Мне плохо…
Судя по всему, он даже не понимал, кто мы и зачем пришли по его душу. Говорил сам с собой, погрузившись в мрачные мысли, и окружающего мира для него не существовало.
– Хватит ныть, Бу, – с раздражением бросила Принцесса. Она с ногами забралась на диван, пачкая обивку подошвами кроссовок. В усталости откинулась на подушки и вынула из кармана джинсов нож. Принявшись, не раскрывая, вертеть его в руках. – Давай уже покончим с этим, – напрямик, без лишних предисловий, заявила она. – Доверься профессионалам. Мы тебя убьём, и ты обо всём забудешь. Не об этом ли ты мечтал?
– Нет! Мои мечты никогда не сбудутся! – взвизгнул Бу, не понимая смысла её слов. – Я всегда буду несчастен! – И вдруг опомнился, часто-часто заморгал маленькими свиными глазками. – А… Принцесса, это ты?
Он, кажется, только сейчас заметил меня. Свёл белёсые брови к переносице, с недоверием всмотрелся в моё лицо – так, будто я был потенциальным кандидатом на роль жениха его воображаемой дочурки.
– А это что за педик?
Потрясающее неуважение, не правда ли? Мы, значит, пришли оказать этому недоумку услугу – по доброте душевной избавить его от страданий, а он ещё и издевается. Какая наглость!
– Сам ты педик, – тут же огрызнулся я. И, жестом очертив в воздухе круг, с театральным пафосом объявил: – Не видишь, что ли? Я эльф!
Ну, вы помните, что было у меня на голове, да? Очаровательный венок из косичек, украшенный цветочными заколками, – между прочим, произведение искусства! Чисто art nouveau, истинное воплощение красоты.
Но вкуса у чувака оказалось примерно столько же, сколько и воли к жизни. Он недовольно крякнул и покосился на Принцессу:
– Твой приятель?
– Нет, – с нарочитой невозмутимостью отозвалась та, не выпуская из рук нож. – Это мой любовник. У него очень большое сердце, – томным голосом опытной куртизанки сообщила она. И, изогнув бровь, вкрадчиво добавила: – И член.
Я не смог удержаться от хохота:
– Не, сердце у меня поменьше.
– Да ладно тебе, Реми. Не скромничай.
Губы Принцессы оставались плотно сжатыми, но глаза смеялись: в них блестели лукавые искорки. Вечно серьёзная девчуля, сейчас она была по-детски беззаботна, и это меня умиляло. На душе стало очень легко, и даже Бессмертный Бу, сидевший всё с той же скорбной миной страдальца, не портил веселья.
Ровно до тех пор, пока не додумался брякнуть:
– Реми? Француз, что ли?
Вы знаете, ребята, у меня есть только два режима: либо ржать, как последний придурок, либо беситься, третьего не дано. Я подавился застрявшим в горле смешком и от досады скрипнул зубами. Это было уже слишком. Чувак ходил по охуенно тонкому льду. Жить, что ли, надоело?
Ах да, погодите-ка…
– Ну всё, – не выдержал я. – Принцесса, давай его кончать!
Вообще‐то в моей душе не было злости – только спонтанное раздражение. То есть не подумайте, что мне вдруг в самом деле захотелось прикончить Бу, да ещё и из-за какого‐то глупого вопроса. Я бросил это не задумываясь, выплёскивая ребяческую обиду. Но уже через секунду понял, насколько сильно облажался.
Потому что Принцесса истолковала мои слова вполне однозначно.
– Валяй, – пугающе ледяным голосом сказала она, будто объявила приговор. И бросила мне нож.
Я поймал его на лету, повертел в руках. Выдвинул призрачно острое лезвие и вдруг понял, что не смогу. Как‐то уж очень стрёмно всё это выглядело. На кой чёрт вообще надо проверять наши теории? Почему нельзя взять другой нож, чтобы не спорить о том, настоящий он или нет? Мы могли бы, например, спуститься на кухню, порыться в ящике с приборами, а потом тихо-мирно свалить. И волки были бы целы, и овцы сыты.
– Не, – сказал я, – чё‐то передумал. Не хочу его убивать.
– Убивать? – удивлённым эхом повторил Бу, складывая мясистые губы в трубочку. – Кого?
Вот каким местом он слушал, а? Думал, мы пришли составить ему приятную компанию на ночь? Посидеть поболтать об абсурдности бытия? Ну да, конечно, а нож взяли чисто по приколу, чтоб веселее было.
– Тебя, идиот! – сквозь зубы бросила Принцесса, раздосадованная непрошибаемой тупостью Бу. – Кого ж ещё?
Он широко распахнул влажно блестящие глаза и вжался в стену. Визгливо вскрикнув:
– Нет! – Бу по очереди оглядел нас обоих и завопил: – Вы что, обалдели?! Я не хочу! Не трогайте меня! Нет!
Тут я, конечно, малость прихуел.
– Чего? В смысле, блядь, не хочешь? – И непонимающе сморгнул, пытаясь переварить услышанное. А потом напомнил: – Ты пытался утопиться в аквариуме. И застрелиться зажигалкой.
– Но я сам буду решать, когда и как мне умереть!
Он заметно разнервничался. Его забила мелкая дрожь, и лоб покрылся испариной. Удерживая пистолет-зажигалку во влажных от пота руках, Бу снова принялся щёлкать спусковым крючком, вглядываясь в язычок пламени.
– А что, есть разница? – вмешалась Принцесса.
– Есть! Это моё право! Моя свобода воли! – почти патетически вскрикнул он, и отражения огня дёрнулись в его глазах.
Тогда я понял, что имелось в виду. Ему нужна была возможность самостоятельно определять свою судьбу, быть независимым от чужих решений. Если всё вокруг бессмысленно, ты можешь взять ситуацию в свои руки и выразить маленький протест – противостоять абсурдности мира. И таким образом сохранить человеческое достоинство.
Очень витальная штука, если посудить, и уж больно знакомая, не так ли? Я передёрнул плечами и повернулся к Принцессе:
– Слушай, зайка, походу, у нас проблема.
Одно дело, когда убиваешь кого‐то по его желанию – это можно принять за проявление доброты. А как быть, если человек не согласен? Принудить его отказаться от собственных принципов? С ума сойти! И кто ты после этого? Последняя окрысившаяся тварь, конченый мудак?
Да пусть он прыгает с первого этажа.
Пусть режет вены ложкой.
Пусть суёт голову в выключенную духовку, тебе‐то какая разница?
Право человека творить херню священно, c’est la vérité[25]. Может, он вовсе не хочет умирать. Может, для него важно совсем другое – быть в постоянном конфликте с самим собой и таким образом чувствовать себя живым?
Ох, ебать я философ, конечно.
– Это сложный этический вопрос, – согласилась Принцесса. – Предлагаю простое решение, которое избавит нас от угрызений совести. – Она спрыгнула с дивана – по-кошачьи легко и бесшумно. Взяв у меня из рук нож, протянула его, как ценный подарок, Бессмертному Бу: – На, вскрывайся.
– Я боюсь крови, – захныкал тот. Глянув на отливающее металлическим блеском лезвие, он закрыл лицо руками и отчаянно замотал головой: – Я упаду в обморок! Умру от шока!
Умрёт он, слышали, да? Вот ужас‐то!
– Так, ребята, ну вас в жопу, – не выдержал я. И мягко, но уверенно взял Принцессу за руку: – Пошли отсюда, ma chérie[26]. Найдём другой нож, чего ты зациклилась‐то? Оставь мужика в покое! Он сейчас сраться под себя начнёт, не видишь, что ли?
Девчуля в досаде дёрнула плечом и ещё крепче стиснула рукоять.
– Ты не понимаешь, это дело принципа! – Её невыразительное лицо исказилось в гримасе гнева и страха. Привычная сосредоточенная флегматичность, серьёзность – всё это разом пропало, как невидимый занавес, и теперь Принцесса казалась напуганным ребёнком, который проснулся от кошмара. – Я должна знать! Иначе буду думать-думать-думать до тех пор, пока не сойду с ума! Целую вечность! – в сердцах выпалила она.
И, прежде чем я успел раскрыть рот, подалась вперёд, резким движением вонзив остриё в горло нашего страдальца. Чисто из милосердия, чтоб не мучить ни его, ни себя.
– Ёб твою мать! – заорал я. – Какого хуя ты творишь?!
Кровь хлынула из шеи Бу, пачкая майку. А он принялся размахивать руками и истошно выть – причём не от боли, как могло показаться поначалу, а от ужаса:
– Нет! Уберите её от меня! Уберите-уберите! Я не могу, мне плохо! Меня сейчас стошнит!
Странная штука, конечно, кровь. Красивая, яркая, как праздничный коктейль, есть в ней что‐то привлекательное. Это сама жизнь – стремительная, сочная, волнующая. Но когда видишь её, думаешь прежде всего о смерти.
Она струилась по его коже и тут же пропадала. Бледнея, как выгорающая на солнце краска, бесследно растворялась, не оставляя после себя ничего: ни пятен, ни острого металлического запаха. А потом принималась течь снова – чтобы через мгновение исчезнуть.
– Слушай, Бу, – сказала Принцесса. Опустившись на корточки, она в любопытстве склонила голову набок. – Кажется, ты и в самом деле бессмертный. Не повезло.
А тот вскочил – вот прям как был, с торчащим в горле ножом – и заметался по комнате. Он не додумался его выдернуть, может, забыл или не чувствовал, не знаю. Только размахивал руками, задирал майку, пытаясь её стянуть, оголяя жировые складки на пузе:
– Какая гадость! Ненавижу! – И расчёсывал руки, как будто хотел содрать кожу вместе с налипшей кровяной плёнкой. Хотя её и не было. – Почему нельзя умереть?! – снова заладил он. – Боже, я просто хочу умереть! Неужели я многого прошу?!
Мне вдруг подумалось, что у нашего приятеля наверняка куча фанатов и сейчас они гогочут, сидя у экранов с ведёрками попкорна. А рейтинги растут, и всем заебись, все довольны, даже Майя.
Может, она оценит это выступление и смилуется над нами, даст чуть больше времени на поиски Брахмана, вот какая оптимистичная мысль мелькнула у меня в голове.
Но тут Бу, не удержавшись на ногах, споткнулся и с диким грохотом повалился на журнальный столик. Раздался хруст, на стекло брызнула кровь.
– О господи, – сказала Принцесса. – Он упал на карандаши.
Невозможно, скажете вы, немыслимо. Ни один человек на земле не способен так облажаться. Но знаете что, ребятки? Вы не уловили сути. Как там говорится? Вселенная всегда отзывается на запросы? Ну вот, получите, распишитесь.
Крови становилось всё больше: капли собирались в лужицы, кляксами расплывались по бумагам, но теперь уже не исчезали.
Я бросился к Бу и, потормошив, перевернул его на спину. Он был тяжёлым, как мешок с цементом, и неповоротливым. Из глаз у него торчали ярко-красные карандаши, которые издалека можно было принять за лазерные лучи.
– Тебя, случайно, зовут не Кларк Кент[27]? – не удержался я. – А, мужик?
Мне не пришло в голову ничего другого. И не было ни ужаса, ни сожаления – только дурацкое неуместное веселье, как у ребёнка, не понимающего, что такое смерть.
– Он что, умер? – растерянно спросил я, не получив ответа. И потряс чувака за плечи, похлопал по мясистым щекам в надежде, что он сейчас опомнится, снова начнёт ныть, бегать туда-сюда, спектакль продолжится после антракта, и всё будет как прежде. – Эй, Бу, ты чё, сдох? Ты ж бессмертный, алё!
До меня не сразу дошло, что он уже не отзовётся. На том конце провода больше не было абонента.
– Теперь он Смертный Бу, – с видимым облегчением сказала Принцесса. – Даже убивать не пришлось, как удобно.
– Но ведь получается, что мы всё‐таки его убили, – возразил я. И почувствовал болезненный укол вины.
Наши действия привели Бу к смерти. Если бы мы не пришли к нему домой, не воткнули призрачный нож в горло, бедолага остался бы жив. Моя логика ясна, да? Причинно-следственные связи, ребятки, и всё такое.
Васиштха сказала:
– Как может нереальное оказаться следствием реального? Результат имеет такую же природу, как и причина, между ними нет никакой разницы. – Она помолчала и добавила: – Непосредственная предпосылка такого результата существует лишь в прошлом – в памяти. Память, котик, подобна пустому пространству. Всё, что ты видишь здесь, есть следствие этой пустоты, и потому оно тоже пусто. И жизнь, и смерть – иллюзорные продукты воображения.
Подумав, я рассудил, что в её словах есть здравый смысл. К тому же чувак так или иначе хотел откинуться, поэтому, наверное, не очень‐то расстроился. Получается, он сам выбрал свою смерть – нелепую и невероятную, как и мечтал, никто не отнял у него жизнь против воли.
– Ты хотела его убить? – спросил я, озарившись идеей. – Ну, по-настоящему.
Принцесса пожала плечами.
– Нет, я просто проверяла, сработает ли моя теория.
– Но ты не хотела причинять ему вреда?
– Не знаю, а что?
Я выдернул нож из горла Бу и несколько раз погрузил лезвие ему в брюхо. Это было ужасно – слышать звук, с которым расходится плоть, видеть, как по майке расплываются липкие красные пятна. К горлу подкатила тошнота, я почувствовал себя поехавшим маньяком, но чуваку‐то было уже всё равно, он не мог испытывать ни боли, ни страха. Так что, думаю, ему в итоге пришлось меня простить. Мёртвые вообще самые понимающие и милосердные люди на земле.
– Что ты делаешь? – спросила Принцесса. В голосе у неё не слышалось ни намёка на ужас или изумление, только неподдельное любопытство исследователя. Она смотрела на вытекающую кровь с таким ненормальным спокойствием, что мне стало не по себе. Одно из двух: либо у неё была очень крепкая психика, либо девчуля наглухо ёбнулась.
– Походу, я был прав. – Обтерев нож, я убрал его в карман. – Он может быть и реальным, и нереальным одновременно. Всё зависит от того, чего ты хочешь на самом деле.
И испытал облегчение, какое всегда бывает после удачно выполненной, очень изматывающей работы. Глянул на неподвижно лежащего Бу и вдруг ощутил жжение голода.
– Жрать хочу, подыхаю.
– Неплохая мысль, – кивнула Принцесса, – пойду пороюсь в холодильнике.
А я подумал, что у меня начинает складываться особый ритуал. Вижу труп – набиваю кишки. Заедаю пустоту. Голод – это смерть, сытость – жизнь, понимаете? Такая вот нехитрая философия.
Принцесса вернулась с двумя коробочками рисовой лапши – холодной, покрытой тёмным застывшим соусом. Мы оба с ногами забрались на диван, чтобы не пачкать подошвы в растекающейся по полу крови, и накинулись на еду. Точнее, это я стал жрать как не в себя, девчуля‐то принялась наматывать лапшу на палочки очень медленно, с ювелирной аккуратностью – так, будто пришла в ресторан, где нужно соблюдать строгие правила этикета.
– Теперь Бу всегда будет мёртвым, да? – неожиданно спросила она. И подняла на меня беспросветно тёмные, как ночь, глаза. – Наверно, ты был прав. Смерть не очень отличается от бессмертия. И то и другое длится вечно.
Принцесса – задумчивое, оторванное от реальности дитя – никогда не видела смерти, не сталкивалась с ней близко, вот что я понял. Она не знала, как уложить произошедшее в голове, объяснить его с точки зрения здравого смысла, и испугалась.
Я погладил её по плечу и сказал:
– T’inquiète pas, зайка, не загоняйся, в смысле, – стараясь, чтобы мой голос прозвучал мягко и доверительно, как у Васиштхи. – Это существует только в твоём воображении, – вспомнив её слова, добавил я. – А Бу уже нет, значит, для него всё закончилось, понимаешь?
– Всё закончилось, – отрешённо повторила Принцесса. И вдруг переменилась в лице, озарилась радостью. – Киса-кисонька! Иди сюда, хорошая, – с умилительной нежностью позвала она Нихиль, которая сидела возле дивана и, как отстранённый оператор, наблюдала за происходящим, сверкая жёлтыми глазами.
Та охотно встала на задние лапы, с грацией сосиски потянувшись к коробочке с лапшой. У кошки были густые белые усищи – такие, знаете, как у Ницше, – и длинный хвост, кончик которого по-обезьяньи закручивался в колечко.
– Кто у меня хорошая девочка? – продолжала ворковать Принцесса. Она усадила её к себе на колени и зарылась пальцами в блестящую чёрную шерсть, отчего кошка затарахтела – очень громко, раскатисто, почти как мотоциклетный двигатель. – У кого толстое пузико?
Этот неожиданно вспыхнувший детский восторг так меня поразил, что я рассмеялся. Принцесса почти никогда не улыбалась, если не считать кривых саркастичных усмешек, не проявляла сентиментальности, а тут вдруг расчувствовалась, сделалась по-настоящему ласковой и весёлой.
– Не знал, что ты любишь кошек.
– Кошки лучше людей, потому что не умеют говорить, – ответила она. И удивлённо вскинула бровь: – А ты разве не любишь?
– Да я так‐то всех люблю. И собак, и кроликов, и пауков-птицеедов. Они такие мягонькие, прикольные, знаешь…
О чём только не поговоришь, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями.
– Фу! – передёрнулась Принцесса, отодвинувшись к краю дивана вместе с кошкой. – И это я извращенка?
– Ну ладно, – я, как поражённый противник, поднял руки. – Один – один. – И, помолчав, добавил: – Но птицееды и правда милые. В детстве я думал, что, когда вырасту, заведу парочку. Типа, знаешь, у меня будет три собаки, хамелеон и два паука. Целый зоопарк, короче.
– Но для начала, наверно, хватит и одной кошки, – задумчиво протянула она, поглаживая вальяжно развалившуюся на её коленях Нихиль.
– Ну да, – согласился я, – для начала сойдёт. – И, вглядевшись в мечтательное лицо Принцессы, запоздало понял, к чему она клонит. – Блядь! Ты издеваешься?!
Но она, судя по всему, была настроена серьёзно.
– Мы не можем оставить её здесь, – проникновенным шёпотом сказала Принцесса, заглядывая мне в лицо. – Она будет страдать. И в конце концов умрёт. Медленно и мучительно.
Знала, сучка, на какие точки давить, да?
– Может, ты ещё и аквариум с рыбками возьмёшь? – не удержался я от издёвки. – Вон, смотри, им тоже плохо, бедные рыбки!
Она пропустила сарказм мимо ушей и с прежней академической серьёзностью заявила:
– Не. Их не жалко. У них слабо развитая нервная система, и они не чувствуют боли.
– Но они умрут.
– Мы все умрём.
– И кошка тоже, – не унимался я. – С нами она сдохнет даже быстрее. Включи мозги, ma chérie! Послушай взрослого умного человека…
Принцесса смерила меня полным презрения взглядом и бросила:
– Если ты старше, это не значит, что у тебя больше ума.
– Зато больше опыта. И я кое-что понимаю в этой жизни.
– А я, думаешь, не понимаю?
Тут нервы мои, и без того раздроченные, окончательно сдали:
– Tu n’y connais vraiment rien[28]!Ты ребёнок, Принцесса, ёб твою мать! У тебя косички, блядь, эльфы, кошечки – детство в жопе! Куда ты вообще лезешь?! Иди домой! – Я вскочил, забыв, что на полу алели кровавые пятна. И снова запачкал чистенькие подошвы. – Ну, сука, блядь, ну что за говнище, а?!
Речь ведь шла совсем не о кедах, понимаете? С кедами‐то хуй с ними, их можно помыть, натереть мылом, отдраить щёткой. А вот с жизнью такой номер не прокатит. Её не засунешь в стиральную машинку, не отдашь в химчистку, чтобы взять обратно новенькой, пахнущей альпийской свежестью, а не чужой кровью.
Мне захотелось разрыдаться, но вместо этого я расхохотался – сам не знаю почему. Воздуха едва хватало, я ржал как припадочный, но не мог остановиться. Смех скручивал внутренности в узел, отдавался тупой болью в висках и звенел в ушах.
Кто сказал, что он продлевает жизнь? Неправда, как раз наоборот: с каждым его приступом ты приближаешься к смерти. Не можешь ничего контролировать, становишься беззащитным и уязвимым, тебе невыносимо плохо, но вместе с тем одурительно хорошо.
Смейтесь, пока не потеряете голос.
Смейтесь, пока не упадёте на пол.
Смейтесь, пока не перестанете дышать.
– Тебе надо поспать, – заметила Принцесса. Она сидела не шевелясь, обнимая Нихиль, как большую мягкую подушку. – Иначе к утру ты услышишь ещё и голос Гитлера.
– Да, наверное, – сказал я.
И подумал, что хочу стать золотой рыбкой со слабо развитой нервной системой. Плавать в большом глубоком бассейне, беззвучно двигать плавниками, не испытывать никаких желаний и ощущать только холодное безразличие. Разве не замечательно?
По-моему, обалденно.
Выпуск седьмой
Чёрные воды
До самого утра меня мучил температурный бред. Я ворочался на кухонном полу – диван пришлось самоотверженно уступить Принцессе – и не мог толком ни заснуть, ни проснуться, барахтался в какой‐то липкой трясине. Камеры ещё эти блядские мешали. Всю ночь мигали, глаза мне мозолили. Две яркие точки, похожие на капельки крови, – я видел их, даже когда зажмуривался и утыкался лицом в подушку. Они расплывались, собирались в лужицы, и весь мой маленький мирок становился истошно-красным. Невыносимо ярким, горячим, как огонь.
В конце концов я не выдержал и вскочил. Мне захотелось швырнуть в камеры чем‐нибудь тяжёлым, чтобы вырубить их на хрен. А ведь они были невидимыми, хорошо замаскированными, вот в чём прикол.
Надо как следует постараться, чтобы их заметить, войти в особое состояние. Напрячь и одновременно расфокусировать внимание, знаете, да? По-хорошему, человек не должен вспоминать о существовании всяких камер, прослушек и прочей фигни, в этом главная фишка шоу. Вы увидите их лишь на пару секунд, если, конечно, сумеете. А потом отвлечётесь, задумаетесь о чём‐то своём, и тогда – бах! – вся аппаратура исчезнет. Вы снова поверите в то, что у вас обычная жизнь. Настоящая, реальная, невымышленная. Другого выбора не будет, привычки всегда одерживают верх над здравым смыслом.
Короче, я веду к тому, что это было странно – всю ночь пялиться на камеры. Мне, может, и хотелось бы, чтобы они пропали, но я видел их так же отчётливо, как собственные пальцы. Одна висела над дверью, вторая – над диванчиком, где спала Принцесса, и я никуда не мог деться от этих пристальных механических взглядов, они сводили меня с ума.
А может, дело было в окровавленном трупе, лежавшем на втором этаже, не знаю. Поводов для беспокойства хватало, сами понимаете. Нет, я не думал, что наш дружочек сейчас встанет, как в фильме про зомби-апокалипсис, и, почёсывая пузо, спустится к холодильнику. Но в самом присутствии смерти чувствовалось что‐то жутковатое.
Мы ведь тоже умрём, я вдруг понял это так ясно, что мне подурнело. Наши сюжетные ветки завершатся. Останутся только картинки на экранах, записи голосов, а нас самих не будет. Лишь бесконечная тишина и пустота – больше ничего.
Не переключайте канал.
Не убавляйте громкость.
Не отводите взгляды.
Дайте нам существовать. Это единственное, о чём я прошу.
– Разум, заполненный проблемами, – сказала Васиштха, – создаёт глупость и заблуждение, которые ведут к невезению и страданию.
Менторским таким тоном сказала, я аж зубами заскрипел.
– Да иди ты на хуй, мудрейшая!
Ну, она и пошла. И я пошёл, только немножко в ином направлении – в общий коридор. Мне хотелось выйти на свежий воздух, охладить голову. Когда долго бродишь по улицам, в конце концов отвыкаешь торчать в четырёх стенах. У тебя развивается что‐то вроде клаустрофобии. Дышать становится нечем, мозги начинают закипать. Ты чувствуешь себя запертым в клетке. Или в аквариуме.
Меня вдруг озарила потрясающая идея. В смысле, великолепно тупая, какая же ещё?
Я вернулся обратно в квартиру. Поднялся на второй этаж, переступил через лежащего на полу Бу и взял аквариум с рыбками – аккуратно, чтобы не расплескать воду.
Всем должно быть хорошо, вообще всем на свете. А рыбкам было плохо, и мне было плохо, это никуда не годилось. Вот выпущу их, подумал я, пусть плавают себе, радуются жизни. Надо же хоть кому‐то испытывать счастье.
Меня шатало из стороны в сторону, ну, вы поняли. Поутру человек всегда особенно ранимый и беззащитный. Ночного наркоза больше нет, ты просыпаешься голым, раскуроченным, а тебе прямо в морду прилетает прекрасный светлый мир. Salut, mon chéri.
– Куда это ты собрался? – голосом бдительного надзирателя спросила Принцесса, когда я спустился. Она стояла в дверях и, скрестив руки на груди, смотрела на меня с недоумением. Как на обнаглевшего полудурка, который решил среди бела дня вынести «Мону Лизу» из Лувра.
– Пойду прогуляюсь.
– С рыбками? Ты ебанутый?
Я не знал, как объяснить ей то, что чувствую. Поэтому на оба вопроса ответил с непривычной для себя спартанской лаконичностью:
– Да.
И, помолчав, добавил:
– Им тесно. Понимаешь?
– О, – тем же бескомпромиссным тоном сказала Принцесса, – ещё как понимаю. – Сделав шаг мне навстречу, она отчеканила: – Ты загоняешь их в парадигму антропоцентризма и приписываешь им собственные чувства. Рыбки олицетворяют твою несвободу, а значит, если их выпустить, тебе полегчает. Кроме того, ты подсознательно хочешь сделать что‐то хорошее, потому что испытываешь моральное давление из-за смерти Бу.
– Да.
Сегодня я был на редкость немногословен. Зато Принцесса, напротив, воодушевилась. Она говорила хлёстко и отрывисто, словно расстреливала меня из невидимого автомата:
– Спиноза считает, что человек стремится к чему‐либо не из-за желания добра. Наоборот, он называет добром всё, чего хочет.
– Да хули ты злая‐то такая с утра пораньше? – вскинулся я, сильнее прижав аквариум к груди, защищая его от нападок Принцессы. Как будто её слова могли пробить тонкие стеклянные стенки, пулями вонзиться в золотистые брюшки рыбок и забрать у них жизни.
Она поджала губы и по-детски обиженно бросила:
– Ты меня не позвал.
– Я не хотел тебя будить!
– А может, ты собирался уйти один? – вкрадчиво предположила Принцесса. – И надеялся, что я не замечу?
Её вопрос штырём вонзился в мою расхристанную душу. Неужели девчуля и вправду решила, что я мог бы свалить втихаря, как последняя крыса, и бросить её здесь? В прекрасной, хотя и не очень тёплой компании с трупом?
– Зайка, хватит нести хуйню, – сказал я, не скрывая досады. – И без тебя тошно. Пошли уже, у меня руки отваливаются.
Она помолчала, обдумывая заманчивое предложение, и с глубокомысленной серьёзностью спросила:
– А что будем делать с Бу?
– Расфасуем его по пакетам и бросим в пруд, – на ходу отозвался я, вспомнив наш недавний разговор.
– Никакого уважения к планете, – фыркнула Принцесса. – Зачем в пакетах‐то?
– В биоразлагаемых, детка.
– Не вариант. В процессе распада образуется микропластик, который отравляет воздух и воду.
– Fort bien[29]. Пусть планета тоже сдохнет.
Меня всегда вдохновляли пессимистичные фантазии о конце света. Есть в них сладостное эгоистическое успокоение. Умрёшь не только ты, умрут вообще все, ну здорово же, если посудить. Никто не останется в одиночестве, некому будет переживать потерю.
А у лифта нас встретила Нихиль. Она лежала на спине, вытянув лапы, выставив на всеобщее обозрение толстое пушистое пузо. И смотрела на мир томным похотливым взглядом порноактрисы.
– Ни стыда ни совести, – сказал я. – Ну и что с тобой делать?
– Придётся взять её с собой, – тяжко вздохнула Принцесса, стараясь изобразить неудовольствие. Но получалось плохо: кривить душой она не умела. Притворство – это штука, которой учишься всю жизнь, а девчуля, при всей её мозговитости, мало смыслила в хитросплетениях социальных игр. Интуиции недоставало. И опыта.
Я сделал умный вид и голосом строгого воспитателя заявил:
– Тебе больше всех надо – ты и тащи.
Нет, не думайте, что у меня окончательно поехала крыша. Я, конечно, разъебай, но не до такой степени, чтобы брать кошку в поход по всяким злачным местам. Условия мои были просты и однозначны: Нихиль идёт с нами только до тех пор, пока на пути не встретится какой‐нибудь приют. Отдадим её в сердобольные руки волонтёров, это самый разумный вариант.
Ну да, я так и сказал: «сердобольные руки».
– Это примерно как «душевный член»? – не преминула съязвить Принцесса, толкая подъездную дверь и пропуская кошку вперёд.
– Не придирайся к словам, зануда.
Солнце на мгновение ослепило меня, яркое, золотое, по-утреннему ласковое. Оно ещё не раскалило воздух, не покрыло город коростой жары, и всё вокруг: дома, тенты придорожных кафешек, деревья – казалось прохладным, чистым и умиротворённым. Тоска моя потихоньку таяла, и сердце становилось лёгким, будто воздушный шарик.
Наверное, что‐то похожее чувствует человек, когда умирает, подумал я. Но это была светлая такая, знаете, спокойная мысль. Вот Бу больше нет, и нас не будет, ну и заебись.
Оставалось только рыбкам хорошо сделать, чтобы не мучились в этой своей банке. Ха-ха, двусмысленно прозвучало, да? Но я вообще‐то не имел в виду, что их надо убивать. Моё дело маленькое: брошу рыбок в воду, а там пускай сами разбираются, хотят они жить или нет.
Впрочем, что‐то мне подсказывало, что у них тоже были склонности к суициду, как у хозяина. Откуда нам знать наверняка, есть ли у рыб сознание? Может, там целый мир, фантазии какие‐нибудь, мечты о блестящем остром крючке и сковородке, а люди даже не в курсе. Приходят такие с удочками и не слышат криков, раздающихся в воде: «Пожалуйста, выбери меня! Сил уже нет никаких, плавники болят, жена опять беременна, говорит, у нас будут дети, а я предыдущих ещё не доел».
Я думал об этом всю дорогу, пока мы шли до ближайшего пруда, но вслух не признавался: мне казалось, Принцесса не поймёт. Для неё всё должно было быть логично, обосновано, как в учебнике: пока не доказано, не ебёт, что сказано.
Прудик, кстати, был красивым, с тёмной, почти чёрной водой. Казалось, туда упало ночное небо, и россыпь звёзд, скользивших по поверхности, стала серебристыми бликами. Мне вдруг вспомнились слова Васиштхи – про разум, который не знает волнений, потому что спокоен, как тихая гладь.
Я устыдился своей несдержанности и сказал:
– Прости меня.
– За что? – удивлённо отозвалась Принцесса, и я понял, что произнёс это вслух. Но не стал признавать оплошность, только пожал плечами:
– Да за всё.
Извиниться никогда не бывает лишним, правда? Особенно если у тебя мерзопакостный характер, и ты по сто раз на дню ругаешься со всеми, в том числе с собственной шизофренией.
Принцесса вскинула бровь.
– Ладно. Я прощу тебя, если ты дашь мне выпустить рыбок.
– Бери, – согласился я, протянув ей аквариум. – Только смотри не урони. А то будет обидно, такая нелепая смерть, во второй раз я этого не переживу.
– Смерть не бывает нелепой, – с обыденным философским бесстрастием заявила Принцесса. – Она всегда одинаковая. Тебя может размазать асфальтоукладчик или взорвать какой‐нибудь фанатик, с точки зрения умирающего разницы нет.
Подумав, я хмыкнул:
– Ну как же? Ты можешь подыхать медленно и мучительно, а можешь ничего не почувствовать. Разница всё‐таки есть.
И почему, интересно, мы опять об этом заговорили? Неужели не существует других тем для беседы?
Можно, например, обсудить экологические катастрофы.
Можно выяснить, почему стремление познать мир в итоге привело людей к изобретению атомной бомбы.
Можно поболтать о религии, о всяких богах и ритуальных убийствах.
Блядь, да что ж такое?!
– Это не смерть, – сказала Принцесса, опустившись на корточки, – а то, что к ней подводит. Неважно, какова причина, результат для всех один.
И погрузила аквариум в толщу воды. Густо-чёрная, как смола, она подхватила рыбок и на несколько секунд вспыхнула огнём. А потом три искры, сверкнув в солнечных лучах, погасли, растворились, как будто их никогда и не было. По поверхности пруда прошла лёгкая рябь, исказившая блики, после чего всё снова стихло.
Рыбки уплыли в глубину, и мы не могли их разглядеть. Мне снова сделалось невыносимо грустно, навалилось тяжкое ощущение утраты. Я знал, что больше их не увижу, они скрылись навсегда в далёкой беспросветной темноте. Можно сказать, в каком‐то смысле перестали существовать – для нас.
Но ведь это было очень правильно, естественно. Красивые, свободные, недосягаемые создания, они не принадлежали никому, только самим себе. Не знали ни печалей, ни радостей – лишь безмятежность ледяной воды.
А мы? Что оставалось нам?
То же самое, если посудить.
Выпуск восьмой
Дети не умеют жить
Потом мы долго сидели на траве, глядя в пронзительно-синее небо, и солнце казалось ярким, как гигантский прожектор. Вообще‐то я его терпеть не мог: оно всегда жарило голову, раскалённым лезвием резало мысли. Оставались только обрывки, не связанные друг с другом образы – дикая дичь. Но сейчас лучи скользили по коже нежно, почти неощутимо, и это было даже приятно – подставлять им лицо.
Я сказал:
– Так красиво.
– Это же просто декорации, – безучастно отозвалась Принцесса. Она качала кошку на руках, как грудного младенца-переростка, и та всё норовила извернуться, высвободиться. Но её царственную задницу крепко держали в тисках – что за несправедливость!
– Декорации? – не понял я.
Ответа не последовало. Было видно, что девчуле не хотелось вести разговор. Её занимали какие‐то свои мысли, которыми она не спешила делиться. Похоже, ждала, когда я по привычке отвлекусь и забуду о вопросе, заткнусь и позволю ей и дальше наслаждаться молчанием.
Но не тут‐то было. Мне стало интересно, что она имела в виду, я не мог думать ни о чём другом. Вы, ребята, меня знаете: уж если что‐то засядет в башке, не успокоюсь, пока не докопаюсь до сути.
Я снова с нажимом уточнил:
– Декорации?
Принцесса с неудовольствием вздохнула.
– Ну да. Их расставляет Майя.
– А ты‐то откуда знаешь? – не унимался я.
Не то чтобы это было такое уж неожиданное, шокирующее суждение. Наоборот, оно казалось очень логичным: если есть всякие камеры и прослушки, значит, должны быть и декорации – обязательный элемент любого шоу. Но мне хотелось узнать, как Принцессе удалось докопаться до правды, что стало причиной открытия – ну, вы понимаете, все мы приходим к одним и тем же выводам разными путями. Не имеет значения, что у тебя получилось в результате, важно, как ты вообще до этого додумался. Что было в голове: причины, там, промежуточные итоги и так далее. Хотите узнать человека – проследите за ходом его рассуждений, выясните, что он чувствовал, пока искал истину. Короче говоря, расспросите о прошлом.
Ну вот, пожалуйста. Чтобы сформулировать эту простую мысль, пришлось опять засрать эфир словоблудием, ха-ха. Интересно, научусь ли я когда‐нибудь сразу высказываться кратко и по существу?
Даже не надейтесь, ребятки.
– Проводились определённые наблюдения, – голосом убеждённого эксперта сказала Принцесса, – в процессе которых выяснилось, что солнце, например, никогда не заходит. – Она прищурилась и ткнула пальцем в небо. Отчего обрадованная кошка, воспользовавшись удобным моментом, наконец‐то освободилась и спрыгнула в траву, уселась возле Принцессы, чтобы отмыться от невежливых прикосновений грязных человеческих лапищ. Но та, кажется, этого не заметила, её неожиданно увлекла речь: – Если на него смотреть целый день, можно узнать, что оно не движется по траектории, стоит на месте. А когда наступает ночь, его просто выключают, и всё. Не бывает ни восходов, ни закатов, вероятнее всего, это картинки из набора, которые…
Я не утерпел и перебил:
– Ты что, сидела и тупо на него пялилась?
– Да нет, не я, – с простодушной детской искренностью призналась Принцесса. – Я не такая умная, как ты думаешь. И мне бывает сложно сосредоточиться.
– Тогда откуда это?
– Брат рассказал. У него была теория, что мы живём в компьютерной симуляции.
– Раньше мне тоже так казалось, – хмыкнул я. – Носишь одни и те же шмотки, не выходишь за пределы локации, а при попытке задуматься о смысле жизни зависаешь, как энписи. Квесты одинаковые, диалоги всратые… Короче, реальность – это не про нас. Не удивлюсь, если наши реплики сочиняет вообще другой человек. Сидит и строчит от нехуй делать.
– Шука говорил, что реальности как таковой не существует в принципе, – снисходительно продолжила Принцесса. – Потому что мы не способны отделить её от своих представлений о ней. Бытие полностью зависит от нашего восприятия, а значит, его нет.
Ах вот в кого ты, детка, такая мозговитая, подумал я, ну теперь всё ясно. У вас там, походу, семейка пизданутых учёных, которые не высовывают носов из лаборатории.
А вслух сказал:
– Но мы же все знаем Майю. – И, глянув на беспечно разгуливающих по парку людей, поспешил добавить: – Ну ладно, не все. Но она же есть. Неважно, знаешь ты о ней или нет. Типа… – Я озадаченно почесал затылок, подбирая сравнение получше. – Какая разница, ты можешь думать, что живёшь где‐нибудь на Нью-Генезисе[30]. Но ты ж не станешь одним из Новых Богов – ну, объективно, имею в виду.
– Да, – кивнула Принцесса, хотя по её лицу было ясно: она ни хрена не поняла. Её, замороченную, вечно хмурую девчулю, интересовали серьёзные философские вопросы, Гегель какой‐нибудь или, вон, Спиноза, а не комиксы.
Я раскрыл было рот, чтобы пояснить, что имел в виду. Но она, не вдаваясь в смысл услышанного, сказала:
– Когда приехали люди Майи, Шука расстроился. Понял, что его солипсизм не очень‐то солипсический.
– Зубы, что ли, выбили? – хохотнул я.
– Ну нет, до этого не дошло. Но было кое-что похуже. – Принцесса замолчала и помрачнела. Солнечный свет, отражавшийся в её глазах, угас, сменился темнотой – непроглядной, как вода в пруду. – Они сожгли все его книги, дневники и наброски для диссертации, – с осмысленной холодной злобой сказала она. – А я тогда читала Чорана, «Силлогизмы горечи». Даже помню, на чём остановилась, последнюю фразу.
Мне очень ярко представился огонь, пожирающий буквы, уничтожающий человеческую мысль, – хорошо знакомое страшное зрелище. Когда у тебя сгорают вещи, ты теряешь не только их, но и самого себя. Какую‐то часть души, которая в них жила, отпечатки личности, оставленные во времени, не знаю, как ещё объяснить.
– Что за фраза? – спросил я, чтобы воскресить её воспоминания.
– «Если мы хотим реже испытывать разочарование и реже впадать в ярость, следует в любых обстоятельствах помнить, что мы явились в этот мир лишь для того, чтобы сделать друг друга несчастными», – отчеканила Принцесса. И, помолчав, добавила: – Я не знаю, что было дальше. Никогда больше не видела эту книгу. Хотела найти её в интернете, но каждый раз забывала.
Она поднялась, сцапала кошку и смерила меня требовательным взглядом.
– Всё, пошли уже.
– Куда? – страдальчески простонал я.
Мне хотелось сидеть тут целый день, болтать – обо всём на свете и одновременно ни о чём. На душе становилось легко, и прошедшая ночь, утренние тревоги казались далёкими и нереальными. Они растворялись, не оставляя после себя следов, – совсем как плывущие облака.
Или картинки из набора «летнее небо».
Или свет солнца-прожектора.
Или сны.
Но выбора не было, так что пришлось нехотя подчиниться и последовать за Принцессой.
– А неважно, – на ходу отозвалась она. – Куда‐нибудь мы обязательно попадём. Если, конечно, не остановимся на полпути.
– Это тоже Чоран сказал? – проницательно уточнил я, догадавшись, что девчуля швырнула мне в лицо очередной афоризм, который вычитала в одной из домашних книжек. Она так хотела сохранить память о них, что превратила голову в библиотеку.
– Нет, Чеширский Кот, – в её голосе послышалось снисхождение, с каким обычно говорят со слабоумными.
Я стиснул зубы, но промолчал – чисто из уважения к подростковому апломбу. Она любила говорить свысока, в такие моменты ей становилось смешно. А мне нравилось наблюдать за этими вспышками спесивого веселья, они делали Принцессу очень забавной и милой, похожей на маленькую гордую королевишну, уверенную в собственном великолепии. Короны вот только не хватало. И какого‐нибудь звучного пафосного имени.
– Слушай, – вдруг спохватился я, – а как тебя зовут‐то вообще?
Очень вовремя, правда? И почему я не додумался поинтересоваться раньше? Наверное, как‐то сразу свыкся с мыслью, что она Принцесса, ей шла эта незатейливая кличка.
– А какая разница? – В глазах у неё мелькнуло удивление. – Ты всё равно не будешь звать меня по имени. Язык сломаешь в четырёх местах.
Я рассмеялся:
– Детка, моя шизофрения представилась Васиштхой, так что я уже ничему не удивлюсь. Ну, если только тебя не назвали в честь какого‐нибудь монстра из вселенной Лавкрафта – тогда да, будет сложновато.
– Почти. Анна-Мария-Роза-Элеонора, – с каменным лицом сказала Принцесса.
Я решил, что она меня разыгрывает, и снова расхохотался. Но губы у неё по-прежнему оставались плотно сжатыми, так что моё веселье резко улетучилось.
– Чё, серьёзно?
– Ага. Мама никак не могла определиться.
– Как‐то длинновато… А если покороче? Ну, у тебя же должно быть какое‐то домашнее имя. Вот, например, у меня был один знакомый, Амадей, типа как Моцарт. Но все звали его Дей. «День» по-английски, очень круто, символизм и всё такое. – Я остановился и заглянул ей в лицо. – А ты кто? Роза?
– Принцесса, – тем же ледяным тоном сказала она. – Мне нравится обезличенность. Я дистанцируюсь от имени, смотрю на себя со стороны. Это помогает наблюдать за своими действиями как за чужими и давать им непредвзятую оценку. – Она помолчала и поинтересовалась: – А тебя правда зовут Реми?
– Спасибо, блядь, что не Жоффруа, – мрачно отозвался я. – Иначе пришлось бы вешаться. У maman…
Тут взгляд мой упал на выставочное окно книжного магазинчика, который располагался на выходе из парка, и я забыл обо всём на свете, в том числе о беседе.
Там, на обмотанных гирляндами полках, стояли разноцветные книжки, журналы, буклеты – куча всякой такой фигни. В глаза мне бросилась ярко-синяя глянцевая обложка с крупной жёлтой надписью «Дети не умеют жить».
– Обалдеть! – Я так обрадовался, что едва не подпрыгнул на месте. – Двадцатый эпизод!
О, ребята, вы не знаете этот комикс? Гениальная вещь. Хотите или нет, я расскажу, в чём там замес. Уж извиняйте, придётся потерпеть.
В общем, главные герои – старшеклассники со сверхспособностями. Никого такой хернёй не удивишь, да? Я уже вижу ваши снулые рожи. Штамповка, банальщина, скажете вы и потянетесь за пультами – переключить канал. Но погодите, не торопитесь, дайте мне договорить.
Фишка в том, что детки не сражаются со злом, не пытаются спасти мир – нет, ничего подобного. Силы у них на самом деле дурацкие и бесполезные. Вот, например, один из чуваков, Анархист, мечтает свергнуть правительство, но единственные, кто готов ему помочь, – ленивцы, которых он может контролировать. Так себе умение, да? Попробуй устрой революцию, когда все твои бравые воины спят по двадцать часов в сутки.
Или вот Трезвенник. Он умеет превращать любой алкоголь в воду. Такой, знаете, Иисус наоборот. Его ненавидят все бармены в радиусе ста километров. Живи он во времена «сухого закона», был бы главным героем, грозой подпольных самогонщиков. Но, увы, родился не в то время не в том месте.
А как вам Соблазнитель? Ему достаточно посмотреть на девок – и те уже текут, штабелями падают к его ногам, только и думают о том, как бы с ним трахнуться. Классная же штука, возразите вы, очень полезная. Ну да, не спорю, я б не отказался. Вот только пацанчику это в хуй не впёрлось, потому что он вообще‐то гей.
Короче, супергерои-неудачники пытаются найти своим способностям хоть какое‐то применение, испытывают кризис идентичности, если говорить по-умному, и ощущают нелепость жизни. Но всё не так уж плохо, у них есть кое-что действительно важное: дружба и взаимоподдержка. Они помогают друг другу, и мир становится чуточку менее бессмысленным.
Ну, вы поняли. Мне хотелось прочитать свеженький эпизод «Детей», а Принцессе – найти «Силлогизмы горечи», так что мы, конечно, зашли в этот магазинчик.
Внутри пахло почему‐то не типографской краской, а лекарствами, как в аптеке. Пол, стены, сами стеллажи, заставленные книгами, – всё сверкало больничной белизной. На кассе сидела загорелая девица в медицинском халате и, надувая большой розовый пузырь из жвачки, читала какой‐то роман в мягкой обложке. Пол-лица закрывали солнцезащитные очки, и выглядело это, надо признать, странновато. Но, может, у неё выдалась тяжёлая ночка с кучей бухла и амфетаминов, откуда мне было знать?
– А где у вас Чоран? – спросил я, чтобы увериться в том, что мы не перепутали двери, зашли куда надо.
– В отделе противорвотных, – отозвалась она, не поднимая головы. – Третий стеллаж слева, пятая полка снизу, рядом с Сартром.
– А комиксы?
– Там же, где и вся гомеопатия. В конце зала.
Нормально нас обосрали, да? Я растерянно почесал затылок и обернулся к Принцессе. Она, держа кошку на руках, стояла возле витрины с сувенирами – там были всякие магниты, закладки, рамки для фотографий, значки, и надо всем этим благолепием алел растянутый транспарант с надписью «Витаминные добавки».
– С ума сойти, – сказал я. И опёрся локтями о столик, за которым сидела кассирша. Подался вперёд, заговорщически понизив голос: – А вы не охренели, а? Почему гомеопатия‐то?
Принцесса посмотрела на меня как на полоумного:
– Потому что от комиксов никакого толку. Их покупают одни идиоты.
Тут я, конечно, вспылил:
– Nique ta race![31] Чё ты понимаешь вообще?!
Вот знаете, ребятки, меня всегда бесил этот расхожий стереотип. Если человек читает комиксы – значит, он débile profond[32], других вариантов быть не может. А я считаю, так говорят только те, кто ни хрена не смыслит в искусстве, ставит форму выше содержания. Ещё скажите, что работы какого‐нибудь Уилла Айснера или Алана Мура – это дегенеративные картинки для умственно отсталых, ну-ну.
Короче, пререкаться я мог бы до вечера, вы меня знаете. Но плюнул и умотал в конец зала, оставив Принцессу наедине с её противорвотными философами. Ладно, нельзя же запрещать человеку иметь вкусы, отличающиеся от твоих, правда?
«Дети» стояли на самом видном месте – на одной полке с муровской «Лигой выдающихся джентльменов», кстати. В предвкушении наслаждения я провёл ладонью по глянцевой обложке, бережно погладил корешок. И подумал, что многие книги действительно очень похожи на лекарства. Яркая сладкая оболочка, а внутри – горький порошок. Он вроде помогает, облегчает боль, но у него куча побочных эффектов, начиная с тошноты, заканчивая спутанностью сознания.
Я плюхнулся в кресло, стоявшее в углу. О, знаете это чувство восторженного трепета, когда готовишься ко встрече с чем‐то прекрасным? Меня захватило именно оно. Я раскрыл журнал – бережно, словно шкатулку с сокровищами. И не сразу понял, в чём дело.
Со страниц смотрела чернота. На них не было ни одной картинки или надписи – лишь пустота. Восторг сменился разочарованием – быстро, будто щёлкнул невидимый переключатель.
– Ну что за срань?! – От нахлынувшей обиды я едва не разрыдался. И подхватился, широким размашистым шагом направился обратно к Принцессе.
Она сидела на сияющем белизной полу и в недоумении листала красный томик, водя пальцем по строчкам, словно пыталась нащупать что‐то важное. Её так увлёк процесс, что она не обращала внимания на Нихиль, которая разгуливала вдоль стеллажей и настороженно принюхивалась к стоящим на полках книгам, шевеля усами.
– Ничего не понимаю, – в голосе Принцессы послышалось смятение. – Тут везде одно и то же. Издеваются, что ли?
В любопытстве я заглянул ей через плечо. И правда, на всех страницах, как мантра, повторялась та самая мрачная цитата:
Если мы хотим реже испытывать разочарование и реже впадать в ярость, следует в любых обстоятельствах помнить, что мы явились в этот мир лишь для того, чтобы сделать друг друга несчастными.
Если мы хотим реже испытывать разочарование и реже впадать в ярость, следует в любых обстоятельствах помнить, что мы явились в этот мир лишь для того, чтобы сделать друг друга несчастными.
Если мы хотим реже испытывать разочарование и реже впадать в ярость, следует в любых обстоятельствах помнить, что мы явились в этот мир лишь для того, чтобы сделать друг друга несчастными.
И так до самого конца, до триста девятнадцатой страницы.
– Это ещё что, – сказал я, раскрыв свой журнал, – у тебя хоть какая‐то определённость.
Принцесса склонила голову набок и вгляделась в черноту. В ней, как в затемнённом зеркале, отразилось её лицо – юное, мертвенно-белое, со сведёнными к переносице бровями.
– Действительно гомеопатия, – вынесла вердикт она. – Одно большое ёбаное ничего.
Васиштха сказала:
– Субъект существует потому, что имеется объект, а объект представляет собой отражение субъекта: двойственности не может быть, если нет единого, и разве есть необходимость в понятии единства, когда кроме него ничего нет?
Я пересказал эти слова Принцессе – ей вроде нравились такие штуки. Она с интересом поглядела на меня и спросила:
– То есть она имеет в виду, что я пессимистка, а ты необразованная темнота?
– Глупец непочтительно задаёт не относящиеся к делу вопросы, и ещё больший глупец тот, кто презрительно отвергает мудрость мудрого.
– Говорит, мы оба дебилы, – перевёл я.
– Надо узнать у провизорши, – предложила Принцесса, поднявшись. – Может, книги просто бракованные.
Та выслушала нас без намёка на интерес. Надула очередной розовый пузырь и жестом потребовала журнал. Я обратил внимание на её пальцы – тонкие, длинные, с заострёнными, накрашенными жёлтым лаком ногтями. Она провела ими по непроницаемо чёрным страницам и, приспустив очки на кончик носа, пожала плечами:
– Да, наверное, ошибка в типографии.
Тьма вдруг вздрогнула, потревоженная её прикосновениями, пошла рябью и расступилась. Рассеялась, как дымка.
– Oh, merde, – сказал я. И инстинктивно сделал шаг назад.
Только сейчас мне стало ясно, почему кассирша носила тёмные очки. Под ними скрывались прозрачные, будто стекло, глаза. Удачненько мы зашли, да? Надо было догадаться раньше, нет же, разинули рты, как два олуха.
